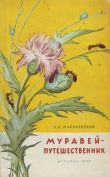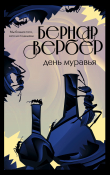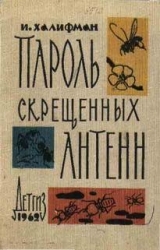
Текст книги "Пароль скрещенных антенн"
Автор книги: Иосиф Халифман
Жанры:
Биология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Из трех названных форм именно поликтена и представляют собой наиболее усердных и надежных защитников леса от вредителей.
Но эти защитники сами, как выяснилось, нуждаются в систематической защите или, по крайней мере, хотя бы в покровительстве, которое поддержало бы их в борьбе за существование.
Выше уже шла речь о разных врагах муравьиных гнезд вообще.
Сейчас можно еще раз, но уже применительно к Формика, вернуться к тому же вопросу и напомнить, что дятлы и некоторые другие зимующие в наших широтах лесные птицы прорывают под куполы муравейников глубокие ходы и, пробравшись к муравьиному клубу, до отвала наедаются муравьями. Голодные барсуки и лисы тоже не гнушаются этим способом охоты, хотя, разрывая муравейники, пожирают главным образом зимующих здесь жирных личинок жука-бронзовки и всех прочих «квартирантов» муравейника. Гнезда Формика повреждаются и другими лесными тварями, которые иной раз не столько муравьев поедают, сколько губят: развороченные купола чаще промерзают зимой насквозь и чаще до дна затопляются весной талыми водами. Даже летом муравьи нередко погибают под поврежденным куполом, где им значительно труднее поддерживать тепло и влажность, необходимые для развития новых поколений.
Впрочем, по единодушному мнению всех сведущих специалистов, больше любых пернатых и четвероногих досаждают и вредят лесным муравьям люди, промышляющие сбором «муравьиных яиц» (куколок в коконах) для кормления птиц или собирающие живых муравьев для изготовления домашними средствами муравьиного спирта, не говоря уже о тех, кто повреждает и разрушает гнезда совсем без смысла и цели, только для того, чтобы позабавиться зрелищем великой муравьиной суматохи на развороченном куполе. А ведь стоит только раз потревожить семью, даже не очень сильно разрушив муравейник, как его обитатели во многих случаях переселяются на другое место, где они не скоро еще наберут силу и не сразу начнут вновь приносить пользу для леса.
Именно по этой причине первая помощь лесным муравьям состоит в защите гнезд наиболее ценных видов. Купола с осени прикрывают мелкоячеистыми (из проволоки или капроновой нити) сетчатыми двухскатными кровлями, или четырехгранными пирамидами, или, в крайнем случае, если ничего лучшего нет, просто сухим хворостом. Эти сооружения прикрепляют к земле колышками или скобами. Как выяснилось, хищные птицы и звери чаще всего просто не узнают муравейники, замаскированные таким образом. Укрытые сухим хворостом или спрятанные под пирамидой гнезда остаются неповрежденными и благополучно перезимовывают. Весной с них аккуратно снимают укрытие, следя при этом за тем, чтобы не разрушить купол.
Само собой разумеется, что надо беречь муравейник еще и в течение лета.
Но окупаются ли такие затраты сил и средств?
Профессор Марио Паван – руководитель кафедры лесной энтомологии в старинном университете в городе Павиа – в течение нескольких лет проводил с помощью полутора тысяч лесников и лесоводов из пятисот лесничеств Северной Италии сплошную перепись муравейников группы Формика. В каждом случае устанавливается вид муравьев, для чего иногда приходилось анализировать не только внешние приметы и поведение рабочих особей, но также и крылатых самцов, что очень помогает в определении. Регистрировалось, кроме того, время, когда муравейник роится, оценивалась сила семьи, ее состояние...
Можно смело сказать, что опытов муравьиной этнографии в подобных масштабах никто и никогда нигде еще не предпринимал.
На обследованной площади – свыше полумиллиона гектаров – было обнаружено и взято на учет около миллиона гнезд Формика. Среди них, однако, совсем немного оказалось гнезд Формика поликтена, а в некоторых районах муравейники этого вида и вовсе не были обнаружены. Сравнительно много выявлено было гнезд Формика лугубрис – тоже очень полезного муравья, хотя и уступающего поликтена, но весьма усердного в истреблении вредных насекомых. Одновременно выяснилось, что больше всего в лесах муравьев Формика нигриканс, наименее пригодных для борьбы с различными вредителями леса.
Пока шла перепись, профессор Паван с помощниками был занят серией кропотливых исследований, выводы из которых очень пригодились ему к тому времени, когда учет муравейников был закончен. На основе этих исследований ученый и пришел к заключению, представляющему интерес и отвечающему на вопрос, могут ли окупиться затраты на охрану муравьиных гнезд.
В лесных муравейниках Северной Италии на площади 570 тысяч гектаров живет примерно 2400 тонн муравьев. Средний вес муравья (имеются в виду рабочие особи) не превышает 8 миллиграммов. Вес корма, потребляемого за день рабочей особью, составляет примерно одну двадцатую веса самого насекомого. Из этого нетрудно заключить, что муравьи взятого под наблюдение района ежедневно съедали почти 120 тонн. В Северной Италии фуражиры муравьиных гнезд активно собирают корм в течение примерно 200 дней в году, так что всего за год они доставляют в муравейники не менее 24 тысяч тонн корма, каждая из которых на 60 процентов состоит из живых насекомых, в основном вредителей лесных пород – гусениц, куколок, имаго сосновых совок, непарных шелкопрядов, монашенок, пилильщиков, пядениц и прочих губителей леса.
Итак, для поддержания жизни и нормального развития муравейники ежегодно уничтожают не менее 10 тысяч тонн живых вредителей. Кто высчитает, сколько сот тысяч тонн древесины сохраняется благодаря этому от порчи и уничтожения?
Итальянские лесоводы не ограничились одними упражнениями в теоретических расчетах, а перешли от них к своим географическим картам размещения муравейников, выявили районы ценного леса, хуже всего обеспеченные муравьиной стражей наиболее надежных видов, и, в конце концов, разработали общую схему и детали стратегического плана операции «Формика».
Если принять во внимание, что здесь использовалось муравьиное население гнезд, оцениваемое в 300 миллиардов рабочих особей, есть основания признать эту операцию грандиозной.
Прежде всего были выявлены наиболее сильные гнезда, расположенные не слишком далеко от дорог, подготовлено техническое оснащение (проще говоря, лопаты, сделанные в виде большой треугольной ложки, и легкие, плотно закрывающиеся фанерные ведра, емкостью на один гектолитр каждое); проинструктированы кадры...
В один прекрасный день сотни лесников вышли звеньями по два человека со своими треугольными лопатами и гектолитровыми ведрами к намеченным муравейникам, быстро заполнили ведра содержимым живых гнезд Формика лугубрис и поликтена и, закрыв ведра крышками, на коромыслах поднесли их к проезжим дорогам, откуда автомашины свозили их на базы.
В тот же час все ведра погружали на большие автоплатформы и отправляли в заранее намеченные места, где их встречали новые сотни лесников, которые тоже звеньями по два человека развозили по лесным дорогам и разносили на коромыслах к намеченным точкам муравьев, высыпая содержимое двух ведер, то есть двести литров массы, через каждые полсотни метров.
Расселение производилось из расчета четыре муравьиных гнезда на один гектар.
Гнезда муравьев наиболее полезных видов расселялись таким образом в новые районы, в леса другого состава, за сотни километров от места их естественного происхождения (в одном случае даже за тысячу километров к югу!).
Последующие наблюдения и исследования показали, что переселенные муравейники уже через год-два жизни на новом месте начинают заметно сдерживать развитие даже таких опаснейших вредителей леса, как сосновый походный шелкопряд.
Разумеется, не все проходило гладко. Часть переселенных гнезд не прижилась, другие долго хирели, но многие, попав в новые условия, изменили присущий виду способ сооружения гнезд и, применяясь к незнакомой обстановке, привели муравейники в порядок, разместили как следует маток и расплод, начали наращивать купола и рассылать своих фуражиров, которые с рассвета до заката обследовали округу и отовсюду стаскивали в гнезда личинок, куколок, имаго.
Укрощение строптивых
Организатором и генеральным штабом операции «Формика» была, как уже говорилось, кафедра лесной энтомологии университета в городе Павия во главе с профессором Марио Пазан. Но здесь нельзя не сказать, что идейным вдохновителем и научным советником этой операции был вюрцбургский профессор и руководитель института прикладной зоологии профессор Карл Гэсвальд, человек, узнавший о муравьях Формика больше, чем кто-либо другой на Земле не только сегодня, но и когда бы то ни было в прошлом.
Давно уже, еще в конце XIX – начале XX века, трудами швейцарского ученого Августа Фореля, немцев Карла Эшериха, Эриха Вассмана и Вильгельма Гетча, американцев Вильяма Вилера и исследователя кочевых видов Т. Шнейрла, англичан Джона Леббок и Г. Донисторпа, французов Ш. Эмери и Альберта Ренье, исколесивших чуть ли не весь мир для изучения муравьев, русских В. Караваева, Г. Эйдмана, М. Рузского и множества других, которых здесь нет возможности назвать, из общей науки о насекомых выделилась специально посвященная муравьям новая ее ветвь – мирмекология. Что касается Карла Гэсвальда, то он стал основателем новой, специальной ветви мирмекологии, он положил начало науке о Формика.
Всю жизнь потратил Гэсвальд на исследование этой группы муравьев. Свои опыты он проводил в лаборатории и в природе; годами наблюдал зарождение, рост и развитие гнезд, шаг за шагом, осторожно продвигаясь вперед в лабиринтах тайн разных видов Формика, овладевал секретами опознания и различения всех видов, совершенно неразличимых для непосвященных; раскрывал законы существования и формирования отдельных особей и целостных семей; прослеживал влияние на них окружающей среды и, наоборот, их влияние на среду. Опыты, статьи и устные выступления Гэсвальда, его учеников и помощников веско доказывали, что лесные муравьи – это верный друг и благодетель лесов, неусыпный и старательный защитник лесных пород от всякого рода вредителей. Наряду с этим Формика приносят – об этом пока мало кто слышал – неоценимую пользу лесу и человеку еще и тем, что улучшают почвы, обогащая их органическими веществами, повышая их плодородие, усиливая проникновение в них воздуха, регулируя поверхностное водоснабжение. Кроме того, они обогащают на участках, окружающих гнезда, флору, регулируют ее состав, способствуют существованию растений, которые поддерживают жизнеспособность леса и в конечном счете тоже продлевают его долголетие.
На протяжении многих лет вюрцбургский формиколог с неисчерпаемым терпением, педантично подсчитывая все до пфеннига, втолковывал детям и взрослым, что доходы, доставляемые сбором куколок для кормления певчих птиц, услаждающих слух любителей чириканья, или сбором живых муравьев для изготовления из них муравьиного спирта, которым натирают суставы, пораженные ревматизмом, ничтожны по сравнению со стоимостью ущерба, причиняемого лесу разорением муравейников. И он взывал к расчетливости, уму и совести своих сограждан, уговаривая, упрашивая, умоляя их беречь муравейники.
Когда Западную Германию оккупировали американские войска, тот же вюрцбургский формиколог не стеснялся выступать с обличением заокеанских солдафонов, которые во время учений сокрушают и калечат танками и броневиками деревья и подлесок, утюжат, сравнивают с землей муравейники, прокладывая дорогу упадку и запустению лесов.
Не эти ли бессмысленно разоряемые муравейники и подсказали Гэсвальду мысль о том, что нельзя далее ограничиваться одной только охраной существующих гнезд, что для возмещения ущерба, наносимого муравьиному населению лесов, требуется искусственное их расселение, а может быть, и искусственное размножение наиболее ценных видов.
Но Формика оказались довольно строптивыми созданиями и долго отказывались открыть человеку тайны своей биологии. О том, как это было все же сделано, рассказывается далее в краткой истории работ опытной станции в Эберсвальде, где Гэсвальд организовал первую в мире муравьеводческую ферму.
Сначала здесь попробовали ранней весной, едва семьи просыпаются и муравьи (самки и рабочие) начинают отогреваться на солнце, брать их с купола и создавать из них отводки. Здесь важно не опоздать, так как самки очень рано уходят в нижние отсеки гнезда, а без самок, из одних рабочих, отводки нежизнеспособны. Впрочем, подобным способом муравьиные семьи размножаются медленно.
Пришлось заняться массовым выведением маток, способных основывать новые семьи.
Это выдвигало столько задач, что даже неясно было, с чего лучше начинать. Во-первых, потребовалось получать достаточное количество молодых самок лесных Формика, затем следовало научиться отправлять их в брачный полет, причем к тому же времени требовалось иметь и самцов, что тоже не само собой делается, так как у лесных Формика самки и самцы из одного гнезда выходят в разное время. Да еще предстояло каким-то образом собирать самок после брачного полета...
И все это было пока только полдела.
Ведь для того чтобы каждая молодая самка Формика после брачного полета начала откладывать яйца, ей требуется живое гнездо. Откуда же брать их? Правда, матки могут начать откладывать яйца и в безматочных муравейниках. Но какой же смысл создавать безматочные муравейники, чтобы подсаживать в них маток?
Круг, таким образом, замыкался... Впрочем, в подобных случаях полезно, как показывает опыт, не только продумывать вопрос, но и прощупывать его. Хоть иной раз глаза страшатся, а руки пусть все-таки делают, ибо практика на каждом шагу подсказывает решения, ведет к цели.
Самцы и самки лесных муравьев выходят из одного гнезда врозь, но из разных гнезд одновременно, причем из одних гнезд выходят самцы, из других – самки. Благодаря такому природному приспособлению и происходит перекрестное оплодотворение Формика. Вот это приспособление и удалось использовать для решения задачи.
Купола муравейников стали прикрывать емкими колпаками-воронками, с небольшим отверстием в самой вершине, где пристраивали стеклянную ловушку. Когда во время роения из муравейников вылетают где самцы, где самки, ловушки их задерживают.
Так можно в короткий срок получить сколько угодно молодых крылатых насекомых. Из ловушек их выпускали в простенькие, огороженные густой кисеей клетки. Поскольку самцов вылетает во время роения больше, то их и выпускали под сетку в несколько раз больше, чем самок.
Станут ли, однако, муравьи совершать брачный полет в неволе? Да, стали!
Правда, не сразу. Оказалось, насекомые совсем не переносят сухости воздуха в нагревающихся на солнце клетках. Это тоже как-то связано с тем, что брачные полеты происходят чаще всего сразу после дождей... Пока почву под клетками как следует не увлажняли, муравьи не делали попыток летать.
Теперь сухость воздуха здесь устраняют очень легко: дно клетки выстилают плитками торфа и, обильно полив их, прикрывают мульчой из хвойных игл.
Это выстрел по двум мишеням, и выстрел с двумя попаданиями. Влажность воздуха вызывает тысячи крылатых Формика в полет под кисейными стенками клеток. Самцы после полетов погибают, и тела их сплошным слоем покрывают хвойную мульчу. А облетевшиеся самки разгребают тела самцов и хвою, пробуя зарыться в торф, откуда их без труда собирают и помещают в обыкновенные бутылки, по двести штук в каждую.
Облетевшиеся самки представляют собой как бы живое, всхожее семечко и способны заложить новую колонию. Однако если это семечко бросить куда попало и как попало, оно не взойдет. Ведь оно похоже на кедровый орех, который лучше всего прорастает и развивается на месте сгнившего кедрового пня. В бутылках сотни молодых самок. И думать нечего, чтобы всем им предоставить безматочные муравейники.
Что такое безматочный муравейник? Это, конечно, само сооружение с обитающими в нем рабочими муравьями и молодью – личинками, куколками.
А может быть, самке, чтобы начать откладывать яйца и стать маткой, необязательны и сооружения, и муравьи, и личинки?
Не удовлетворится ли она лишь муравьями, потому что строительный мусор, очевидно, не заменит сооружения, а одни только личинки и куколки вряд ли заменят живое гнездо?
Точнее всего отвечают на подобные вопросы сами муравьи. Требуются, короче говоря, простые опыты, которые звено за звеном, шаг за шагом проверили бы правильность разных предположений.
И вот ответ: ни строительный мусор, ни грунт из подземных отсеков гнезда, ни личинки, ни куколки самке не требуются. Ей нужны только рабочие муравьи, однако не один, и не десяток, а по возможности больше. Эффект группы и здесь, как видим, сказывается.
Среди двухсот литров массы, взятой из живого муравейника, молодые самки скоро начинают откладывать яйца, причем смонтированные таким образом гнезда быстро входят в силу. Спустя какое-то время становятся заметными признаки жизни новой семьи, а вскоре по дорогам, ведущим к растущему куполу, начинают стягиваться цепи фуражиров с грузом сладкого корма от тлей с ближайших деревьев и вереницы охотников, волокущих личинок, трупы выпитых гусениц, части тела насекомых.
Этим способом на опытном участке были заложены первые десятки новых – в настоящее время процветающих – муравейников.
Так родилась служба биологической охраны леса от вредителей.
Но едва стал накапливаться практический опыт разведения лесных муравьев, сразу стало ясно, что не все расы одинаково пригодны для истребления вредителей. Оказалось, что даже у самого исправного охотника за насекомыми всех видов – у Формика поликтена – не все семьи одинаково хороши как охотники.
Семьи, оказывается, кое в чем важном различаются: одни воинственнее, другие – потише; даже по способу охоты семьи тоже разнятся.
Но в таком случае возможен отбор подходящих форм? Значит, есть смысл приниматься за выведение лучших пород муравьев Формика?
Сеть муравейников закладывается в лесу посевом бутылок, размещаемых по квадратно-гнездовой схеме. Бутылки с искусственно выведенными молодыми самками и отводки муравейника – вот, в сущности, все, что требуется для сохранения леса от совок, листоверток, пилильщиков, пядениц и других вредителей. Зеленеющие кварталы могучих лесов и горы деловой древесины, отвоеванной у вредителей, несет с собой эта новая, маленькая, но ценная победа науки.
Как всегда в таких случаях, это только начало, только первый маленький шаг по новому пути. Рыжий лесной муравей Формика поликтена успешно ликвидирует миллионы различных насекомых – вредителей леса, но не пригоден для того, например, чтобы уничтожать другие виды муравьев. А ведь и среди них есть немало таких, от которых человеку неплохо бы избавиться. Вспомним, к примеру, вредящих посевам жнецов, несноснейших Формика руфибарбис, Тетрамориум цеспитум, о которых не зря сказано, что это неистребимые породы.
Для уничтожения вредных муравьев тоже нашлось средство: муравей Соленопсис фугакс – вредитель муравьиных. Это мельчайшие муравьи, обитающие в гнездах крупных, где они неуязвимы именно вследствие своих мелких размеров и большой быстроты движений. Соленопсис не просто объедают муравьев, в чьих гнездах живут, но и пожирают их личинок.
Это не нахлебники, а паразиты; едва появившись в гнездах муравьев многих видов, они, как правило, быстро подсекают благополучие муравейников и приводят их к преждевременной гибели.
Но разве муравьи пригодны только для истребления разных вредоносных насекомых? Они влияют ведь и на почвообразовательный процесс. Чарлз Дарвин прямо указывал, что в образовании почвы участвуют не одни только дождевые черви, но и все вообще копающиеся животные различных видов, и, как он писал, «главным образом муравьи».
Роль муравьев в образовании почвы признавали и многие советские ученые.
Трудно сейчас загадывать, как могут быть использованы все эти знания. Еще очень небогат опыт заселения молодых полезащитных полос муравьями Формика, но он позволяет предвидеть, что при разведении леса в степных районах муравьи могут быть полезны и в борьбе за лес, и в борьбе за урожай.
О чем говорят янтарь и бутыль с муравьями формика
Приходилось ли вам брать в руки муравья, который бегал по земле за миллионы лет, точнее, за десятки миллионов лет до того, как на ней появился человек?
Сколько мыслей и чувств будит одно прикосновение к прохладному обломку янтаря, внутри которого сквозь влажное мерцание золотого тумана чернеет крохотным силуэтом прапращур современных мурашек. Никаких сомнений нет: это муравей. Его нельзя не узнать. Во всяком случае, с первого взгляда он ничем не отличается от множества тех сегодняшних муравьев, мимо которых каждый из нас с весны до осени бесчетное число раз проходит, не видя их, и которых нередко походя топчет, не замечая того.
В раздумье поворачиваешь обломок то одной стороной, то другой, пробуя проникнуть взглядом в глубь почти прозрачного куска минерализованной смолы, как если бы в нем была заключена сама вечность, само небо с россыпями звезд, все миры – дальние и близкие, живые и минувшие, знакомые и неведомые.
Десятки миллионов лет до появления человека!..
Но для того чтобы проникнуться сознанием значительности открывшегося, знакомство с муравьем необязательно начинать через памятник, в котором спрятано сбереженное от времени свидетельство астрономического возраста этой букашки. Достаточно снова вспомнить историю с флаттером, способ предупреждения которого существовал в утяжеленной кромке переднего крыла задолго до того, как люди стали летать.
Кто предскажет, сколько таких и более неожиданных открытий принесет дальнейшее изучение насекомых, в которых строение и действие каждой клетки отшлифованы десятками миллионов лет естественного отбора? А ведь каждый самый маленький успех, каждый шаг вперед в изучении всего тела, отдельных органов, особенностей микроскопического строения любой ткани, даже просто повадок вновь и вновь открывают неизвестное.
Что касается муравьев да и других общественных насекомых, то здесь ученых ожидают особенно важные открытия. Здесь еще много «белых пятен», и как раз в области, касающейся тех свойств и отличий, которые собирают и сплачивают тысячи и тысячи особей в целостную семью.
На чем основаны эти свойства муравьиной природы? Что их питает? Как они развиваются и к чему направлены? Наука вплотную подошла к исследованию этих вопросов, над которыми человек давно задумывается и на которые давно ищет ответа.
Народные сказки, поговорки и другие литературные памятники давней старины в некотором отношении подобны обломку янтаря с муравьем. Они тоже в драгоценной оправе доносят до нас осколки минувших эпох. Но здесь это кристаллы мудрости, отпечатки мыслей, рожденных в незапамятные времена. Что же говорят о муравье эти памятники прошлого?
Через библиотеки разных стран мы собирали пословицы и списки сказок, посвященных муравью.
Здесь найдено много простых и сложных, будничных и героических, искрящихся смехом и замутненных слезой повестей и иносказаний. Но во всех открывается в конце концов одна и та же история: история о человеке, который до седой головы ищет дорогу к сердцу муравейника.
Ему ничего не нужно, кроме ключа, которым заводится муравьиная суматоха, только о нем он думает.
Здравые, рассудительные люди сочувствуют чудаку, жалеют его, уговаривают или годами вышучивают и высмеивают простодушного искателя, отказывающегося от обычных дел и все продолжающего пасти своих муравьев и выспрашивать у них ответы на их неразгаданные тайны.
Однако наступает час, когда все здравые и рассудительные люди оказываются беспомощными, не могут справиться с трудностями, один за другим выбывают из игры, а победителем, как всегда бывает в сказках, становится именно простодушный, верный делу своей жизни. На помощь ему приходят из-под земли неисчислимые друзья.
Он столько подбирал ключи к катакомбам мурашек, что теперь легко сюда проникает и встречает здесь союзников, с которыми решаются все задачи, преодолеваются все препоны, разгадываются все загадки.
...Юноша, не побоявшись страшной грозы, покинул кров, чтобы погасить зажженный молнией куст. Смельчак спасал куст необычный: под ним скрывался волшебный муравейник. Прошли годы, а бесчетное население подземного города, избавленного от огня, не забыло своего спасителя. В трудную пору разыскали его муравьи. Заточенный палачами в подземелье, он погибал от голода и жажды, И вот засновали черные цепи через крепостные валы и стены, и, незамеченными, день и ночь стали муравьи по капельке доставлять обреченному узнику ключевую воду и медвяную росу, тогда как другие, созванные по тревоге со всей округи, прорывали выход из подземелья... И вот герой на воле...
Слабый и крохотный муравей наделен в сказках волшебной силой, он способен совершать деяния, недоступные другим, неизмеримо более сильным и крупным созданиям природы.
Муравьи, о которых складываются сказки, самыми неожиданными способами помогают своему герою. Они способны обезвреживать тех, кто замышляет против него недоброе. Они могут темной ночью отпилить ноги у ядовитого скорпиона, подрезать крылья у хищного ястреба, забрызгать ядом глаза бешеного волка... И они же днем, читая призывы звезд, могут вывести героя, заблудившегося в пустыне среди зыбучих песков, указать ему дорогу к источнику с живительной влагой.
Муравьи, о которых сказки сказывают, и от беды избавляют, и врагов наказывают, и добродетель вознаграждают...
А сколько наряду с такими сказками-повестями сложено у разных народов коротких притч, в которых действуют муравей и солнце, муравей и снег, муравей и кузнечик, муравей и стрекоза, муравей и фазан, муравей и голубь, муравей и крыса, муравей и кот, муравей и муха, муравей и ворона, и собака, и мышь, и сверчок, и орел, и аист, и тигр, и пчела, и рыба, и жук, и муравьиный лев, и просто лев... И сколько есть многозначительных басен, в которых речь идет о муравье и ребенке, о муравье и старике, о муравье и царевиче, о муравье и нищем, о муравье и святом, о муравье и разбойнике...
На разные лады преподают и внушают они одну мораль, разными дорогами ведут они к тем самым заключениям и поучениям, которые, отлившись в афоризмы и поговорки, признают или утверждают, указывают или советуют:
«Муравей слаб, но камень рушит».
«Мал муравей телом, да велик делом».
«Мурашка мурашке рада».
«У муравья голова с просяное зернышко, а ума – чувал».
«Ступай к муравью, ленивый, поучись у него благоразумию».
«Нет проповедников более красноречивых, чем муравей, который живет, не произнося ни звука».
«Муравьи сообща и льва одолевают».
Не раз находились в прошлом мудрецы, советовавшие тем, кто понимает, насколько не устроена жизнь, переустроить ее по примеру муравьев. На полках библиотек стоят пожелтевшие от времени пухлые трактаты, поучающие человека жить по закону, по справедливости, жить хотя бы так, как муравьи в муравейнике.
Теперь можно только снисходительно улыбаться, читая эти муравьиные утопии. Их время безвозвратно миновало.
Сегодня люди всех пяти частей света, над которыми описали свои планетарные орбиты первые спутники и космонавты, хорошо знают, что не в муравьином общежитии и не в муравьином укладе и порядке должен человек искать для себя образец и урок, пример и призыв. Люди уже знают, что требуется для того, чтобы все беззаветно трудились и все были сыты, чтобы один был за всех, а все – за одного. И потому сегодня в старинных сказках и изречениях, посвященных муравью, открываются более глубокий смысл и содержание.
С новой силой напоминают они о том, что и у муравья и в муравейнике действительно есть что увидеть, есть что изучить, есть что выпытать.
Пусть муравьи в янтаре говорят о безмерной косности живой природы, они говорят и о ее могучих силах. И люди уже знают, что, преодолевая эту косность и покоряя эти силы с помощью творимой ими науки, они и сами становятся могущественнее.
Это могущество почти никогда не приходит готовым. Оно иной раз порождается из самых маленьких открытий, годных поначалу разве только для того, чтобы их использовать в каких-нибудь игрушках. Неустанно учась у природы и научаясь превосходить ее, человек идет к действенному знанию. К такому наивысшему знанию ведет долгий, извилистый путь, путь поисков, проб, мечтаний, иногда трагических неудач и срывов и подчас лишь редких, не всегда сразу признаваемых успехов.
Мы уже знаем, что никакого практического значения никогда не имел кусочек янтаря, натертый кожей и притягивающий к себе сухие бузиновые шарики, висящие на тонких шелковинках. А ведь из явления, демонстрируемого в этой игрушке, которая тоже была когда-то научным открытием, выросли – и для этого понадобилось не так уж много времени – самые удивительные чудеса электрификации в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, новейшие достижения радиотехники, радиолокации, телевидения.
Мы уже знаем, что когда-то забавой были запускавшиеся на праздничных фейерверках разноцветные ракеты. А ведь от них ведут свою родословную современные реактивные самолеты, летающие быстрее звука, и многоступенчатые ракеты, все увереннее нацеливаемые людьми на межпланетные полеты.
Только шуткой был построенный когда-то испанцем Торрес-И-Кеведо электромеханический игрок, который с белыми королем и турой против черного короля в шестнадцать ходов побеждал любого соперника, правильно объявляя «шах» и «мат», а в случае повторных ошибок в ходах черного короля, отказываясь от дальнейшей игры.
Только игрушкой был сконструированный французским инженером пес Филидог, послушно бежавший на зов электрического маяка, лаявший, если на него падал пучок лучей.
Шуткой была и сконструированная американскими инженерами собака, сломя голову бежавшая на свет и так нелепо погибшая: привлеченная ярким светом фар, она кинулась навстречу машине и кончила свое недолгое существование под ее колесами.
Игрой конструкторской мысли были построенные английскими учеными черепахи Эльзи, Эльмер и Кора, которые упорно двигались к свету и обходили препятствия. Устройства черепах были отрегулированы так, что одна из них казалась уравновешенной, даже флегматичной, другая – нервной, легко возбудимой.
В общем, только игрушкой было и творение французских исследователей – селезень Жоб и уточка Барбара, парочка, постоянно представлявшая собой курьезное зрелище: птицы двигались вместе, расходились, опять шли друг к другу, а в ряде случаев обнаруживали даже нечто весьма похожее на память.
А ведь в прямом родстве со всеми этими забавами и игрушками находятся многие выросшие на наших глазах достижения новейшей техники, представленные не только автоматическими линиями на заводах и фабриках, автопилотами в авиации, но и счетными машинами, машинами-переводчиками, «думающими» машинами.