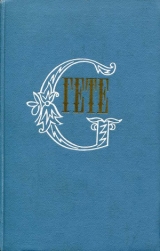
Текст книги "Из «Итальянского путешествия»"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
ОТ БРЕННЕРА ДО ВЕРОНЫ
Триент, 11 сентября, утром.
Прободрствовав пятьдесят часов кряду в непрерывных трудах, вчера около восьми вечера я прибыл сюда, вскоре улегся спать и теперь уже снова в состоянии продолжить свой рассказ. Девятого вечером, закончив первую тетрадь дневника, я хотел еще зарисовать постоялый двор и почтовую станцию на Бреннере, но из этого ничего не вышло, все характерное от меня ускользнуло, и я, недовольный и раздосадованный, возвратился домой. Трактирщик спросил, не хочу ли я ехать дальше, ночь-де будет лунная и дорога хорошая. Хоть я и отлично знал, что лошади утром понадобятся ему для привоза отавы и совет его достаточно корыстен, я все же с ним согласился, поскольку он совпадал с моими намерениями. Солнце опять проглянуло, дышалось легко, я уложил вещи и в семь часов тронулся в путь. Атмосфера взяла верх над сгущавшимися тучами, – словом, вечер выдался прекрасный.
Почтальон уснул, и лошади рысью бежали под гору по знакомой дороге. На ровном месте они, правда, замедляли шаг, но тут возница просыпался и взбадривал их, так что я очень быстро ехал меж высоких скал вниз по течению бурного Эча. Взошедшая луна осветила грандиозную картину. Мельницы среди старых-престарых сосен над пенящимся потоком, Эвердинген да и только.
Когда в девять часов я приехал в Штерцинг, мне намекнули, чтобы я немедленно отправлялся дальше. В Миттенвальде ровно в полночь все уже спали крепким сном, кроме почтальона; итак – дальше, в Бриксен, откуда меня снова спровадили, и на рассвете я был уже в Кольмане. Почтальоны так гнали, что у меня голова шла кругом, и хоть досадно мне было с ужасающей быстротою мчаться по этим дивным местам, да еще ночью, но в глубине души я был рад, что попутный ветер гнал меня навстречу моим желаниям. На рассвете я увидел первые виноградники. Женщина с корзиной персиков и груш попалась мне навстречу. В семь мы уже были в Гейгене и сразу же двинулись дальше…
Солнце весело и ярко светило, когда я прибыл в Боцен. Торговцы, встречавшиеся на каждом шагу, меня порадовали. Здесь во всем сказывается осмысленное благополучие существования. На рыночной площади сидели торговки с фруктами в больших плоских корзинах, фута эдак четыре в диаметре, в них были рядами положены персики, чтобы не помялись, точно так же и груши. Мне вспомнилось изречение, красовавшееся над окном гостиницы в Регенсбурге:
Comme les pêches et les mélons
Sont pour la bouche d’un baron,
Ainsi les verges et les bâtons
Sont pour les fous, dit Salomon.
He подлежит сомнению, что это написано северным бароном, а также очевидно, что в этих краях ему пришлось поступиться своими взглядами.
Боценская ярмарка ведет крупную торговлю шелками, привозят сюда и сукна, да еще кожи, собранные в горных поселениях. Впрочем, многие купцы съезжаются на ярмарку для того, чтобы взыскать долги, принять заказы и открыть новые кредиты. Я испытывал большой соблазн хорошенько рассмотреть все товары, сюда привезенные, но беспокойство и охота к перемене мест не дают мне роздыха, и я спешу вперед. Утешением мне служит разве то, что при нынешнем процветании статистики все это, вероятно, уже черным по белому стоит в книгах, и, по мере надобности, у них можно почерпнуть любые сведения. Впрочем, до поры до времени мне важны только чувственные впечатления, которых не дает никакая книга, никакая картина. Дело в том, что я вновь ощущаю интерес к окружающему меня миру, испытываю свою способность наблюдать, проверяю, достаточно ли велики мой опыт и знания, довольно ли ясен, чист и проницателен мой глаз, многое ли он может схватить при такой быстроте передвижения и есть ли надежда, что изгладятся морщины, глубоко избороздившие мою душу. Уже сейчас, наверно, от того, что мне приходится все делать самому, а значит, постоянно быть сосредоточенным и настороженным, даже эти немногие дни сделали мой разум более гибким. Я вынужден интересоваться денежным курсом, менять, расплачиваться, все это записывать, делать себе пометки, тогда как раньше я только размышлял, пестовал свои желанья, что-то задумывал, приказывал и диктовал.
От Боцена до Триента девять миль по плодородной долине, которая с каждой милей становится еще плодороднее. Все, что в горах кое-как прозябает, здесь полнится жизненными силами, солнце печет вовсю, и снова начинаешь верить в бога.
Какая-то бедная женщина окликнула меня, прося взять в карету ее ребенка, – раскаленная почва жгла ему подошвы. Я сделал сие доброе дело во славу могучего светила. Ребенок был как-то чудно́ наряжен, но я ни на одном языке даже слова от него не добился.
Эч течет здесь тише и во многих местах образует широкие отмели. У реки, вверх по холмам, все уж до того тесно посажено, что, кажется, одно должно задушить другое. Виноградники, кукуруза, шелковина, яблони, грушевые и айвовые деревья, орешник. Стены весело увиты бузиной. Плющ, – плети у него здесь толстые, – лезет вверх по скалам и широко расстилается на них; в прогалах снуют ящерицы. Все, что здесь обитает и движется, напомнило мне мои любимые картины. Подвязанные на голове косы женщин, открытая грудь и легкие курточки мужчин, раскормленные волы, которых они гонят с базара домой, навьюченные ослики, – это ожившие картины Генриха Рооса. А когда наступает теплый вечер и редкие облака отдыхают на горах или, скорее, стоят, чем плывут, по небу и, едва зайдет солнце, начинается стрекотанье кузнечиков, тогда наконец чувствуешь себя в этом мире как дома, а не в гостях или в изгнании. Мне все это до того по душе, словно я здесь родился и вырос, а сейчас только-только вернулся домой из Гренландии, с охоты на китов. Я радуюсь даже родимой, давно не виданной пыли, что вдруг начинает клубами виться вкруг моей кареты. Бубенцы и колокольчики кузнечиков трогают, а не раздражают меня. Весело слушать, когда озорники-мальчишки свистят взапуски с целыми когортами этих певцов, усыпавших поле; кажется, что они и вправду подзадоривают друг друга. Теплый вечер, пожалуй, еще прелестнее дня.
Если бы о моих восторгах узнал житель и уроженец юга, он счел бы меня ребячливым. Ах, все, что я сейчас говорю, давным-давно мне известно, с первого дня моих страданий под серым, недобрым небом. И радость, ниспосланная мне здесь, не становится меньше от того, что она преходяща, тогда как должна была бы быть вечно неизбежной в природе.
Триент, 11 сентября, вечером.
Бродил по древнему городу, впрочем, на некоторых его улицах высятся новые, добротно построенные дома. В церкви висела картина, изображающая, как церковный собор слушает проповедь генерала иезуитского ордена. Хотел бы я знать, что он такое им навязывает. Церковь этого ордена бросается в глаза красными мраморными пилястрами на фасаде; тяжелый занавес висит на входной двери, преграждая доступ пыли. Приподняв его, я вошел в тесный притвор, сама церковь заперта железной решеткой, но видно ее всю. Мертвая тишина царила в ней, ибо богослужение там более не совершается. Распахнута была лишь передняя дверь, так как в часы вечерни все церкви должны быть открыты.
Покуда я стоял в раздумьях о стиле этого строения, – по-моему, оно походило на все храмы этого ордена, – вышел какой-то старик, сняв с головы камилавку. Его поношенное и посеревшее черное одеяние красноречиво свидетельствовало, что это впавший в бедность священнослужитель. Он преклонил колена перед решеткой, прочитав короткую молитву, поднялся и, повернувшись к двери, пробормотал себе под нос: «Они выгнали иезуитов, могли бы хоть выплатить им стоимость церкви. Я-то знаю, во что она обошлась и семинария тоже, – во многие, многие тысячи». С этими словами он вышел, занавес за ним закрылся, я его приподнял, но не двинулся с места. Задержавшись на верхней ступени, он проговорил: «Император здесь ни при чем, это сделал папа». Потом, уже стоя спиной к церкви и не замечая меня, он продолжал: «Сначала испанцы, потом мы, потом французы. Кровь Авеля вопиет против его брата Каина!» Он сошел с паперти и, продолжая что-то бормотать, зашагал по улице. Вероятно, этого человека в свое время содержали иезуиты, при страшном падении ордена он лишился рассудка и теперь ежедневно приходит сюда, ищет в опустелой обители прежних братьев и после краткой молитвы предает проклятию их врагов…
11 сентября, вечером.
Вот я и в Ровередо, где проходит языковая граница. Повыше язык все еще колеблется между немецким и итальянским, Впервые меня привез сюда почтальон – коренной итальянец… Трактирщик ни слова не говорит по-немецки, пришлось мне подвергнуть испытанию свои лингвистические таланты. Как я рад, что любимый язык стал для меня живым и обиходным!
Торболе, 12 сентября, после обеда.
Мне страстно хотелось, чтобы мои друзья хоть на миг очутились рядом со мной и тоже насладились бы видом, который открывается мне.
Сегодня к вечеру я бы уже мог быть в Вероне, но в стороне от моей дороги находилось дивное творение природы, поразительное зрелище – озеро Гарда, я не хотел его миновать и был с великой щедростью вознагражден за кружной путь, мною проделанный. В пять я покинул Ровередо и поехал по долине, воды которой еще изливаются в Эч. Когда подымаешься, путь тебе перегораживает гигантская скалистая гряда, которую надо перевалить, чтобы спуститься к озеру. Там я увидел прекраснейшие известняковые скалы, как нельзя более пригодные для живописных этюдов, – ничего лучше, пожалуй, и не придумаешь. В начале спуска на северном конце озера видишь деревушку и возле нее маленькую гавань, вернее пристань, называется этот уголок Торболе. Фиговые деревья встречались мне уже на подъеме; когда же начался спуск по скалистому амфитеатру, стали попадаться первые оливки, отяжелевшие от плодов. Тут я, кстати сказать, впервые отведал влажных ягод, белых и мелких, которые едят все местные жители, – мне о них говорила графиня Лантиери.
Из комнаты, в которой я сейчас сижу, одна дверь ведет во двор. Я придвинул к ней стол и несколькими штрихами набросал вид, отсюда открывающийся. Взор охватывает озеро почти во всю длину, не виден только левый его край. Берега, по обеим сторонам обрамленные горами, пестреют бесчисленными деревушками.
После полуночи ветер дует с севера на юг, так что тот, кто собирается плыть в южном направлении, должен выбирать именно это время; уже через час-другой после восхода солнца воздушный поток движется в обратную сторону. Сейчас, в полдень, ветер бьет мне прямо в лицо и приятно охлаждает палящие солнечные лучи. Заглянул в Фолькмана, там говорится, что некогда это озеро называлось Бенако, и приводит следующий стих из Вергилия:
Fluctibus et fremitu resonans Benace marino.
Впервые то, что гласит этот латинский стих, воочию стоит передо мной, а сейчас, когда ветер крепчает и непрестанно растущие волны бьются о пристань, все выглядит точно так же, как и много веков тому назад. Кое-что, правда, стало иным, но озеро по-прежнему вскипает под порывами ветра, и вид его на веки веков облагорожен строкою Вергилия.
Написано под сорока пятью градусами, пятьюдесятью минутами.
Прохладным вечером я пошел гулять и вот взаправду очутился в новой стране, в никогда не ведомом мне окружении. Люди здесь живут в блаженной беспечности, – во-первых, ни одна дверь не имеет замка, однако трактирщик заверил меня, что мне нечего беспокоиться, даже если бы мои чемоданы были набиты бриллиантами. Во-вторых, в окнах здесь вместо стекла промасленная бумага. В-третьих, отсутствует весьма необходимое удобство, так что живешь почти в первобытных условиях. Когда я спросил коридорного, где же все-таки это удобство находится, он показал рукою вниз, на двор. «Qui abbasso può servirsi!» Я удивился. «Dove?» – «Da per tutto, dove vuol!» – гостеприимно отвечал он. Беззаботность во всем царит чрезвычайная, но оживления и суеты – хоть отбавляй. Весь день соседки чешут языками и громко перекликаются, при этом каждая чем-то занята, о чем-то хлопочет. Я не видал ни одной праздной женщины.
Трактирщик с итальянской напыщенностью объявил, что счастлив будет попотчевать меня отменнейшей форелью. Ловят ее вблизи от Торболы, где ручей сбегает с гор, рыба же ищет по нему дорогу наверх. С этой ловли император получает десять тысяч гульденов арендной платы. Собственно, это не форель, а крупные рыбины, иной раз до пятидесяти фунтов весу, чешуя их, от хвоста до головы, испещрена точками, вкус нежный и приятный – нечто среднее между форелью и лососиной.
Но наибольшее удовольствие мне доставляют фрукты, винные ягоды и груши, – им и положено быть вкусными в краю, где уже растут лимоны.
14 сентября.
Встречный ветер, что вчера занес нашу лодку в гавань Мальчезине, сыграл со мной недобрую шутку, которую я, впрочем, перенес благодушно, а в воспоминаниях она даже кажется мне забавной. Рано утром, как то и входило в мои намерения, я отправился в старый замок, каждому доступный, ибо там нет ни ворот, ни стражи, ни охраны. В замковом дворе я уселся насупротив башни, высящейся на скале и частично в ней высеченной. Весьма удобный уголок для зарисовок – рядом с запертой дверью, к которой вели три или четыре ступеньки, резная каменная скамеечка, вделанная в дверной косяк, какие и по сей день еще встречаются у нас в старинных зданиях.
Я недолго просидел на этом месте, так как во дворе стали появляться люди; они разглядывали меня, уходили и приходили вновь. Толпа увеличивалась, наконец движенье прекратилось, и все они сгрудились вокруг меня. Я заметил, что мои зарисовки привлекают к себе внимание, но не смутился и продолжал спокойно делать свое дело. Наконец ко мне протиснулся человек не слишком привлекательной наружности и спросил, чем это я занимаюсь. Я отвечал, что зарисовываю старую башню, на память о Мальчезине. Он заявил, что это не разрешается и я должен прекратить свое занятие. Так как он говорил на языке венецианского простолюдина и я, действительно, с трудом понимал его, то и ответил, что ничего не понимаю. Тогда он, с истинно итальянской безмятежностью, схватил мой листок и разорвал его, оставив, однако, клочки лежать на папке. Тут до меня донесся шепоток неудовольствия, пробежавший по толпе: какая-то пожилая женщина громко сказала, что так, мол, не годится, надо кликнуть подесту, он уж разберется в этом деле. Я стоял на ступеньках, спиною прислонившись к двери, и смотрел на непрерывно увеличивающуюся толпу. Любопытные, пристальные взгляды, добродушное выражение на большинстве лиц и все прочее, что казалось мне характерным для этой иноплеменной толпы, производило на меня достаточно комическое впечатление. Я словно бы видел перед собою хор птиц на сцене Эттерсбургского театра, так часто потешавший меня, когда я исполнял роль Трейфрейнда. Это привело меня в самое радужное настроение, так что когда явился подеста со своим актуарием, я чистосердечно его приветствовал и на вопрос, почему я рисую крепость, скромно ответил, что эти стены крепостью не считаю. Потом постарался обратить внимание толпы на ветхость стен и башен, на отсутствие ворот, – словом, на полнейшую беззащитность так называемой крепости, – и заверил подесту, что видел перед собой и рисовал только руину.
Мне возразили: ежели это руина, так что же я нашел в ней интересного? Я отвечал весьма обстоятельно, намереваясь выиграть время и завоевать расположение толпы, что им ведь известно, сколь многих путешественников именно руины влекут в Италию, что Рим, столица мира, разрушенная варварами, полон руин, которые были зарисованы сотни и сотни раз, что далеко не все древние строения сохранились так, как амфитеатр в Вероне, который я, кстати сказать, надеюсь вскоре увидеть.
У подесты, стоявшего передо мною, только немного пониже, долговязого, но не слишком тощего мужчины, туповатые черты скучного лица вполне соответствовали медлительной, меланхолической манере, с какою он задавал свои вопросы. Актуарий, поменьше ростом и порасторопнее, тоже не сразу нашелся в столь новом и необычном случае. Я еще долго говорил в том же духе, меня, кажется, охотно слушали, на некоторых женских лицах я даже читал сочувствие и благосклонное одобрение.
Стоило мне, однако, упомянуть о веронском амфитеатре, известном здесь под названием «арены», как актуарий, уже успевший собраться с мыслями, заметил, что все это, возможно, и так, что «арена» всемирно известная римская постройка, в этих же башнях ничего примечательного нет, тем не менее они являются границей между Венецианской республикой и Австрийской империей, а посему шпионить здесь не положено. Я пустился в пространные объяснения: не одни-де греческие и римские древности заслуживают внимания, но также и памятники средневековья. Местным жителям, конечно, нельзя поставить в упрек, что они, в противоположность мне, не воспринимают живописной красоты с детства им знакомых строений. На мое счастье, в эту минуту утреннее солнце озарило башню, скалы и стены, и я принялся восторженно расписывать им эту картину. Но так как мои слушатели стояли спиной к упомянутым красотам, не желая терять меня из виду, то они разом, наподобие птиц, называемых вертишейками, повернули головы, чтобы зрительно насладиться тем, чем я услаждал их слух. Даже подеста повернулся, не без важности, конечно, к описываемой мною картине. Эта сцена так меня рассмешила, что я еще больше вошел во вкус и не позабыл упомянуть даже о плюще, который за долгие столетия так пышно разукрасил скалы и стены.
Актуарий поспешил заметить, что так-то оно так, но император Иосиф – государь зело беспокойный и, конечно, лелеет злые умыслы против Венецианской республики, я же, вероятно, его подданный, и он послал меня разведать, как там все обстоит на границе.
«Ничуть не бывало, – воскликнул я, – как и вы, я горжусь тем, что я гражданин республики, пусть не столь большой и могущественной, как достославная Венеция, но все же самостоятельной и по торговым связям, богатству и мудрости своих правителей не уступающей ни одному вольному городу Германии. Я родом из Франкфурта-на-Майне; думается, что доброе имя этого города и вам хорошо известно».
«Из Франкфурта-на-Майне! – воскликнула какая-то хорошенькая молодая женщина. – Вот видите, господин подеста, у вас есть возможность тотчас узнать, что собой представляет этот чужестранец, который мне кажется добропорядочным человеком. Прикажите позвать Грегорио, он долго служил там и лучше всех нас разберется в этом деле».
Благожелательных лиц стало больше, первый из моих хулителей скрылся, и когда пришел Грегорио, дело уже явно обернулось в мою пользу.
Это был человек лет за пятьдесят, с обычным смуглым итальянским лицом. Он говорил и держал себя так, словно ничто чужое ему не чуждо, и тотчас же сообщил мне, что служил у Болонгаро и рад будет услышать об этом семействе и о городе, о котором вспоминает с неизменным удовольствием. Мне повезло, – его пребыванье во Франкфурте пришлось на мои детские годы, из чего я извлек двойную выгоду, сумев рассказать ему, как все было в ту пору и что изменилось в дальнейшем. Рассказал я и об итальянских семьях, все они были мне знакомы. Он был очень доволен, услыхав разные подробности, – к примеру, что господин Аллезина в 1774 году справил свою золотую свадьбу и что в честь этого события была отчеканена медаль, которая имеется и у меня. Грегорио отлично помнил, что супруга сего негоцианта была урожденная Брентано. Я рассказал ему даже о детях и внуках этих семейств, о том, как они подросли, переженились, уже в внуках приумножили свой род и какую жизнь для себя избрали.
Покуда он слушал подробнейшие сведения, которые я давал обо всем, что бы он ни спрашивал, лицо его принимало то серьезное, то радостное выражение. Он был взволнован и растроган, народ, столпившийся вокруг нас, не мог досыта наслушаться, и Грегорио приходилось часть нашей беседы переводить на местный диалект.
Под конец он сказал: «Господин подеста, я уверен, что это честный, просвещенный и хорошо воспитанный человек, который путешествует, чтобы пополнить свое образование. Отпустим его по-хорошему, пусть он так расскажет о нас своим землякам, чтобы им захотелось посетить Мальчезине; право, наш живописный уголок заслуживает того, чтобы им восхищались чужеземцы». Я еще поддал жару его словам, воздав хвалу всему краю, местоположению Мальчезине и его жителям, не забыв, конечно, мудрых и предусмотрительных представителей власти.
Мои слова произвели наилучшее впечатление, и мне было разрешено в сопровождении мастера Грегорио свободно осматривать Мальчезине и его окрестности; хозяин гостиницы, в которой я остановился, заранее радуясь притоку чужеземных постояльцев, когда те прослышат о достопримечательностях Мальчезине, тоже вызвался сопровождать нас. С живейшим любопытством рассматривал он предметы моей одежды. Но зависть в нем возбудил лишь мой маленький пистолет, легко умещавшийся в кармане. Он назвал счастливцами тех, кто вправе носить такое прекрасное оружие, тогда как у них это запрещено под страхом сурового наказания. Я несколько раз пытался прервать его дружески-назойливые речи, чтобы высказать благодарность своему избавителю. «Не благодарите меня, – отвечал этот славный человек, – мне вы ничем не обязаны. Если бы подеста лучше разбирался в своем деле, а его помощник не был отчаянным корыстолюбцем, вы бы так дешево не отделались. Первый растерялся больше, чем вы, второму ваш арест, донесения и отправка вас в Верону не принесли бы ни гроша; он это живо смекнул, и вы были свободны еще до того, как закончилась наша беседа».
Вечером хозяин гостиницы повел меня в свой виноградник, красиво расположенный на склоне холма, спускавшегося к озеру. С нами был и его пятнадцатилетий сын, которому вменялось в обязанность влезать на деревья и выискивать для меня лучшие плоды, в то время как отец выбирал самые спелые гроздья.
Меж этих двоих простодушных, благожелательных людей в одиноком, заброшенном, отдаленном уголке, размышляя о сегодняшних моих приключениях, я живо почувствовал, какое удивительное существо человек: вместо того чтобы спокойно вкушать радость жизни в добропорядочном обществе, он идет навстречу опасностям и тревогам единственно из-за своей причуды – познать этот мир, познать и то, что он объемлет.
Около полуночи хозяин проводил меня к баркасу, неся корзинку, полную фруктов, которые мне презентовал Грегорио. Так, при попутном ветре, я простился с берегом, грозившим превратить меня в листригона.
…Замечу еще, что красота, открывающаяся нашему взору, когда едешь вниз, – неописуема. Это сплошной ухоженный сад, раскинувшийся на много миль в длину и в ширину у подножия высоких гор и круто вздымающихся скал. Десятого сентября около часу дня я прибыл в Верону, где хочу сначала дописать еще несколько строк, закончить и скрепить в тетрадь вторую часть дневника, а вечером надеюсь, уже с легким сердцем, увидеть амфитеатр.
Касательно погоды в эти дни сообщу следующее. Ночь с девятого на десятое была то ясной, то облачной, вокруг луны все время стоял ореол. Поутру небо затянуло серыми, но легкими тучками, которые рассеялись по мере приближения дня. Чем ниже я спускался, тем лучше становилась погода. Хотя горный кряж в Боцене оставался по-ночному темным, но состояние воздуха резко изменилось. По различным ландшафтным фонам, очаровательно разделенным просветами где более, где менее яркой синевы, видно было, что атмосфера наполнена равномерно распределившимися парами, которые она в состоянии удержать, почему они и не надают росой или дождем и не скапливаются в тучи. Постепенно спускаясь ниже, я отчетливо видел, что все пары, подымающиеся из Боценской долины, все штрапсы, тянущиеся с южных гор к полунощным краям, не закрывали их, но окутывали своего рода маревом. В дальней дали, над горами, я разглядел так называемую «промоину». Южнее Боцена все лето стояла прекрасная погода, только время от времени выпадало немного водицы (теплый дождик здесь называют «водицей»), а вскоре уже сияло солнце. Вчера тоже чуть-чуть покапало, и то при солнечном свете. Давно не выдавалось у них такого хорошего года: все уродилось прекрасно, а дурное они переправили к нам.
О горах и горных породах скажу лишь несколько слов, ибо путешествие Фербера в Италию и Хакета по Альпам достаточно сообщают нам об этом отрезке пути. В четверти часа езды от Бреннера находится мраморная каменоломня; я проезжал мимо нее в сумерках. Не подлежит сомнению, что под нею, как и под другой, по ту сторону хребта, залегает слюдяной сланец. Последний встретился мне и под Колманом, когда уже развиднелось. Пониже я увидел порфиры. Скалы были великолепны, а камень в кучах вдоль шоссе так мелко раздроблен – хоть сейчас составляй из него кабинетные коллекции. Я мог без труда взять с собой по образцу от каждой породы, надо было только приучить свой глаз к меньшим масштабам и не жадничать. Ниже Колмана я обнаружил порфир, расщепляющийся на равномерные пластины, между Бранчолем и Неймарктом – схожий, пластины коего, в свою очередь, расщепляются на столбчатые кристаллы. Фербер принял его за вулканический продукт, но это было четырнадцать лет тому назад, когда весь мир пылал в головах людей; Хакет уже смеется над этим.
О людях могу сказать лишь немногое, да и то не слишком лестное. Когда я спускался с Бреннера и передо мной забрезжил день, я заметил разительную перемену в их обличии. Мне очень не понравилась смуглая бледность женщин. Их лица свидетельствуют об убогой жизни, на детей смотреть больно, мужчины выглядят несколько лучше, телосложение у них статное и правильное. Мне думается, что причина болезненных отклонений заложена в излишнем употреблении кукурузы и гречихи. Первую они называют желтой гречихой, вторую – черной. Ту и другую сначала размалывают, из муки варят густую кашу и в таком виде едят. Немцы, по ту сторону гор, делят это тесто на кусочки и поджаривают в масле. Итальянские тирольцы поедают его просто так, иногда присыпая сыром, и весь год обходятся без мяса. Такая пища неизбежно склеивает и засоряет кишки, в особенности у женщин и детей, о чем свидетельствует их нездоровый цвет лица. Кроме того, они едят фрукты и зеленые бобы, которые отваривают в воде, приправляя постным маслом и чесноком. Я удивился: неужто здесь нет богатых крестьян? «Конечно, есть», – отвечала мне дочка боценского трактирщика.
«И они тоже питаются не лучше?» – «Нет, они уже привыкли». – «Что ж они делают с деньгами? На что их тратят?» – «Над ними тоже есть господа, которые отбирают деньги».
Далее я узнал от нее, что крестьянам-виноделам, казалось бы самым зажиточным, всего туже приходится, поскольку их держат в руках городские купцы. В неурожайные годы они дают им деньги авансом, а в урожайные скупают вино за бесценок. Впрочем, это ведь повсюду так…








