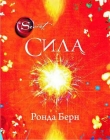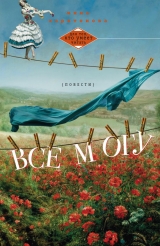
Текст книги "Все могу (сборник)"
Автор книги: Инна Харитонова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Куплю гобой.
– Я же говорил, что со временем все стечет.
– Стечет с ручейком. – Последние два слова прозвучали как «сру чайком».
Марина и Сергей Петрович засмеялись.
– Нет, серьезно, – приставал начальник.
– Поеду на стройку. Ядерная электростанция есть, а термоядерной пока не построили.
– Цепочка радиоактивного распада похожа на тебя – столь же непредсказуема. Марин, оставим шутки школоло. Надо пострадать за искусство.
– Можно завтра? Сегодня я счастливая.
– Я сегодня не такой, как вчера. Можно и завтра. Договорились. Завтра ты заходишь, я излагаю тебе суть дела.
– Путаешь карты, Серега! – Вот это уже была наглость. Сергей Петрович удивился. Даже поморщился. Но на первый раз простил.
Из кабинета они вышли вместе. Марина на полпути отстала:
– А мне сюда, – и толкнула дверь с табличкой «отдел преступности».
Как и всегда, здесь было накурено. Мужчины сидели в дыму и в застолье. Марину никто не заметил, говорили о своем:
– Ну, в общем, она все снимает, там все в цветах…
Раздалось дружное мужское ржание.
– И я говорю: «Ты как хочешь, но я эту клумбу трахать не буду».
Марина смутилась, специально громыхнула стулом. Мужчины обернулись.
– Заходи, Марин. Заходи. Сто лет тебя не было. На вот, пельмени, закуси.
– Откуда пельмени?
– Из чайника.
Марина села, стала есть. Ей тут были искренне рады, и, что важно, никто ее не жалел. Она вместе с коллегами пила, веселилась. Водка лилась из заварочного чайника, колбаса резалась банковской карточкой, за окном собирались на смену проститутки, и мужики, перевесившись из окна, привычно здоровались с ними. Их не объединял досуг, лишь некоторая общность профессий. Во всем этом вертепе Марине было впервые хорошо. Она поняла, что вернулась на радары жизни. Все было по-прежнему, только без Леши.
Настя возилась с детьми.
Сергей Петрович выбирал себе новый галстук и покупал сигары.
Коля ночевал у любовницы.
Марина ела пельмени руками.
Индира качала Эсму.
Мама Марины смотрела ток-шоу.
Только не было Леши.
Марина в этот вечер вступила в очень близкие отношения с алкоголем. Из редакции вышли уже ближе к полуночи. Почему-то Марина показывала всем инсценировку стиха:
Тики-тики,
Тики-таки,
Ходят в нашей
Речке раки,
Ходят задом наперед,
Ищут раки
В речке брод.
Марина развернулась для большей наглядности, пошла задом наперед, пока не споткнулась от столкновения с преградой. Что-то белое капало ей на туфли. Марина подняла глаза и сначала увидела одноразовый стакан с логотипом сети фастфуда и только потом лицо мужчины. Оно ничего не выражало. Абсолютно. Космическую пустоту. Безразличие. Марина извинилась и опять посмотрела на мужчину. Даже в состоянии близком к невесомости Марина поняла, что знает его. Это Вадим.
– Здравствуй, Марина. – Он начал говорить первым.
Марина не могла ничего сказать. Многократно кивала.
– Ты работаешь здесь? А я живу вон в том доме. – Вадим показал на соседний дом. – Тот балкон с засохшими цветами. – Он обвел объединяющим жестом двор редакции. – В ночное время это стоянка нашего подъезда.
Марина даже не посмотрела в ту сторону, куда показывал Вадим, а он показывал на окно, в которое так любила смотреть Марина, в котором девочка играла на фортепиано.
– Марин, ты идешь? Пойдем, поздно, – звали Марину коллеги.
И тут до Марины дошло, она поймала взглядом место, куда показал Вадим, и поняла, что это ТА квартира, ТА, в которой была большая беда.
Марина сожмурилась, как от яркого света.
– Мне пора, – сказала Марина Вадиму вдруг совершенно трезвым голосом и опустила глаза.
Вадим кивнул. Совершенно беспомощно, как-то по-детски.
Марина быстро пошла, догоняя коллег. Вадим, постояв немного, почти бегом кинулся ее догонять. Взял за руку. Она не сопротивлялась.
– Постой. Послушай. Я такое же барахло, как все. В каждом человеке половина хорошего, половина плохого. Здесь важно, какие микроны перевесят и что определит человеческую сущность. Я не всегда жил правильно. Но я старался. Видимо, старался плохо. Я не сберег свою семью. Мне надо было заласкать ее, залюбить, ценить. Но я все потерял. Потерял жену и ребенка. Я до сих пор по привычке покупаю дочке коктейль после работы. Но я не сошел с ума!
– Я знаю, – согласилась Марина и освободила свою руку из руки Вадима, собралась уходить.
Вадим остановил ее:
– Очень трудно полюбить, любить, но я смог… Там, помнишь, ты смотрела на небо, а я еще ничего не знал, но знал, что уже люблю.
Марина повернулась к Вадиму и заплакала. Сделала шаг в сторону.
– Не надо больше никуда идти. Остановись. Не уходи. – Вадим взял за руку.
Как красиво и просто – белые шторы. Марина лежала на шезлонге, стоящем среди веранды, и смотрела на море. Полотна, призывающие защищать от ветра, боролись в танце джайв, пропуская к Марине и ветер, и солнце, и новую жизнь. В животе Марины бился ребенок. Долгожданный для обоих будущих родителей. Вадим взял отпуск и всегда был рядом. Не было только Леши. Не было только семьи Вадима. И Марина точно не хотела знать почему.
Особые обстоятельства
1
Еще не начало темнеть, но скорое приближение вечера в пионерском лагере уже чувствовалось. Без конца хлопали двери мальчишеских палат, плотно были закрыты девчачьи спальни, на улице пробовали музыкальный усилитель. «Раз. Раз. Проверка. Раз. Два. Три. Как слышно?» На маленькой электрической плитке жарилась картошка. Из эмалированной миски свисала, путаясь между собой, черешня.
Левой рукой, держа на уровне лица зеркало, правой Татьяна не глядя выдергивала из миски черешню, вместе с ножкой подносила ко рту, кусала и тут же, не отводя от лица зеркало, плевала в кулак косточку; тут же двумя пальцами хваталась за косметический пинцет. Собиралась вожатая Таня на дискотеку. А ее подруга и соседка – воспитательница Ира – намеревалась принять второй ужин. Картошку брали в столовой уже почищенную, мелко резали и жарили на куске сала. Делали и салат из рыночного сладкого перца, помидоров, укропа. Ужин выходил не сытный, но очень домашний. Продуктовый дух вылетал из вожатской комнаты на этаж, пионеры облизывались и шли доставать из-под подушек куски серого солдатского хлеба, вынесенные с лагерного обеда и обильно посыпанные солью. Каждый занимался своим делом.
Не первый год оформлялись подруги вместе на один отряд. Знали, как поставить дисциплину, – обе были строги. Татьяна также отличалась излишней ироничностью, алеющей на фоне Ириной меланхолии. Главной же заботой последней было покушать и поспать в тихий час. Несмотря на крымскую неразлучность, московской постоянной дружбы у них как-то не выходило. Огромный город стоял преградой на пути непрерывного общения. Таня работала логопедом в спецшколе. Ира преподавала в обычной начальной общеобразовательной.
Особой увлеченности педагогикой подруги не обнаруживали, хотя и работали добросовестно, время от времени делая скромные воспитательные успехи и получая за них не менее скромные премии. Летние каникулы вообще не требовали особых усилий в работе. Единственное, что заставляло педагогов всегда быть начеку, – это море, разливающее к ногам теплую негу и постоянный источник опасности. Купание проводилось по всем инструкциям. Дети пересчитывались на берегу, снимали обувь, подтягивали трусы и по свистку кидались навстречу воде. У буя их уже караулили попеременно меняющиеся воспитатели.
Жаркая южная, пусть и лагерная жизнь располагала к курортным романам. Вблизи моря значимость работы обесценивалась, отходила на второй план, оставалась обязанностью и где-то повинностью. А хозяйки четыреста десятой комнаты ждали от лета сюрпризов, страсти и любви. Последней из года в год явно недоставало, хотя поклонники у подруг были. У Ирины ярый хозяйственник из управления лечебно-оздоровительными учреждениями области. По хозяйственно-продовольственному статусу радовал он подруг то вяленой рыбкой, то массандрой, то московским белым батоном, золотистым и чуть затвердевшим, то простой хлебной соломкой, несладкой и безвкусной, часто пережаренной. Татьянин ухажер Паша щедротами не баловал вовсе. Не с чего было. Лишь изредка приносил он здоровых полуживых крабов, вроде как на потеху, и отпускал их в «свободное плавание» на гранитную крошку балкона. Оттуда крабы падали в кусты роз, где за ночь пожирались голодными улитками. Иные лежали в углу балкона, на специально устроенной кучке песка, в тени сушившихся трусов и лифчиков, и постепенно тухли на жаре.
Крабовая слабость Паши легко объяснялась подругами его тупоумием, присущим, как им казалось, всем боксерам. «Ему там мозги все выбили, ни одной целой извилины не осталось». Все знали, что в московской жизни был Паша не слишком удачливым боксером, звезд с неба не хватал и только своим весом одолевал избранных соперников. Как и неважный спортсмен, стал Паша еще более неважным вожатым. Нечуткий к детям, особенно к кисейным и жидкотелым девочкам, Паша слыл безынициативным и малоавторитетным педагогом. Чего нельзя было сказать про Пашу-кавалера, которого исключительно как мужчину, а не как коллегу оценивали молодые сотрудницы лагеря. Правда, старались они зря. Чуть ли не на первой дискотеке боксер-неудачник выбрал себе в пару Татьяну – время лагерный педсостав предпочитал зря не тратить – и валко шел по маршруту, конечным пунктом которого значился пылкий и быстрый роман. Преодолеть этот путь Таня ему не мешала, но и особо не помогала. Ежедневно приближала она Пашу на шаг и тут же удаляла на два. Так и развлекалась.
Танина презрительность и даже редкая разновидность женской жестокости по отношению к коллеге объяснялась просто. Приехала Таня в Крым переживать и забывать последний свой надрывный московский роман и, желая посвятить себя страданию и упоению горем, никак не ожидала столь скорой, но явно неполноценной смены партнера. От того и мучилась, хотя и забывала постепенно другого, по иронии судьбы тоже, кстати, спортсмена, только лыжника, яркого и успешного.
Лыжника звали Стас, и он, в отличие от боксера, к детям относился добрее, даже учил их нехитрому искусству бессмысленных лыжных гонок. Тренерская работа давалась Стасу легко. Изобретательность же его отзывалась в детишках авторитетом наставника и любовью их родителей к молодому тренеру. Своих чад доверяли ему даже интеллигентные родители, выпуская детей, начитанных на десять лет вперед, из книжной пыли квартир в свежую хрусткость лыжных трасс.
Стас доверие ценил и старался как мог. А мог он многое. В летнем, сплошь комарином лагере на Истре он придумывал все новые и новые состязания, игры, забавы. Всех детей любил он одинаково, тем самым совершая по незнанию самый большой педагогический подвиг беспристрастности.
Успевал даже претворять в жизнь зачатки экономической теории. Из несъеденного в завтрак масла и остатка яиц Стас уже к вечеру заказывал поварихам большой наградной пирог, а днем организовывал под пирог надлежащей сложности соревнование. Поварихи, с одной стороны, открыто печалились за уплывающий из рук продуктовый прибыток, с другой – все же с радостью взбивали, растирали, мяли тесто для юных спортсменов. Стасов азарт передавался и им, заглушая материальные ценности.
Таня попала на Истру в качестве эксперимента. Как специалисту в своей области, ей следовало сопоставить речевые успехи детей с успехами мышечными. Не избалованная еще Крымом, на Истринское водохранилище Таня поехала с радостью. Знала, что делать ей особо ничего не придется, а формальности будут соблюдены и, соответственно, зарплата получена.
Стас – старший тренер и начальник летнего спортивного лагеря – принял логопеда радушно. Он вообще все делал очень доброжелательно, даже ругал. Острого интереса рыхлое, с точки зрения спортсмена, тело Тани у него не возбудило. Вызвало любопытство, разбавленное и подстегнутое скукой. Поэтому после отбоя все же спускались они по склонам к воде, и на крутых спусках не обходилось без поддерживания за талию, за локоток; без пойманного в ладонь светлячка, без сброшенной на редкие камни одежды и короткого из-за холода заплыва. Спортивный режим исключал, видимо, эмоциональные перегрузки, поэтому возвращались они в Танин домик часов в одиннадцать, для лета рано, и по-спортивному быстро и четко вставал Стас ровно через полчаса с Таниной постели. Исчезал в сумраке ночи, а Таня лежала, долго всматривалась в темноту, продиралась слухом сквозь разудалое круглосуточное веселье кухни – интересно, когда они спят, – и искала среди комнатной тишины и уличного сдержанного балагана голос Стаса.
2
Очень давно, в холодном Норильске, Таня также искала голос мамы, лежа в полудреме с вечной ангиной. Прислушивалась к голосам в подъезде, на лестничной клетке. Именно там, в Норильске, тянулось ее холодное – и по погоде, и по семейной любви – детство. Но радость случилась уже в Москве, где средняя северная зарплата превращалась в сокровище, и все заработанное там разошлось здесь на всякие бытовые мелочи да на наряды заневестившейся Тане. Заграничные костюмы превратили крупнокостную Таню в миловидную девушку, колечко из заморской слоновой кости, купленное с большой авантюрой у соседки-татарки, красовалось на среднем пальчике, а подкрашенные белыми перьями волосы легли в дорогой стрижке в очень уместную прическу.
Само собой случилось раннее замужество, абсурдное и непонятное. Жених Женя учился на геолога, имел крепкую, достойную, не в пример Таниной, семью и был хорошим, как говорила она сама, не найдя, видимо, другого определения.
Начало абсурда ее браку положила свадьба. С разбитной подружкой напились между парикмахерской и ЗАГСом они клюквенной наливочки, легкой и вроде бы некрепкой, но Таня уже поплыла, а свадебный кортеж призывно гудел под окнами. Надо было идти.
Никто ничего не заметил, а может быть, и списал на тревожность. Но в «Пекине», где гулять собирались с шиком, Таню замутило уже с первого тоста, шампанское с обрывками краковской утренней колбасы фонтаном брызнуло в гостиничный унитаз, а дебютировавшая свекровь лишь подняла кверху тоненькие ниточки бровей. Недовольничала.
Вся брачная ночь прошла у Тани между ванной и уборной. Женя, по-детски подтянув ноги к подбородку, мирно спал, а Таня бегала туда-сюда растрепанная, опухшая и несчастная. Семья их студенческая мало чем напоминала семью обычную. Таня готовила простенькие обеды, стирала, но до брачных радостей дело так и не доходило. Женя был робок, один раз предпринял он попытку подойти к ней, обнять. Как ожидалось, должна была проснуться в Тане чувственность, а там и дело ясное и не хитрое случилось бы само по себе. Но жена его лишь бестолково водила глазами, и Женя отступил, а в скорости и привык вот так, по-соседски.
К лету первый раз они расстались, и оказалось, что навсегда. Женина экономически-геологическая практика затянулась на годы. Среди гейзеровых потоков Камчатки нашел он свою долю. Какая-то сила держала его в каменистом раю, и казалось ему, что он повзрослел, возмужал, а Москва осталась стоять лишь вечным памятником его юности. Институт заканчивал заочно, имея уже авторитет и огромный опыт в Колымском крае.
На присланном из Москвы мотоцикле ездил Женя с инспекциями от золотообогатительных комбинатов чаще из Сусумана в Ягодное, говорил со старателями и сам не замечал, как грубел от их баек про мужскую справедливость и силу. Язык его, до того академический, научился искусно перетасовывать научные термины с блатными словечками.
Стараниями немногих женщин-коллег знал он, что рододендроны, засыпающие весной все сопки цветным ковром, особенно хороши в любовной науке, что запах их вересковый, запертый в комнате, как-то немыслимо влияет на ощущения двоих, и искренне не понимал, как на холодной земле, состоящей из камней и золота, могли взрасти такие цветы.
Редко бывал он в самом Магадане. Его, ставшего уже Евгением Альбертовичем, поражала свобода, полное отсутствие официальных властей. Город жил собственным законом, сидя на бочках с засоленной икрой, шамкая больными от холода зубами и каждый день все больше и больше погружаясь в мир чистогана. Останавливался он в общежитии музыкального училища, где жил его друг – тромбонист. Жене нравилась разудало-пьяная атмосфера этого дома. Он заходил к пианисткам, всегда веселым девочкам, и погружался в полумрак их комнаты. Во имя вечного спасения от не менее вечного холода окна их были намертво занавешены одеялами. Беззаботно и взросло проводил там Евгений Альбертович свое время. Только на обратном пути становилось ему по-настоящему легко, свободно, и именно тогда он вспоминал с неизменной нежностью Танюшу, их семейно-половые мытарства, улыбался про себя во все лицо и думал, что надо бы развестись. Таня же положением соломенной вдовы не тяготилась. Все свободное время проводила она с учебником Бадаляна по детской неврологии да с аспирантом последнего года.
Истринский роман, было угаснув к августу, возродился уже в октябре. И стала Таня постепенно прикипать к Стасу. Узнав к тому же, что Стас не просто лыжник, что за огромными его плечами остался авиационный институт, Таня воспрянула духом. Стас же совершал по своим меркам головокружительную карьеру. Талант лидера не давал места бездействию. Он что-то придумывал, разрабатывал, внедрял. Он любил детей, их родителей, друзей, родственников. Он был эталоном для подражания. Вел программу в «Пионерской зорьке», участвовал во взрослых соревнованиях, руководил детскими состязаниями, учился и редко-редко, в перерывах между сборами, сессиями, семейными и общественными праздниками, заходил к Тане. Он представлял собой то искусство, которое обязано принадлежать народу, и не жалел себя ни для кого, оставляя Тане лишь маленькую часть от себя. Но именно Тане в многодневных и бесплодных размышлениях являлось его чудовищное одиночество, которое, как казалось Тане, заставляло Стаса окружать себя многочисленными знакомыми и друзьями. Несмотря на то что он был одинок, он никогда один не был. Как-то Таня решилась на подвиг, пытаясь заменить всю свиту собой единственной, поговорить с ним, рассудить, но наткнулась на такое хладнокровное молчание и все исчерпывающий взгляд, что продолжать не стала. Пуская всех и каждого в свою жизнь, Стас не желал открывать никому свою душу. Танина излишняя проницательность лишь раздражала его. Но после сборов, где тугобедренные лыжницы соревновались не только в лыжных гонках, Стас все равно возвращался к Тане, и ей казалось, что только к ней одной.
Совершая малоувлекательную поездку с работы домой, Таня сквозь окна сонного трамвая видела свое незавидное положение, тяготилась им, но ничего не могла поделать. То чувство, которое любовью было назвать трудно, все же не давало покоя, билось в ней агонией и констатировало все большее отдаление. Именно с этим чувством приехала она в солнечный пряный Крым, где никаких «любвей» не ждала, но все-таки получила.
Паша был другим. Он охотно распахивал перед Таней душу, наизнанку выворачивал воспоминания, вываливал многосложные монологи про себя, про других и про все на свете, чем укрепил в Тане понимание: «Дурак. Но милый». Как когда-то хороший Женя, милый Паша медленно заслуживал скудного Таниного внимания, а стал героем внезапно и от того бесповоротно. Благодарить за такую манну ему следовало маленькую девочку.
Помимо детей, вместившихся в один отряд, приходилось Тане заботиться и еще об одном ребенке. Забота эта была особого рода. Она исключала всякое проявление грубости, диктата, а питалась нежностью, которую, как мнилось Тане, выбить из нее было сложно. Как бы там ни случалось, но Таня мирилась с постоянным и зачастую навязчивым присутствием дочки подруги в их вожатской комнате. Девочка казалась вредной, порой жадной и хитрой. Часто менялась, резко превращаясь в ласкового и доброго ребенка, чем окончательно сбивала с толку Татьяну. Длинная, худая и будто бы прозрачная, Аня в пионерском лагере особыми друзьями не обзавелась, но общалась с радостью со всеми, не исключая и педагогического состава. Очень любила хрустящую соломку, питала к ней неописуемую страсть. Обломки соломки находили у нее под подушкой, в трусах и даже в полосатых коротеньких носочках. Гольфы Аня не носила, ее мать считала, что гольфы зрительно искривляют ноги.
Уже третий день болело у Ани ухо. Высокая температура крутила девочку по пружинной кровати и равняла со всеми остальными. Беспамятство, бред, сильный жар вынуждал идти в изолятор. Но подруги медлили, понимая, что ребенка вот так сразу лишат лета, определив в душный мешок стационара на неделю-другую, и пробовали лечить сами. Когда Аня, почти справившись с жаром, стала вроде бы здоровой, обнаружилась ее частичная глухота и повергающее в шок спокойствие. На тоненькой подстилке поодаль от всех детей лежала она спиной к солнышку, читала про Хоттабыча. Худое тельце всей своей сколиозной стрункой выражало покорность к невиданной болезни. На время решили, что Аня, до сего задиристая и живая, сейчас просто-напросто притворяется. Оказалось, ошиблись.
Что Аня напрочь глухая, Таня поняла, поманив девочку конфетой, а та даже не повернулась. Каждый вечер приходила Аня в вожатскую за своей порцией соломки и забавных игр с Пашей. Акробатические их игры не внушали доверия, но за все последнее время девочка лишь тогда радовалась и заливалась глухим смехом, когда крутили ее боксерские руки, швыряли под потолок, ловили, сгибали, трясли и снова подбрасывали. Как раз при очередном пируэте вывалились из Аниного уха останки бывшего когда-то жуком-пожарником насекомого. Прямо на байковом покрывале чернели окутанные ушной серой, водой и остатками борного спирта загогулины. Аня вдруг прослышала и сама, привыкнув уже к вынужденной своей глухоте, обрадовалась. Педагоги акцентировать внимание на жуке, невесть как залетевшем в детское лопоухое ушко, не стали, спасая ребенка от дальнейшего ужаса перед насекомыми, но сами молча переглянулись. Паше же достался поощрительный и долгожданный Танин поцелуй, к которому позже, во время тихого часа в пустой детской палате, прибавилась и страстная сиеста. Пружинная кровать надрывалась на все лады, в огромных незашторенных окнах вздымались вверх и вниз стройные ряды кипарисов, эхом по шестиместному пространству комнаты разлетались Танины охи и, вторя им, гудели Пашины ахи, а за стенкой мирно почивали мальчики, к которым через балкон, дабы выкрасть клетку с голубями, проворно перелезали бесстыжие девочки.
День отъезда всегда выдавался суетным. Хотя и вещи были давно упакованы, но надо было собрать детей, их вещи, купить фруктов и, главное, ничего не забыть. Так уж сложилось, что Ира и Таня увозили из лагеря больше, чем привозили. Быт их, устроенный лучше других, требовал все больших пополнений. Кроме положенных двух кроватей, тумбочек и шкафа, умудрялись они раздобыть кресло плетеное для балкона, кресло обычное для комнаты, электрическую плитку для жарки картошки, лучшие шторы из красного уголка и даже тюль, который и вовсе не был положен. Не бедствовали они и в остальном. Еще вначале собирали они лагерное приданое из вафельных полотенец, не сданных в прачечную простыней и наволочек, аккуратно складывая его в темный угол шкафа. Со временем прибавлялись к этому куцые подушки, из которых, в расчете одна к пяти, уже в Москве шилась отличная перина, и широкие украинские шторы с тоненькими редкими полосками. Шторы отлично годились для кухни. «Скромненько, но со вкусом». О том, что у них всего по одной кухне, а за все лагерные годы штор всех цветов и размеров собрано немало, подруги не думали.
Именно из-за подушек чуть не случился однажды большой скандал. Выпавшие из огромного пакета прямо под ноги начальнику лагеря, сияли они на вокзальном перроне своими щедро проштампованными боками. Начальник добро свое узнал, а Ира, одновременно теребя пальцами все пуговицы блузки, все же расстегнула верхнюю. Начальственные глаза прогулялись вверх от вокзального асфальта и, описав окружность ровно по пуговице, застыли в дыре декольте. Инцидент был исчерпан окончательно уже в купе где-то между Саки и Джанкоем, и скандала не получилось, а вышло еще большее уважение и педагогический авторитет. Лагерное добро составляло одну, чуть ли не следующую после оздоровительной, цель поездки к морю. Много давала и чемоданная проверка, которой с удовольствием занималась небрезгливая и прямая Ира.
Детские чемоданы перед отъездом были так же полны, как и по прибытии, но место съеденных еще в первую неделю печений и конфет заняли камешки, ракушки, шишки, гладкие булыжники и вся та дребедень, которая так дорога детскому сердцу. Чемоданные крышки, не желавшие сливаться в одно целое с замками, дулись парусами. Сами чемоданы, зияя искривленными пастями, осклабились в злых усмешках, а Ира медленно переходила из палаты в палату, и на полу вырастали две горки. В левой лежали камешки, ветки и прочие скудные дары степи, правая же состояла целиком из остатков предметов личной гигиены. Дорогие обмылки, остатки недешевых шампуней – все это, по словам Иры, избавляло детей от тесноты чемоданного пространства. Дети ей верили. Некоторые иногда просили вместо той или иной баночки получить обратно глянцевый серый камешек, тот, что с продольными полосочками и черными крапинками. Ира разрешала. Родители всегда оставались довольны.
Если Ира чемоданы инспектировала, то Таня обязана была их после закрывать. Прыгая, как коза, она сначала приминала вещи, потом, ловко наклонясь, по-обезьяньи просунув руки, дергала молнию замка. За этим захватывающим занятием застал ее Паша. «Прощаться пришел», – решила она. Одетый во все городское, Паша выглядел франтовато. То ли просто причесанные, то ли специально уложенные волосы создавали видимость прически. Таня же, наученная Ирой, переодевалась в приличное уже возле Москвы. Надев марлевый костюм с толстыми слонами по подолу, она медленно расправляла складки, выпуская животных из мнущихся дебрей. Потом доставала из необъятной косметички пудру, румяна, карандаши и умело красилась, отводя каждому предмету косметики строгое время регламента. В итоге получалось искусно подчеркнутое лицо, с наведенными ресницами и пухлыми малиновыми губами.
Когда тупое вглядывание в окно приобретало смысл, мимо начали проноситься платформы со знакомыми названиями, а вдалеке замаячили родные места, маленькая Аня пискнула: «Павйик идет». Проведя три месяца с логопедом, девочка так и не избавилась от своего дефекта речи. За все время суточного пути Паша пришел к ним впервые. Таня задержку восприняла как руководство к дальнейшему бездействию в отношениях.
Под любопытными детскими взглядами путного прощания не получилось. Паша молчал, Таня вздыхала, думала, что неловко ему с ней объясняться, но не горевала. В Москве ждал лыжник.
В который раз тишину нарушила Аня: «Дядя Паша, а когда у Тани майенький будет?» – и тут же получила крутой поджопник, задав по материным меркам недетский вопрос. Паша ушел, когда замаячил Курский вокзал. Ира распихивала по карманам остатки печенья, рассовывала по пустым местам пайковые батоны колбасы, Таня, сильно щурясь, пыталась угадать во встречающих спортивную фигуру Стаса, а в Аниных стоптанных за сезон красных сандалиях бился ручейком мелкий крымский песок. Кончалось лето.
3
«Маленький», по самым скромным подсчетам, мог появиться у Тани через семь месяцев, и новость эта ее отнюдь не обрадовала. Таня считала себя в делах такого рода весьма компетентной и все никак не могла понять, как это все так получилось. Ясного ответа на свой риторический вопрос она не получала. Выходило все водевильным образом, несерьезно и неправильно, суетливо, мерзко и гадко, не так, как она себе мечтала.
С материнством у Тани складывались всегда непростые отношения. Таня всю жизнь хотела иметь детей, и чем становилась взрослее, тем желание это усиливалось. Еще в школе, в двенадцать лет, когда игры в дочки-матери стали позорным увлечением, выпросила она у мамы немецкого пупса, на манер живого младенца, с пухлыми ручками, складочками, с лысой резиновой головой. Пупс и размерами своими напоминал ребенка, легко умещался в детское одеяло и втаскивался в настоящие детские ползунки. Назвали пупса Костей, хотя признаками принадлежности именно к мужскому полу он не обладал. Был Костя спокойным ребенком. Уходя в школу, Таня ставила перед ним раскрытую книгу, и это называлось «Костя смотрел телевизор». Случались в его жизни и другие события: Костя обедал, Костя купался, Костя ходил гулять, а однажды Костя обкакался и был наказан. Сходство с живым младенцем странным образом сделало Костю популярным. Когда Таня на саночках катала Костю по снегу, а из-под одеяла виднелась голая детская ножка, прохожие останавливались, вглядывались, и некоторые, обалдевшие, медленно уходили, иные просто молча ужасались и лишь немногие не придавали значения кукольному изуверству. Костя спал вместе с Таней, иногда, когда посещало ее благоприятное расположение духа, она кормила Костю грудью, что заключалось в задирании майки и прикладывании резиновой Костиной головы к только начавшей выпирать груди. Безусловно, Костя был желанным ребенком. У него был единственный недостаток, переросший позже в страшный порок. Костя не рос, с каждым днем оставаясь всего лишь бездушным куском пусть и немецкой, но резины. Знакомые женщины, глядя на Танино увлечение, сходились во мнении, что девочка рано выйдет замуж и будет отличной матерью. Но Таня, израсходовав большую часть материнской любви к Косте-истукану, успокоилась. Ей вовсе не приелись материнские хлопоты. Смущало ее обстоятельство неправдоподобия всей этой истории. Неполноценным заменителям Таня не доверяла, а до истины было еще далеко.
В девятом классе Таня снова вспомнила о детях, и толчком к этому послужила уже взаправдашняя история про девочку из параллельного класса, живот которой с трудом помещался в скромные контуры школьного фартука. Девочке разрешили ходить в обычном байковом платье, и теперь она, извечно опустив глаза долу, сначала впускала в класс свой живот, а только следом вплывало ее отечное тело. Таня ей завидовала. Она смотрела на нее на переменах, караулила ее в раздевалке, провожала взглядами из окна. Она не замечала, что девочка неимоверно грустна, что под глазом ее ближе к носу сияет фингал, что каждые полчаса она бросается в туалет, а иногда не успевает, и тогда по колготкам расползаются темные мокрые пятна, и понуро уходит она домой. Тем более Таня не могла знать, каких скандалов стоило девочке это дитя, какие сдержанные, но все же побои терпела она от своего отца, какие унизительные походы совершала она в женскую консультацию. Таня и не хотела всего этого знать. Ее привлекала своеобразная сторона материнства. Она хотела иметь живот, катать нарядную колясочку, она хотела за ручку входить с ребенком в гастроном, но вовсе не думала она, что дети имеют свойство часто болеть, плакать, капризничать. Тем более было ей невдомек, что детей надо воспитывать.