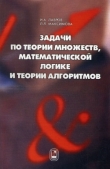Текст книги "Бесконечный регресс и основания математики (ЛП)"
Автор книги: Имре Лакатос
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)

Имре Лакатос
Бесконечный регресс и основания математики
ВВЕДЕНИЕ
[Скептическая философия в течение более двух тысяч лет учила, что невозможно достичь как определенно (conclusively) установленных значений, так и определенно установленных истин. Но установление значения и истины в математике ― как раз цель «оснований».] Классический скептический довод базировался на бесконечном регрессе. Можно попытаться связать значение термина, определяя его в других терминах (это ведет к бесконечному регрессу) или путем определения его в «совершенно известных терминах». Однако действительно ли три термина в выражении «совершенно известные термины» совершенно известные термины? Нетрудно заметить, что и в этом случае возникает недуг бесконечного регресса. Каким образом тогда философия математики всё же утверждает, что в математике есть или должны быть точные понятия? Каким образом она надеется обойти скептический критицизм? Как может она заявлять, что выдвинуты основания математики ― логицистские, метаматематические и интуиционистские? И даже допуская «точные» понятия, как можем мы доказать, что суждение истинно? Каким образом можем мы обойти бесконечный регресс в определениях? Значение и истина могут лишь передаваться, а не устанавливаться. Но если так, как мы можем знать?
Противоречие между догматиками, заявляющими, что мы можем знать, и скептиками, заявляющими, что мы не можем знать или, по крайней мере, не можем знать, что и когда мы можем знать, ― основной вопрос эпистемологии. Обсуждая современные усилия установить основания математики, как правило, забывают, что они не более чем часть громадных усилий преодолеть скептицизм при установлении основания вообще знания. Цель моей статьи показать, что современная философия математики настолько глубоко внедрена в общую эпистемологию, что не может быть понята вне ее контекста. Вот почему первый параграф должен содержать злободневную историю эпистемологии. Респектабельные историки иногда говорят, что предпринятый здесь вид «рациональной реконструкции» является карикатурой реальной истории ― того, что действительно происходило, но с равным правом можно было бы сказать, что как история, так и то, что действительно происходило, ― лишь карикатуры рациональной реконструкции.
1. Останавливая бесконечный регресс в науке
Скептики используют бесконечный регресс, чтобы показать тщетность поиска оснований знания. Точно так же, как и их догматические оппоненты, они принадлежат к числу эпистемологических джастификационистов (justificationists), т.е. их главная проблема состоит в ответе на вопрос «каким образом мы знаем?», и, как и их оппоненты, они думают, что были вынуждены отступить в тенеты «я не знаю» из-за отсутствия твердых оснований знания и истины. Они заключают, что рациональные усилия достичь знания беспомощны, наука и математика софистичны и иллюзорны. Так что для рационализма становится жизненно важным остановить эту раздражающую пару бесконечных регрессов и обрести для знания твердую почву. В попытках достичь этого сложились три грандиозные рационалистические программы: 1) евклидианская программа, 2) эмпирицистская программа, 3) индуктивистская программа.
Все три программы исходят из организации знания как дедуктивной системы. Базисная дефиниционная характеристика дедуктивной системы (не обязательно формальной) ― принцип ретротрансляции (retransmission) ложности «снизу вверх», от заключений к посылкам: контрпример заключению будет контрпримером по отношению хотя бы одной из посылок. Если имеет место принцип передачи ложности, значит, действует принцип передачи истинности от посылок к заключениям. Мы не требуем, однако, от дедуктивной системы, чтобы она передавала ложность посылок к заключениям и истинность от заключений к посылкам.
1) Я называю дедуктивную систему евклидианской теорией, если высказывания, составляющие ее верхушку (аксиомы), состоят из общеизвестных терминов (терминов-примитивов) и если эта верхушка в отношении своих истинностных значений получает истину в качестве непогрешимого (infallible) истинностного значения, истину, которая течет вниз по дедуктивным каналам передачи истинности (доказательствам) и наполняет всю систему. (Если истинностное значение наверху системы было бы ложью, то, конечно же, в системе не было бы потока истинностного значения.) Так как евклидианская программа предполагает, что всё знание может быть дедуцировано из конечного множества тривиально истинных высказываний, состоящих только из терминов с тривиальной смысловой нагрузкой, я буду называть её также программой тривиализации знания*.[1]1
*Locus classicus (букв.: классическое место, здесь: классическое) описание этой программы может быть найдено у Паскаля (Pascal, 1657-1658).
[Закрыть] Поскольку евклидианская теория содержит лишь несомненно истинные высказывания, она не работает ни с предположениями, ни с опровержениями. В евклидианской теории, если она полностью разработана, значение, как и истина, вводится в верхушку теории и без какой-либо деформации по сохраняющим значения каналам номинальных определений стекает от терминов-примитивов к определяемым терминам (аббревиатурам и, стало быть, теоретически излишним). Евклидианская теория eo ipso*[2]2
*Тем самым (лат.)
[Закрыть] внутренне непротиворечива, ибо все высказывания, оказывающиеся в ней, истинны, а совокупности истинных высказываний, разумеется, непротиворечивы.
2) Я называю дедуктивную систему эмпирицистской теорией, если её нижние высказывания (базовые положения) состоят из общеизвестных терминов (эмпирических терминов) и внизу теории возможно введение безошибочных истинностных значений, которые, если это истинностное значение есть ложь, текут вверх по каналам дедукции (объяснения) и наполняют всю систему. (Если истинностное значение есть истина, то, конечно же, в системе не происходит течения истинностного значения.) Таким образом, эмпирицистская теория либо предположительна (исключая, быть может, истинные положения в самом низу), либо состоит из бесповоротно ложных суждений.[3]3
*Наиболее лирическое описание некоторых аспектов эмпирицистской теории дано у М. Шлика.
[Закрыть] В эмпирицистской теории присутствуют теоретические или «оккультные» термины, которые ― вроде средних терминов аристотелианских силлогизмов ― не фигурируют в каких-либо базовых положениях и не обеспечены какими-либо смыслосохраняющими каналами, ведущими к ним.*[4]4
*Средним термином называется такой термин посылки силлогизма, который отсутствует в его заключении. Например, средним термином силлогизма «Сократ человек, все люди смертны, следовательно, Сократ смертен» будет термин «человек». Сравнивая теоретические термины со «средними терминами силлогизмов», называя их «оккультными» и т.д., Лакатос поясняет эмпирицистскую программу обоснования теории: эти термины, считают эмпирицисты, должны быть обоснованы, т.е. в данном случае определены на базе терминов, выражающих непосредственно наблюдаемые свойства.
[Закрыть]
Если в рационалистическом запале не допустить "метафизику", мы примем, независимо от ввода логических значений, ввод значений только внизу и тогда получим «строго эмпирицистскую теорию». Это требование, изобретенное, чтобы отделять науку от невнятицы, является, однако, самоубийственным, так как строго эмпирицистская теория с теоретическими терминами, не считая терминов на нижнем уровне, не имеет смысла.[5]5
Р.Б. Брейтвейт показал, что строго эмпирическая теория без теоретических терминов может быть осмысленной, но неспособной к росту (Braithwaite, 1953, p. 76).
[Закрыть] Эмпирицистская теория может быть как внутренне непротиворечивой, так и противоречивой. Следовательно, эмпирицистская теория нуждается в доказательстве своей непротиворечивости.[6]6
См.: Popper, 1959. P. 91-92. Я не знаю, кто первый предположил, что мы проверяем респектабельные научные теории на непротиворечивость.
[Закрыть]
Евклидианская программа нацелена на построение евклидианских теорий, чьи истинностные и смысловые основания расположены наверху и освещены естественным светом разума, особенно арифметической, геометрической, метафизической, моральной и т.д. интуицией. Эмпирицистская программа нацелена на построение эмпирицистских теорий, чьи истинностные основания расположены внизу и освещены естественным светом опыта. Обе программы вместе с тем, предполагая сохранную передачу истинностных и смысловых значений, опираются на разум (особенно на логическую интуицию).
Я должен подчеркнуть различие между обычным понятием эмпирической теории и более общим понятием эмпирицистской теории. Мое единственное требование к эмпирицистской теории состоит в том, что истинностное значение поступает снизу, каким бы ни был этот низ ― фактуальным", «сингулярным пространственно-временным», «арифметическим» или каким-нибудь иным.*[7]7
*Лакатос указывает здесь на различные возможные трактовки эмпирицистской теории. Эта теория может опираться на «фактуальные положения», выражающие ощущения, т.е. переживания исследователя. Она может опираться, как считает Поппер, на сингулярные «базисные» предложения, принимаемые решением ученых. Эти предложения, описывающие события, вбирают в себя информацию об описанных явлениях, имеющих место в той или иной точке пространства-времени.
[Закрыть] Смысл этого расширения понятия базового положения состоит в том, чтобы сделать понятия эмпирицистской и индуктивистской программ применимыми к математике ― или к метафизике, этике и др.
В традиционной эпистемологии важнейшими понятиями являются не евклидианская и эмпирицистская теории, а, с одной стороны, a priori и a posteriori и, с другой стороны, аналитическое и синтетическое. Последние относятся к высказываниям, а не к теориям; эпистемологи не спешили заметить возникновение высоко организованного знания и ту важную роль, которую играют специфические структуры этой организации. Отсюда эпистемологическое различение уровней введения истинностных значений в теорию приобретает огромное значение, ибо оно определяет течение истинности и ложности в системе. Из какого источника черпаются эти истинностные значения ― из самоочевидности или из чего-нибудь еще ― не так важно для решения многих проблем. Мы можем достичь многого, обсуждая просто, как нечто течет в дедуктивной системе, не обсуждая того, что собственно в ней течет ― безошибочная ли истина или только, скажем, расселовская «психологически неоспоримая» истина, «логически неоспоримая» истина Р.Б. Брейтвейта, витгенштейновская «лингвистически неоспоримая» истина или попперианская оспоримая ложность и «правдоподобие» (verisimilitude), или карнаповская вероятность.*[8]8
*Лакатос подчеркивает, что его здесь не интересует, как понимается истина. Важно, что в дедуктивную систему поступает истинностное значение или какой-то его заместитель типа карнаповской вероятности, правдоподобия. «Карнаповская вероятность» ― это подсчитанная по определенным правилам условная вероятность гипотезы относительно эмпирического свидетельства (см.: Карнап Р. Философские основания физики. М.: Прогресс, 1971. С. 78).
[Закрыть]
Увлекательная история евклидианской программы и ее упадка еще не написана, хотя вообще-то известно, что в высших регионах дедуктивных структур современная наука движется к терминам все более теоретическим и к высказываниям все более невероятным, а не к более тривиальным терминам и высказываниям. Переключиться на эмпирицистскую программу и фиксировать основания внизу теории было очень трудно; это был один из наиболее драматических моментов в истории человеческого мышления, ибо из него следовало радикальное изменение в первоначальном евклидианском рациональном мировоззрении. Если истинностное значение вводится лишь снизу, теория либо предположительна, либо ложна. Таким образом, тогда как евклидианская теория верифицируется, эмпирицистская теория фальсифицируема, а не верифицируема. Обе программы не обходятся без истин, которые, взятые порознь, тривиальны и неинтересны, но благодаря своему местоположению тривиальная истина заполняет всю евклидианскую теорию, чего не происходит в эмпирицистской теории.
Евклидианец никогда не признает поражения: его программа не допускает опровержения. Невозможно опровергнуть экзистенциальное утверждение о том, что существует набор тривиальных первых принципов, из которых следует вся истина. Наука, стало быть, всегда может быть подчинена евклидианской программе как регулятивному принципу, "влиятельной метафизике".*[9]9
*Лакатос в этом месте подходит к понятию научной исследовательской программы, сформулированному им в последующих работах. Разбираемые им программы обоснования математики могут быть истолкованы в духе этого понятия. Экзистенциальное утверждение о том, что существует набор тривиальных первых принципов, из которых следует вся истина, составляет «жесткое ядро» евклидианской научной исследовательской программы. Это «жесткое ядро» окружено «защитным поясом», включающим конкретные исчисления, отвечающие евклидианской установке. «Жесткое ядро» сохраняется, пока исследовательская программа работает. Его можно уподобить «влиятельной метафизике», т.е. положениям, стоящим над эмпирической проверкой и направляющим научный поиск. (Поппер и попперианцы ушли от того отрицательного отношения к «метафизике», которое было у неопозитивистов.)
[Закрыть] Всякий раз, когда какая-либо отдельная «кандидатура» не проходит в евклидианские теории, евклидианец может отрицать, что евклидианская программа как целое разбита. Фактически строгие евклидианцы постоянно открывали для себя, что «евклидианские» теории их предшественников не были в действительности евклидианскими, что интуиция, устанавливавшая истинность аксиом, была неправомерной, сбившейся, что это был блуждающий огонек, а не истинно направляющий свет разума. Они могут либо снова начать сначала, либо заявить, что извилистая тропа к солнечным вершинам тривиальности идет только через мрачные ущелья. Остается лишь надеяться и карабкаться дальше.
Близорукий и усталый евклидианец, возможно, примет темное ущелье за сияющую вершину. В то время как критика и, конечно же, опровержение могут детривиализировать наиболее тривиальные на вид предпосылки знания, прекрасный пример ― эйнштейновская критика одновременности, авторитарная трактовка и корроборация могут тривиализовать (толкая к неоспоримым основаниям знания) весьма утонченные на вид спекуляции, забавный пример ― кантовский подход к ньютоновской механике. Опровержение заставляет нас учиться, корроборация ― забывать. Таким образом, самонадеянный рационализм может ― оказавшись чем-то вроде "резинового евклидианизма" ("rubber-Euclideanism") ― расширить границы самоочевидного, и он, вероятно, делает это, причем не только в победоносные для себя периоды, но также и в периоды отчаянного отступления.
3) Некоторые догматики постарались спасти Знание от скептиков, используя неевклидовый метод. Изгнанный с верхнего уровня разум стремится найти прибежище внизу. Однако истина внизу не имеет той силы, которую она имела наверху. Для восстановления симметрии была призвана индукция. Индуктивистская программа возникла в рамках усилий соорудить канал, посредством которого истина течет вверх от базисных положений, и таким образом установить дополнительный логический принцип, принцип ретротрансляции (retransmission) истины. Такой принцип делает законным то наполнение системы истиной снизу, которое предполагает индуктивист. «Индуктивистская теория», подобно евклидианской теории, является, конечно, внутренне непротиворечивой, ибо все входящие в нее высказывания истинны.
В XVII в. индуктивный канал не выглядел очевидно невозможным, как он выглядит теперь: ведь тогда дедукция базировалась на картезианской интуиции, а аристотелевская формальная логика принижалась. Если существует дедуктивная интуиция, почему бы не составить ей пару в виде индуктивной интуиции? Однако история логики (или теории каналов истинностных значений) от Декарта до наших дней была в сущности историей критики и совершенствования дедуктивных каналов и разрушения индуктивных каналов. Как то, так и другое осуществлялось путем превращения логики в «формальную».
Если индуктивизм снизу, исходя из обычного эмпирического базиса, желает доказать сомнительные оккультные теоретические высказывания, он должен также тщательно прояснить значения теоретических терминов. Без зрелых понятий нет зрелых истин. Таким образом, индуктивисту приходится определять теоретические термины в «наблюдаемых». Это не может быть сделано формулированием явных определений, и индуктивист пытается выйти из положения, формулируя неявные контекстуальные определения, формулируя «логические конструкты».*[10]10
*В свое время неопозитивисты много внимания уделяли логическому аппарату, позволяющему строить определения теоретических конструктов в терминах непосредственного наблюдения. Контекстуальным называется определение, в котором значение термина задано некоторым контекстом или контекстами, на основе анализа которых оно может быть сформулировано в явном виде (см.: Горский Д.П. Определение: логико-методологические проблемы. М.: Мысль, 1974. С. 50-61).
[Закрыть] Когда в математике хотят доказать что-либо сверху, приходится переопределять, реконструировать все, пользуясь общеизвестными терминами, расположенными вверху теории. Когда в естественной науке хотят доказать что-либо снизу, приходится переопределять, реконструировать все, пользуясь общеизвестными терминами, расположенными внизу теории («строгий индуктивист», в частности, стремится к тому, чтобы не только истина текла снизу, но и значение двигалось таким же образом, ибо истина не может втекать в неосмысленные высказывания). Проблема индуктивного доказательства и проблема определения теоретических терминов в наблюдаемых ― она может быть названа проблемой индуктивного определения ― являются, таким образом, проблемами-близнецами, а их разрешимости ― иллюзиями-близнецами.*[11]11
*Расселовский метод «конструкционизма» был попыткой решить проблему индуктивного определения и, следовательно, установить твердое концептуальное основание для его индуктивизма.
[Закрыть]
Первоначальная версия индуктивистской программы была разрушена скептической критикой. Но большинство еще не может принять эмпирицистскую революцию, они еще рассматривают ее как оскорбление достоинства Разума. Некоторые новейшие идеологи индуктивизма ― я теперь обращаюсь к характерному воззрению логического позитивизма ― создали обширную литературу в защиту новой, ослабленной, версии старой программы в защиту вероятностного индуктивизма. Кроме того, они не могут допустить (и в этом они правы), чтобы научная дедуктивная система была бы неосмысленной. Более того, они утверждают, что теория осмысленна, если ее днище достигает уровня наблюдаемых положений. Однако в то время как их «принцип верификации» допускает, что теоретические положения являются осмысленными, мы остаемся в потемках относительно того, каково же их действительное значение. Строгие эмпирицисты не могут допустить иного введения смысла, чем снизу теории. Они не правы в этом. Но являются ли тогда теоретические положения осмысленными, не обладая каким-либо особым смыслом? Они разрешают эту дилемму, радикально расширяя понятие определения ― понятие передачи значения ― настолько, чтобы охватить «редукцию», логическую манипуляцию, призванную передавать вверх от наблюдаемых к теоретическим терминам если не полные, то по крайней мере некоторые частичные эрзацевые значения.
Затем, так как они знают и принимают формальную логику, они вынуждены рассматривать индукцию как неполноценный вывод. Но теперь, расширив понятие передачи значения, они расширяют понятие передачи истинности таким образом, что допускают ретротрансляцию вверх от положений наблюдения к теоретическим положениям если не полноценной истины, то, по крайней мере, частичной вероятностной истины, некоторой "степени подтверждения".*[12]12
*Эта идея может быть прослежена от Лейбница (Лейбниц, 1984. С. 420-421) и Гюйгенса (Huyghens, 1690, Preface; Гюйгенс, 1935. Предисловие). Индуктивная логика была замещена Кейнсом, Рейхенбахом и Карнапом новой, более слабой, вероятностной логикой. См. ссылки и критику у Поппера (Popper, 1959, chap. X).
[Закрыть]
Теория, построенная на вероятностной индукции, вероятно непротиворечива. В любой момент может появиться вероятностная теория вероятностной непротиворечивости.
Критикуя устарелый, недееспособный и претенциозный новейший индуктивизм, не следует забывать его благородное происхождение. Кредо индуктивиста XVII-XVIII вв. играло важную и прогрессивную роль. Это была Lebenslüge*[13]13
*Ложь во спасение (нем.).
[Закрыть] молодой спекулятивной науки в темную допопперианскую эпоху Просвещения*[14]14
*Подобно тому как Просвещение объявило темной ночью эпоху средних веков, Лакатос иронически погружает в «темную ночь» допопперианскую науку, науку эпохи Просвещения. Эта ирония идет в русле типичного для философии XX в. разоблачения «предрассудков Просвещения».
[Закрыть], когда догадки презирались, а опровержение считалось неприличным и где установление надежного источника истины было вопросом выживания. Передача власти от Откровения фактам, разумеется, встречала оппозицию церкви. Схоластические логики и «гуманисты» не уставали предрекать печальный исход индуктивистского предприятия, показывали ― на базе формальной аристотелевской силлогистики, ― что не может быть законного вывода от действий к причинам и научные теории, следовательно, не могут быть истинными, они могут быть лишь инструментами погрешимых (fallible) предсказаний, т.е. «математическими гипотезами». Они провоцировали тех идеологов современной науки, которые отвергали аристотелевскую логику и проповедовали неформальную индуктивную логику и индукцию. Защищая истину откровения, они подвергали разрушительной критике истину разума и опыта. В XVII в. альянс евклидианизма и индуктивизма защищал науку от унижения и боролся за её высокий статус.
Эмпирицисты совершенствовались, критикуя евклидианизм. Они критиковали гарантию интуитивной евклидианской истинности, вводимой в теорию, ― самоочевидность. Завершающий эмпирицистский удар по индуктивизму был, однако, парадоксальным образом нанесен философом, который совершал эпистемологическую революцию, находясь за пределами эмпирицизма, а именно ― Поппером. Критикуя вероятностную версию теории индуктивного вывода, Поппер показал, что снизу вверх не может идти даже частичная передача истины и значения. Он также показал, что введение смыслового и истинностного значений снизу теории совсем нетривиально, что нет "эмпирических терминов", а есть только «теоретические», и что нет ничего окончательного в истинностных значениях базисных положений, и тем самым осовременил древнегреческую критику чувственного опыта.
4) Попперианский критический фаллибилизм принимает бесконечный регресс в доказательстве и определении со всей серьезностью, не питает иллюзий относительно «остановки» этих регрессов, воспринимает как свою собственную скептическую критику любых заявлений о безошибочном вводе истины. При таком подходе основания знаний отсутствуют как вверху, так и внизу теории, но могут быть пробные вводы истинности и значения в любом ее месте. «Эмпирицистская теория» либо ложная, либо предположительная. «Попперианская теория» может быть только предположительной. Мы никогда не знаем, мы только догадываемся. Мы можем, однако, обращать наши догадки в объекты критики, критиковать и совершенствовать их. В рамках этой критической программы многие из старых проблем ― вроде проблем вероятностной индукции, редукции, оправдания синтетического априори, оправдания чувственного опыта и т.д. ― становятся псевдопроблемами, так как все они отвечают на неверный догматический вопрос: «Каким образом мы знаем?» Вместо этих старых проблем возникает много новых. Новый центральный вопрос: «Каким образом мы улучшаем свои догадки?» ― достаточен, чтобы философы работали века; а вопросы: «Как жить, действовать, бороться, умирать, когда остаются одни только догадки?» ― дают более чем достаточно работы будущим политическим философам и деятелям просвещения.
Неутомимый скептик, однако, снова спросит: "Откуда вы знаете, что вы улучшаете свои догадки?" Но теперь ответ прост: «Я догадываюсь». Нет ничего плохого в бесконечном регрессе догадок.
2. Остановка бесконечного регресса путем логической тривиализации математики
В период с XVII по XX в. евклидианизм совершал грандиозное отступление. Спорадические арьергардные вылазки с целью пробиться сквозь строй гипотез к высотам первых принципов постоянно терпели неудачу. Погрешимая изощренность эмпирицистской программы выигрывала, непогрешимая тривиальность евклидианизма проигрывала. Евклидианизм мог выжить только в таких недоразвитых сферах, где знание еще тривиально, вроде этики, экономики и т.д.
Это четырехвековое отступление, кажется, полностью прошло мимо математиков. Евклидианцы сохранили здесь свою первоначальную сильную позицию. Беспорядок в анализе в XVIII в. был, конечно, неприятным фактом. Начиная, однако, с революции в строгости, отмеченной именем Коши, они медленно, но верно, пошли к сияющим высотам. Путем евклидианизации, причем сознательной евклидианизации, Коши и его последователи совершили чудо: они обратили "ужасающую путаницу анализа" (Abel, 1826, p. 263) в кристаллически ясную евклидианскую теорию. "Эта великая школа математиков, сформулировав начальные определения, спасла математику от скептицизма и построила строгое доказательство (demonstration) её высказываний" (Ramsey, 1931, p. 56).[15]15
Цитата из статьи Рамсея (Ramsey, 1931, p. 56). Следуя Рамсею, Рассел (Russell, 1959, р. 125) использовал эту фразу, чтобы характеризовать свои собственные намерения и свой метод.
[Закрыть] Математика была тривиализована, выведена из неоспоримых, тривиальных аксиом, в которых фигурировали лишь абсолютно ясные тривиальные термины и из которых истина текла вниз по ясным каналам. Понятия «непрерывность», «предел» и т.д. были определены в терминах таких понятий, как «натуральное число», «класс», «или» и т.д. «Арифметизация математики» была самым удивительным евклидианским достижением. Даже эмпирицисты были вынуждены допустить, что Евклид, этот «злой гений» науки, должен быть признан «добрым гением» математики (Braithwaite, 1953, p. 353). Действительно, новейшие логические эмпирики были далеко не радикальными эмпириками в естественных науках (большинство из них индуктивисты), но радикальными евклидианцами в математике. Твердокаменные евклидианцы (такие, как молодой Рассел), однако, никогда не удовлетворялись этим ограниченным царством: они упорно работали над полной реализацией своей программы в математике в надежде вернуть утраченные территории, т.е. евклидизировать и тривиализовать весь универсум знания.
Не было еще евклидианской теории, которая устояла бы перед лицом скептической критики. Причем наиболее чувствительные доводы против математического догматизма исходили из мучительных сомнений самих догматиков: "Действительно ли мы достигли терминов-примитивов? Действительно ли мы достигли аксиом? Действительно ли наши каналы сохраняют истинность?" Эти вопросы играли решающую роль в великой работе, предпринятой Фреге и Расселом, чтобы вернуться к еще более фундаментальным первым принципам, нежели аксиомы арифметики Пеано.*[16]16
*В 1889 г. Г. Пеано предложил аксиоматизацию арифметики натуральных чисел, ставшую потом предметом ряда уточнений и формализации. Рассел следующим образом оценивал работы Пеано: «Великим учителем в искусстве формального рассуждения является в наше время итальянец Пеано, профессор Туринского университета. Он привел большую часть математики (со временем это удастся ему и его последователям относительно всей математики) к точной символической форме, в которой совершенно отсутствуют слова. В обыкновенных математических книгах, без сомнения, и теперь меньше слов, чем желательно многим читателям. Однако время от времени встречаются маленькие фразы, как-то: поэтому, предположим, рассмотрим. Но и эти слова исключены проф. Пеано. Например, если мы хотим изучить всю совокупность арифметики, алгебры и анализа… мы должны исходить их трех слов. Один символ обозначает нуль, другой ― число, третий ― следующий за» (Рассел, 1913, с. 86-87).
[Закрыть] Я сконцентрирую особое внимание на подходе Рассела и покажу, как потерпела неудачу его исходная евклидианская программа, каким образом он был отброшен назад к индуктивизму и каким образом он предпочел сбиться с пути, чем признать и принять тот факт, что интересное в математике предположительно.
Главная проблема философии Рассела ― спасти Знание от скептиков. "Скептицизм, являясь логически непогрешимым, психологически неприемлем; во всякой философии, которая намерена принять его, присутствует элемент легкомысленного лукавства" (Russell, 1948, p. 9).*[17]17
*В русском переводе: «элемент фривольной неискренности».
[Закрыть]В юности он пытался избежать скептицизма с помощью далеко идущей евклидианской программы. Его «философское развитие»*[18]18
*Название автобиографической книги Рассела (Russell, 1959).
[Закрыть] было постоянным и постепенным отступлением от евклидианизма, храбрым сражением за каждый дюйм оставляемой территории и попытками спасти столько достоверности, сколько можно.
Интересно вспомнить оптимизм его ранних планов. Рассел полагал, что прежде чем "распространять сферу достоверности на другие науки", он обязан добиться "совершенной математики, не оставляющей места сомнению" (Russell, 1959, p. 36). Для этого придется "опровергнуть математический скептицизм" (ibid, р. 209) и таким образом сохранить евклидианский плацдарм для организации дальнейшего общего наступления. Таким образом, отправным пунктом философской карьеры Рассела было упрочение математики в качестве евклидианского плацдарма.
Он нашел математические доказательства поразительно ненадежными. "Подавляющая часть аргументации, которую мне было велено принять, была очевидно ошибочной" (ibid, р. 209). И он не был удовлетворен достоверностью аксиом ― геометрических и арифметических. Он отдавал себе полный отчет в скептической критике интуиции: раз и навсегда лейтмотивом его публикаций была борьба со "смешением психологически субъективного и логически априорного" (Russell, 1895, р. 245). Каким образом можно установить, что вводы истины сверху в теорию неоспоримы? Разбирая эту проблему, он проанализировал одну за другой аксиомы геометрии и арифметики и обнаружил, что они основываются на различных видах интуиции. В своей первой опубликованной статье (1896) Рассел проанализировал с этой точки зрения аксиомы евклидовой геометрии и нашел, что некоторые из аксиом с достоверностью истинны и в особенности a priori истинны, ибо «их отрицание влечет логические и философские несообразности» (Russell, 1896, р. 3). Он, например, квалифицировал как априорную истину гомогенность пространства, ибо «отсутствие гомогенности и пассивности абсурдно; философы, насколько я знаю, никогда не испытывали сомнений в этих двух свойствах пустого пространства: действительно, они по всей видимости вытекают из максимы, что ничего не может воздействовать на ничто… Мы должны, следовательно, на чисто философских основаниях принять это как аксиому, например, как аксиому конгруэнтности» (ibid, р. 4). С другой стороны, он квалифицировал аксиому о трехмерности пространства как эмпирическую, правда, он утверждал, что её достоверность почти настолько же велика, как если бы она была априорной истиной (ibid, р. 14). Эта аксиома, однако, «логически не необходима» [курсив мой. ― И.Л.] и только «предположительно её очевидность может быть извлечена из интуиции» (ibid, р. 23).
Итак, Рассел пытался установить иерархию априорных истин, "математических верований", геометрических или арифметических. Он "прочитывал книги, стараясь найти такую, которая представляла бы более твердую основу для них" (Russell, 1959, р. 209). Таким образом, он наткнулся на Фреге.*[19]19
*Г. Фреге (1848-1920), Б. Рассел (1872-1970).
[Закрыть] Он сразу же признал решение Фреге ― извлечь всю математику из тривиальных логических принципов. Арифметическая интуиция была выброшена в мусорную корзину для отслуживших детривиализованных тривиальностей, разделив судьбу механической и геометрической интуиции, в то время как воцарилась логическая интуиция, причем не просто как «интуиция», но как непогрешимое интеллектуальное проникновение, как супертривиальная суперинтуиция. Арифметическая тривиализация математики была развенчана и замещена её логической тривиализацией.
Чтобы по достоинству оценить этот шаг, нам надо рассмотреть то особое место, которое занимает логическая интуиция. Евклидианцы развенчивали один за одним интуитивные источники ввода истины в теорию сверху, находимые (принимаемые) своими предшественниками. Открытие иррациональных чисел заставило древних греков отказаться от пифагорейской арифметической интуиции в пользу евклидианской геометрической интуиции: арифметика должна была быть переведена в кристально ясную геометрию. Чтобы завершить этот перевод, они разработали свою сложную "теорию пропорций". "Проясняя понятие иррационального числа", XIX в. переключился опять на арифметическую интуицию как на доминантную. Позднее за эту роль конкурировали канторовская теоретико-множественная интуиция, расселовская логическая интуиция, гильбертовская «глобальная» интуиция и интуиция «конструктивистов» брауэровского толка.*[20]20
*Теоретико-множественная интуиция требуется, чтобы оперировать с первичными понятиями канторовской (наивной) теории множеств. «Под множеством, ― писал Кантор, ― мы понимаем любое объединение в одном целом М определенных вполне различаемых объектов m из нашего восприятия или мысли» {Кантор Г. Теория множеств. М.: Наука, 1985. С. 173). Глобальная интуиция ― это минимальная интуиция, необходимая для работы с формальной системой. Она нужна для того, чтобы решить, «совпадают ли два рассматриваемых символа или нет» (Френкель А., Бар-Хиллел И. Основания теории множеств. М.: Мир, 1966. С. 319). Касаясь интуиции «брауэровского толка», С. Клини, сам сторонник интуиционизма, пишет, что, согласно Брауэру, «для математики не остается никакого другого источника, кроме интуиции, которая с непосредственной ясностью помещает перед нашими глазами математические понятия и выводы… Анализируя идею натурального ряда чисел, мы видим, что она может быть основана на возможности, во-первых, рассматривать какой-либо предмет или опыт как данный нам независимо от всего остального мира, во-вторых, отличать одно такое рассмотрение от другого и, в-третьих, представить себе неограниченное повторение процесса» (Клини, 1957, с. 52).
[Закрыть] В ходе этой баталии логическая интуиция играла особую роль: ибо всякий, кто выигрывал битву за аксиомы, вынужден был полагаться на логическую интуицию как на переносчика истины с верхушки теории к остальным ее частям. Даже эмпирицисты, которые громили в науке интуицию верхнего уровня (в то время как защищали интуицию снизу, фактуальную интуицию), должны были полагаться на тривиально надежную логику, позволяющую транслировать их опровержение вверх. Если критицизм мыслится определяющим, он должен наносить смертоносный удар, обеспеченный неопровержимой логикой. Особый статус логической интуиции объясняет, почему даже архипротивники интуиции не перечисляли логическую интуицию под рубрикой «интуиции» вообще ― ибо они нуждались в логической интуиции, чтобы критиковать другие виды интуиции. Но если догматик любой программы ― евклидианец любой деноминации, индуктивист, эмпирицист ― нуждается в тривиальной, поистине непогрешимой логической интуиции, то показать, что вся математика не нуждается в какой-либо другой интуиции, кроме логической, будет действительно огромной победой: как для аксиом, так и для трансляции истинности останется только один источник достоверности.
Логическая интуиция, однако, должна была первой сделаться автономной, должна была очиститься от внешних интуиций. В классической евклидианской теории каждый релевантный шаг должен был оправдываться специальной аксиомой. Любое положение формы "A влечет B" или, скорее, "A с очевидностью влечет B" должно рассматриваться в качестве независимо истинного. Картезианская логика содержит неопределенную бесконечность тематически зависимых аксиом. Рассел предусмотрел полноправную логику, состоящую из нескольких специальных тривиальных «тематически нейтральных» аксиом. Он вначале не осознавал то, что если логика должна стать сверхтривиальной евклидианской дедуктивной системой, она должна содержать, с одной стороны, сверхтривиальные аксиомы, а с другой ― сверхсверхтривиальную логику логики, содержащую в себе специальные правила передачи истины. «Вся чистая математика ― арифметика, анализ и геометрия ― строится путем комбинаций примитивных идей логики, и её предложения выводятся из общих аксиом логики, т.е. из силлогизма и других правил вывода» (Russell, 1901, р. 76; Рассел, 1913, с. 84). Эти аксиомы теперь будут действительно тривиально истинны, сияя несомненностью в естественном свете чистого логического разума, «краеугольными камнями, скрепленными в вечный фундамент, доступный человеческому разуму, но несмещаемый им» (Frege, 1893, р. XVI). Термины, оказывающиеся в них, будут действительно совершенно ясными логическими терминами. Словарь будет состоять лишь из двух тривиальных терминов: отношение и класс. «Если вы хотите стать арифметиком, вам надо знать, что эти идеи значат». Но нет ничего более легкого. «Придется допустить, что то, что математик должен знать, начинается с немногого» (Russell, 1901, р. 78-79; Рассел, 1913, с. 87). В этот период ― за месяц или за два до открытия его парадокса ― он думал, что безусловная евклидизация математики обеспечена и скептицизм навсегда повержен: «Во всей философии математики, которая бывала по меньшей мере настолько же полна сомнений, насколько всякая другая область философии, порядок и достоверность заменили путаницу и колебание, которые раньше царствовали» (ibid, р. 79-80; там же, с. 88).