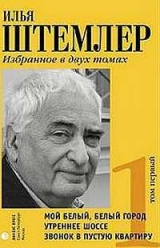
Текст книги "Звонок в пустую квартиру"
Автор книги: Илья Штемлер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Лаборатория, заброшенная на край города, на Пулковские холмы, наряду со сладкой вольницей выпятила и недостатки безнадзорной жизни – отсутствие элементарной служебной дисциплины…
– Илья! – после нескольких сиротских публикаций жена решила приучить себя к моему литературному имени. – По радио сообщили, что в Пулковской обсерватории сегодня выступают Окуджава и Аксенов. Не прозевай, потом расскажешь.
Я вернулся в подвал. Громоздкий бобиновый магнитофон вытягивал из динамика хриплоголосую песню какого-то Владимира Высоцкого. Пленку принес всезнайка Васюточкин. О Высоцком я ничего не слыхал, но Васюточкин уверял, что это восходящая звезда. И, признаться, песни его захватывали – бесшабашная, злая удаль и безудержный тонкий юмор. А Окуджаву я слышал, о нем уже много говорили. Стихи и музыка трогали за душу своим ясным и щемящим смыслом. Я люблю в искусстве ясность. Может быть, от лености ума, а может, оттого, что ясное искусство – если это настоящее искусство – трогает сразу, и только потом начинаешь доискиваться, чем же оно потрясло! Или не доискиваться, ибо ясность исчерпываема по своей сути. И в то же время неисчерпаема, как у Шекспира! Или у Пушкина! Загадка! Сообщение о выступлении московских знаменитостей всколыхнуло лабораторию. Лишь ходок из Красноярска уныло вздохнул: он думал, что поступили новости от механиков, не век же ему торчать в подвале и спать на полу в обнимку со своим поломанным градиентометром. Стало жаль парня. Я решил нарушить регламент – вручить ходоку уже отремонтированный прибор, давно ждущий хозяев, геологов из Воркуты, а поломанный красноярский оставить, довести до ума, переменить маркировочные шильдики и отдать воркутинцам, когда явятся. Доброе дело, даже самое пустяковое, вызывает прилив самоуважения, поднимает настроение. С таким приподнятым настроением я вышел на площадку перед гостиницей, с тем чтобы направиться в актовый зал, расположенный в главном корпусе…
В сквере, напротив пересохшей чаши бассейна, заложив руки за голову, сидел Борис Стругацкий – я часто в обеденный перерыв заставал его в этой позе. Рядом с Борисом читала газету его жена Ада. Мы не были представлены и обычно здоровались официальным суховатым кивком, когда ненароком оказывались в поле зрения друг друга. Честно говоря, я как-то робел перед Борисом, знал, что он пишет фантастику вместе с братом Аркадием. Даже опубликовал повесть «Страна багровых туч». Хотел поближе познакомиться, только трудились мы на разных уровнях: я в подвале, а он на гребне холма, в самом сердце астрономической науки. Да и вид Бориса казался высокомерно-неприступным: крупнотелый, большерукий, с белым, несколько мясистым лицом и тонкими брезгливыми губами. Стекла очков прятали настороженные глаза, уменьшая их в размере. Признаться, и до сих пор я как-то смущаюсь его присутствием – то ли мешает широкая известность Бориса, то ли давняя, пустившая корни робость, хоть человек я далеко не робкий. Не последнюю роль сыграла и его манера поведения – некоторая отстраненность. То ли это преграда, которую он возвел и всячески оберегает от «дурного глаза», то ли напускной имидж обитателя Олимпа. Кому, как не ему, соавтору романа «Трудно быть богом», известны тонкости сохранения «божественного имиджа». Ну, да ладно, он хороший писатель и, что не менее важно, умный публицист. Его позиция гражданина вызывает уважение…
Помню, я собирал материал для романа «Уйти, чтобы остаться», герои которого были астрофизиками, и попал в Институт теоретической астрономии к членкору академии Иосифу Шкловскому. Разнесся слух, что приехал писатель из Пулковской обсерватории. Я услышал восхищенное придыхание: «Стругацкий приехал!» Народ сбегался с этажей. Каково же было разочарование, когда узнали, что произошла накладка: приехал вовсе не Стругацкий, а другой – кто, уже не имело значения. Я не был знаком с братом Бориса – Аркадием, видел только несколько раз в ЦДЛ и почему-то всегда он нес от стойки бара рюмку с коньяком, держа ее на уровне груди, торжественно, как приз. Но мой близкий приятель, писатель и переводчик с вьетнамского Мариан Ткачев, так часто и много о нем рассказывал, что, мне кажется, я знал Аркадия лично…
– Слышали? Окуджава приедет с Аксеновым, – подавляя робость, обратился я к Стругацким.
Ада по-доброму улыбнулась. Борис что-то пробурчал и снисходительно улыбнулся. Улыбка его преображала, делала теплее, доступнее.
В зале «негде было иголку обронить». Не думал, что в обсерватории работает столько людей…
Окуджава – тощий, сутулый и вихрастый – чем-то напоминал мне знаменитого в то время артиста Беньяминова, возможно, упрямо торчащей шевелюрой и большими грустными глазами. Аксенов – среднего роста крепыш, с мягким лицом и мужественным, чуть выступающим подбородком – был более приветлив, чем его угрюмый коллега с гитарой на широком ремне.
С ними приехал еще поэт. Низкорослый, широкий, на коротких крепких ногах. Он перемещался по сцене, словно по покатой плоскости, как бы цепляясь ступнями за какие-то неровности, и читал хорошие стихи. Спустя много лет, в 1986-м, он подарил мне свой стихотворный сборник «Погоня» и надписал: «Дорогому Илье. С дружбой и нежностью. Григорий Поженян. Переделкино». А спустя еще несколько лет Григорий во мне разочаровался, просто возненавидел и прервал всяческие отношения. Но когда по Переделкину разнесся слух, что меня убили, именно Поженян как преданный друг поднял на ноги весь писательский поселок. Он да мои добрые друзья – Юнна Мориц и Зоя Богуславская. А узнав, что я жив-здоров, что произошла ошибка, что я нахожусь дома, в Ленинграде, Поженян вновь стал меня не любить, правда, уже помягче – хоть сквозь зубы, но разговаривал. За что? По глупости. Чьей?! Это кроссворд, требуется точность для определения истины. Я потом расскажу, если не надоем себе этими записками. С Василием Аксеновым, хоть мы встречались нечасто, у меня сложились самые теплые отношения. И о них речь впереди…
Выступление троицы шло с успехом. Веяло ветром грядущей «оттепели» первой половины шестидесятых. То, о чем пел Булат Окуджава, читали Василий Аксенов и Григорий Поженян, было для моих, пока еще затянутых тиной, ушей не совсем новым – я уже кое-что слышал на магнитофонных лентах, читал в журналах «Юность» и «Новый мир»; но одно дело просто слышать, другое – и слышать, и видеть…
Успех определяло еще то, что зерно падало в удобренную почву. Демократические настроения в научной среде проявляются упрямее, чем где-либо. В ученых нуждается любая власть, благодаря этому они могли позволить себе некоторое вольномыслие и независимость. И еще – оттого, что законы естества, законы науки объективны и не подчиняются никакой идеологии, это, в определенном смысле, отражается и на тех, кто исследует эти законы.
Помню, в Коктебеле я шел пляжем за энергичным, загорелым, спортивным мужчиной, что пригласил меня на прогулку. То был академик Бруно Понтекорво, физик, член итальянской компартии. Он бежал в Россию от «американского маккартизма» в поисках идеала коммунистического учения еще в начале пятидесятых годов… Понтекорво шел по коктебельскому галечнику и на весьма приличном русском языке громко вещал, что, по его мнению, каждый второй на пляже – стукач. Возможно, он рисовался своим вольномыслием перед юной спутницей – стройной фигуркой в купальнике – не знаю. Я смущенно оглядывался, подобное заявление вслух было мне не очень привычно. Вечером, на веранде дома, за чашкой чая, академик развивал эту же мысль в кругу малознакомых ему людей. Он говорил о проникновении КГБ в науку, что даже у него в лаборатории есть соглядатаи. И он знает кто. Что он уехал от «американского маккартизма» не для того, чтобы втюхаться в советский… Правда, в дальнейшем я слышал, что физик-итальянец состоял в довольно сложных отношениях с тем же КГБ, неспроста же его допустили к самым-самым тайнам нашей физической науки. Мне же он запомнился человеком, который разгонял кровь своими репликами. Смелость захватывает, пьянит, манит не только вольностью разговоров. Смелый человек и ведет себя особенно…
По просьбе журнала «Аврора» я отправился в Крым на Всемирный конгресс по космической газодинамике с целью написать очерк. «Оттепель» уже отгуляла свое, ушла в предание вместе с Никитой Сергеевичем Хрущевым, стояла вторая половина шестидесятых, время закручивания гаек. Эфир лихорадили зарубежные голоса с информацией о политических репрессиях против инакомыслящих. Появилось слово «диссидент». Сквозь писк глушилок процеживались фамилии Синявского и Даниэля…
Санаторий «Парус», где проводили конгресс, охраняли несколькими кордонами – птица не пролетит. Еще бы, на конгресс приехали ведущие физики из-за «железного занавеса»! Я не мог понять, от кого охраняют, если те, от которых защищались, были официальными гостями. Возможно, охраняли тех от наших?!
В перерывах между заседаниями участники конгресса выходили на лужайку, к просторному бассейну, вокруг которого они играли в новую заморскую игру фрисби – поочередно ловили круглые пластмассовые диски, что запускали партнеры. Яркую цветную забаву привез известный американский астрофизик Коллгейт. Кроме его учености, молодости, белокурой красавицы-жены, широкой ковбойской шляпы и высоких туристских сапог, что пластались поверх еще невиданного на Руси дива – джинсовых штанов, было известно: американец – настоящий миллионер, один из членов семьи богатейшего рода, занесенного в особую книгу. Что наглухо отбрасывало физика в ряды злейших врагов страны рабочих и крестьян и требовало соответственного догляда… Имена партнеров классового врага по игре во фрисби были известны всему миру – не очень широко, но уже достаточно прозрачно, как их ни оберегали долбаные органы от «сглаза», особенно от своего, «нашенского» народа, – больно уж фамилии нетипичные. Академик Виталий Гинзбург, академик Юлий Харитон, академик Яков Зельдович, член-корреспондент Иосиф Шкловский – просто как нарочно! Вот какие мужи, точно дети, по очереди кидали друг другу диск и оглашали тихий омут санатория «Парус» криками и беспечным смехом. Вдруг диск упал в воду. Он призывно мерцал посреди водного зеркала, словно царственный цветок. И сразу со своих мест сорвались Зельдович и Коллгейт. Перемахнув через бортик бассейна, они наперегонки – один в дивных джинсах и сапогах, второй в штанах общесоветского покроя и в чешских туфлях «Батя» – бросились к диску, разгоняя мириады брызг. Первым успел подскочить Зельдович. Он поднял диск над головой, издал победный крик и, мокрый по пояс, протопал к красавице американке, жене Коллгейта, церемонно поцеловал ей руку и передал добычу. Все зааплодировали. А два физика – Коллгейт и Зельдович, орошая траву потоками воды, обнявшись, направились к санаторному корпусу, веселые и счастливые. Три «топтуна», что таились у кустов сирени, торопливо подтянулись к ним, выражая беспокойство о драгоценном здоровье ученых, но явно с целью услышать, о чем так доверительно лопочут друг другу светила-физики, не пользуются ли моментом, чтобы сообщить какую-нибудь страшную тайну. Зельдович осадил их значительным взглядом, «топтуны» придержали прыть…
В игре, в неожиданном купании и вообще в поведении этих людей были раскованность и самоуважение. С американцем все ясно, а вот наш повел себя на равных, как нормальный человек.
Очерк я написал. Но его не пропустила цензура. Почему? Как мне стало известно, из-за эпизода с фрисби. Именно он задал очерку не то направление, что нужно нашему человеку. Утешением послужила сама командировка, в которой я встретил людей, ставших легендой при жизни…
Итак, выступление москвичей в актовом зале Главной астрономической обсерватории казалось взаимным объяснением в любви. В Ленинграде в те годы не так-то легко было найти трибуну для подобных выступлений – чрево революции с яростью донашивало свое дитя. Даже странно, как по городскому радио дали информацию о выступлении. Я слушал москвичей с упоением, и нет-нет да и подтачивала меня мысль: вот они, таланты, знаменитости, поэты. Пришельцы из другой жизни. А кто я сам? «Человек из подвала». Временами корябаю на бумаге какие-то слова, вяжу сюжет. А что в итоге? Получаю очередной номер журнала «Юность» и читаю чужую радость, чужой успех, чужие мысли, которые могли бы быть моей радостью, моим успехом, моими мыслями. Зависть томила меня. Человек не пишущий, не отравленный наркотиком, полученным от прикосновения пера к бумаге, не может этого понять. Неспроста одним из самых тяжелых психических расстройств считается графомания. Может, я и есть графоман. А те два несчастных моих рассказа – случайные пескари в потоке галечника и воды. Может, послушать жену – не разбрасываться, заняться всерьез своей работой, я ведь на поверку оказался вполне дельным инженером, заняться дочерью, семьей… Но возвращался домой, в нашу «семейную» одиннадцатиметровую комнату в двухкомнатной квартире родителей жены, и вновь магнитом тянуло к секретеру с выдвижным подносом-столиком. Слух улавливал ворчание тещи за стеной: «И что он там все пишет и пишет? Лучше бы занялся делом, как все нормальные люди».
Тещу свою поначалу я называл мамой, потом, в одночасье, вернулся к более естественному обращению, по имени-отчеству.
Евгения Самойловна – крупная женщина с тяжелым торсом и большим задом – слыла искусной закройщицей-модельером. Я ладил с ней, находил общий язык. Она обладала авантюрно-веселым характером, который заменял ей ум. Правда, она была убеждена, что главное ее достоинство – это все-таки ум, но не отрицала и веселость. Если уж брать за основу слово «ум», то к ней, скорее, подходило определение «себе на уме», что, кстати, свойственно многим…
Как-то заболела моя жена. Вызвали участкового врача. Пришла молодая, только окончившая институт докторша Эмма Александровна – в дальнейшем вся моя жизнь в Ленинграде тесно переплелась с ней и ее мужем, ныне академиком, Семеном Григорьевичем Вершловским, – так вот, врача встретила на пороге квартиры хозяйка, Евгения Самойловна.
– У моей дочери простуда, – произнесла с веселой категоричностью хозяйка. – А у меня – рак!
Врач обомлела. Она еще не видела таких ликующих раковых больных.
– Да-да! Мне сказали, что у меня рак в самой запущенной форме. – Евгения Самойловна протянула руку с голубоватым пятном на запястье. – И уже несколько лет!
– Я только сниму пальто; где у вас вешалка?
Но вместо вешалки Эмма Александровна продолжала видеть только протянутую руку хозяйки квартиры.
– Ну, если вы настаиваете – да, – сдалась врач. – У вас рак. И самой последней формы.
– Вот видите! – торжествовала «раковая больная». – Вы молодец! Теперь, я уверена, мою дочь осмотрит хороший специалист, а то другие доктора начинают со мной спорить.
Кстати, теща не ошиблась, Эмма Александровна и впрямь выросла в хорошего врача-кардиолога. А пятнышко на запястье у тещи все голубеет, хоть после той встречи прошло сорок лет.
Этот эпизод я бы отнес к веселой беззаботности характера тещи.
Будучи искусной портнихой, она была весьма необязательным исполнителем. Заказчицы гонялись за ней месяцами. Семейное предание хранит такую историю. Однажды разъяренная заказчица так стремительно ворвалась в квартиру, что теща едва успела спрятаться за ширму.
– Мамы нет дома! – тренированно проговорила Лена, моя будущая жена.
– Как– нет?! – поправил ее правдолюбивый младший братишка Даня. – А чьи это ножки? Это же мамины ножки! – Малыш, рыдая, принялся поглаживать торчащие из-под ширмы босые ступни материнских ног. Пришлось покинуть укрытие, дать Дане по шее и как ни в чем не бывало заняться заказчицей.
Этот эпизод я бы отнес к авантюрной стороне характера своей тещи.
Полной противоположностью тещи был ее муж, заслуженный деятель искусств, главный режиссер Театра на Литейном – Григорий Израилевич Гуревич. Я уже рассказывал о давней встрече с ним, перед своей женитьбой. О тайных выгодах, которыми я тешил себя, благодаря удачному мезальянсу… После женитьбы ничего не изменилось. По-прежнему я просиживал с ним на кухне – на нейтральной полосе разделенной квартиры – и с тоской следил за графиком развития драматургии в идеальной пьесе. За осью абсцисс и осью ординат. Тесть хитрил, ему не хотелось браться за постановку пьесы своего зятя. Он был человек порядочный, и упрек в кумовстве был бы ему страшнее благости семейных отношений. Теща же ставила вопрос ребром: «Скажи, Григорий! Николай Павлович Акимов. Он ведь не боялся брать пьесы своего зятя Алеши Тверского! А чем наш слабее? Он так хорошо играет на пианино!» – «Чем слабее? – тихо оборонялся тесть. – Талантом!»
И тонкие стены доносили до моих ушей набор нелестных замечаний относительно моих драматургических способностей, заставляя стыдливо отворачиваться от жены в узор обоев. Я ненавидел в эти минуты своего тестя. Но проходили дни, и я, отравленный ядом драматургического варева, вновь плелся на кухню, заранее готовясь «поверить алгеброй гармонию».
Григорий Израилевич по своей натуре был добропорядочный и печальный человек. Добропорядочность была врожденной чертой характера, печаль – приобретенной. Кроме общих моментов – служебно-театральных склок, четырех лет войны, явного идиотизма многих ситуаций – он еще был задавлен своей экспансивной супругой. А для нее самым важным в жизни было мнение друзей. Мнение родных и близких, а тем более мужа в расчет не принималось. С ними всегда можно договориться. В основе подобной ущербности лежит не столько отсутствие самостоятельности, сколько пробелы культуры и воспитания; кстати, эти факторы, по моему убеждению, генетически закодированы и нередко передаются по наследству. Я часто задаюсь вопросом: что поддерживает союз разных по характеру людей? Отчасти – физиология, отчасти – привычка и леность натуры, но в большей степени – совестливость, ответственность за судьбу близкого человека, в основе которой лежит все та же культура. Видный театральный художник Эдуард Кочергин, проработавший в Театре на Литейном долгие годы, сказал мне после кончины тестя: «Он был одним из последних по-настоящему культурных людей в театральном мире нашего города. В широком смысле этого слова. Он умер от непонимания». Возможно, Кочергин был прав, но отчасти. Григорий Израилевич умер от несправедливости. Жизнь его сократило предательство. Он не понимал – почему самые близкие люди уехали «от него» в другую страну? Ну, сын, бог с ним, у него своя жизнь, семья. Но жена?! С ней прожито более сорока лет… Она и раньше уезжала, собравшись в одночасье, то в Ялту, то в Москву к подружкам. Но ведь возвращалась, размышлял он горестно, а тут навсегда, в Америку. Опекать сына, который без особой радости воспринял эту жертву? И после некоторого размышления Григорий Израилевич добавлял: «Нет, она все-таки благородный человек. Она не просто бросила меня, как ненужную вещь. Она подобрала мне жену, передала в надежные руки. Конечно, она меня любила». Кстати, «надежные руки», в которые, как пакет, был передан старый режиссер, были руки моей родной тетки, Марии Александровны Береговской, сестры моего отца… Но до того было еще далеко. Это случилось в конце семидесятых. А сегодня календарь отмечал самое начало шестидесятых. Время, когда воронкой затягивала меня молодая литературная среда, время мощного общественно-социального подъема, названного впоследствии временем «шестидесятников». Сейчас нередко проводятся дискуссии о чистоте рядов среди тех, кто относит себя к этому славному периоду. А можно ли дифференцировать? Верен афоризм: «Вся жизнь – театр, и люди в нем – актеры». Они играют разные роли в спектакле: и героев, и злодеев. Но спектакль один. Нет героев без злодеев и нет злодеев без героев – все в спектакле строится на контрастах, проявляя общую картину. И что удивительно – многие герои того времени, с достоинством носившие вериги мучеников на протяжении долгих лет, дождавшись побед своих идей, «торжества демократии», оказались такими же рутинными злодеями, как те, против которых они когда-то боролись. Правда, и само «торжество» оказалось на поверку просто перелицованными буднями прошлого. Но это тема другого разговора.
А пока, как в песне: «Мы все таланты и красавцы…»
«Таланты и красавцы» собирались по четвергам на третьем этаже Дома книги в тесной комнатенке издательства «Советский писатель». Человек пятнадцать – двадцать, во главе с Михаилом Леонидовичем Слонимским. Кроме него, в разные времена кресло занимали не менее достойные гуру: Леонид Николаевич Рахманов, Геннадий Самойлович Гор, Израиль Моисеевич Меттер. Навещали собрание для интеллектуального отдыха и знакомства с литературной «сменой» и Константин Паустовский, и Вера Панова, и Давид Дар, и Вера Кетлинская. Они хоть и оставили зарубки на литературной кроне, но принимались «сменой» по-разному: от восторга до откровенной неприязни, порой до скандала – «смена» была ершиста и самонадеянна. Нередко после визита «литературных кондукторов» пытались прикрыть вольнодумные занятия, но усилиями наших гуру занятия продолжались годами. До нашего набора, в эпоху «раннего возрождения» – вторая половина пятидесятых – в ЛИТО обсуждали свои первые произведения Александр Володин, Виктор Конецкий, Валентин Пикуль, Василий Курочкин, Виктор Голявкин… Так что колебания секретаря ЛИТО Киры Успенской после знакомства с моими рукописями можно было понять. Но допущен я был. На предмет апробации, что уже победа…
Итак, я пришел на свое первое занятие.
Молодой человек лет двадцати пяти читал рассказ. Узкое, несколько удлиненное лицо с округлым подбородком помечали довольно резкие подглазные дуги, служившие как бы подставкой крупным серым глазам. И еще припухлые губы красивой формы с печально приспущенными уголками. Это был Андрей Битов. Рассказ назывался «Бабушкина пиала». Воспоминание о давних годах эвакуации из осажденного Ленинграда в Ташкент… Когда стихла волна обсуждения – в основном благожелательного, что, судя по репликам, явление редкое в этой компании, – Михаил Леонидович Слонимский предложил высказаться и мне, новичку-абитуриенту. Хотел прощупать, понимаю ли я что-нибудь или просто прячусь за многозначительным молчанием. Рассказ и мне понравился. Со знанием дела – все-таки человек восточный – принялся я что-то бубнить о деталях, об описании автором самой чаши-пиалы, так поразившей воображение маленького героя рассказа Андрея. Затронул и достоверно описанный быт беженцев, он был мне известен по личным воспоминаниям о людях, спасавшихся в Баку от войны… Но в целом мой анализ рассказа лежал в русле стандартной газетно-рецензионной статьи и не отличался оригинальностью. Прослушали его с вежливой настороженностью, без воодушевления. И предложили прочесть свой рассказ на ближайшем заседании.
Я принес рассказ «Праздник собак нашего двора». Тоже ностальгический, тоже о мальчишеской суете в тыловом городе в войну. Рассказ пришелся по вкусу. Даже скупой на похвалу Олег Базунов, брат Виктора Конецкого, обронил несколько одобрительных фраз. И я единогласно был принят в ЛИТО. С первого же захода, что случалось не так уж и часто.
Сложно объединить в сюжет пеструю жизнь нашего «литературного взвода». Память выталкивает разрозненные эпизоды, картины, фразы. Главное – это было сообщество талантливых людей, одержимых литературой, жаждущих публикаций, признания и успеха, скрывающих свою страсть под маской презрения ко всякому успеху… Основной костяк слушателей был знаком между собой с детства, знали друг друга по городу, учились в близких школах, то есть с того времени, когда закладываются основы «пожизненной» дружбы. Я же никого из них не знал, не имел общих знакомых. Поэтому круги наших «нелитературных» интересов не соприкасались, что, естественно, сковывало отношения. Они после занятий собирались на гульбу, я бежал домой, повязанный семейными заботами. Отвлекаясь, хочу заметить, что дружба – этот удивительно животворный источник– завязывалась у меня с трудом и нередко через начальную неприязнь и даже вражду. Чья в этом вина и вина ли вообще, не могу ответить и по сей день…
В ЛИТО проявились и свои литературные любимчики, чтения которых ждали с интересом не только профессиональным, но и развлекательным. Андрей Битов, к примеру, к ним не относился. Его чтение заставляло думать, напрягаться – хотя внешне все единодушно ждали его очереди на чтение. Кстати, и сейчас, став знаменитым писателем, известным в мире, читающим лекции за рубежом, он все глубже и глубже уводит читателя в дебри трудных размышлений, подчас невыносимых для чтения – по крайней мере, для меня. Я, при всем своем расположении к автору, часто не могу преодолеть первые страницы, зная наперед, что, преодолев, уже не оторвусь. Ох, эти первые страницы испытаний, как первый вскрик любви – если его нет, то возникает страх, что его никогда уже не будет. Как сказал Валерий Мусаханов: «Битов – писатель для писателей, но не для читателей». Возможно, и я, занимаясь профессионально литературным ремеслом, остаюсь в рядах читателей…
К любимчикам относился Валерий Попов. Он обычно садился так, чтобы можно было вытянуться на стуле. Переплетя длиннющие ноги чуть ли не в три перехлеста, Валерий зажимал ими папку с рукописями в самом причинном месте и скрещивал руки на груди, глядя исподлобья красивыми карими глазами с провисшими уголками век. Весьма двусмысленная поза… Помню его рассказ «Случай на молокозаводе». Пародия на детективный жанр. Как детективы ловили шпиона, который засел в твороге, но упустили: шпион увернулся от наручников и юркнул в масло… Мы хохотали. До сих пор на слуху этот рассказ, хоть с тех пор Попов стал известным писателем, автором многих повестей и романов. Поселился он в самом центре Питера в вытянутой вдоль коридора большой квартире покойной поэтессы Ирины Одоевцевой – девочки с розовым бантом – возлюбленной Николая Гумилева. Жена Валерия Попова – Нонна – вскружила голову не одному ныне знаменитому литератору. Из-за красавицы Нонны как-то размахивали кулаками перед носом друг друга Андрей и Валерий. То ли из-за нее, то ли двум талантам стало тесно – тоже, думаю, причина для соперничества весьма серьезная. Но общественное мнение определило Нонну как яблоко раздора – славные мгновения далекой юности. И я был повязан ее чарами – как-то на Невском проспекте вступился за ее честь перед какими-то парнями; тоже слыл драчуном с детства, бакинский мальчик…
Вообще «рыцарские турниры» среди нас были не редкость: медведи ворочались в берлоге. И Андрей Битов считался любителем этих турниров. Иногда он сам их затевал, а иногда оказывался жертвой чужих затей. Так, однажды на Невском возникла драка: морячки, сняв пояса, дубасили кого-то. Приехала милиция и всех заарканила, в том числе и стоявшего в стороне Битова. В милиции составили «телегу» и направили в Союз писателей. Хотя Андрей тогда еще не был членом Союза, но все равно приятного мало. И наш дорогой гуру – Михаил Леонидович Слонимский – встал на защиту Андрея перед гневными очами громовержца Александра Прокофьева, тогдашнего первого секретаря. Авторитет Слонимского был велик – как-никак он вместе с Горьким стоял у истоков Союза писателей. А ведь могли повернуть дело так, что Битову была бы заказана дорога в Союз на многие годы.
Стать членом Союза являлось мечтой любого пишущего человека в нашей стране, особенно в те годы. Член Союза писателей мог позволить себе нигде официально не работать и не слыть тунеядцем. Получить путевку в заветный Дом творчества. Шить в мастерской Литфонда пальто для себя и жены – не бесплатно, но зато в ателье Литфонда. И прочая и прочая… Мы тогда еще не знали, что Союз писателей, пожалуй, самая иерархическая организация в идеологической службе страны. Виварий со своими змеиными законами, чистоту которых оберегает армия чиновников-лизоблюдов под надзором чиновников-писателей, литературных полковников и генералов. Редко кто, попадая в этот виварий, сохранял достоинство и независимость.
Дни, когда я отправлялся в ЛИТО, были необычными. Даже когда они падали на конец месяца, на заводскую гонку за выполнение плана, я умудрялся вырваться в Дом книги. У Сергея Довлатова есть чудная автобиографическая повесть «Слово», в которой всажены снайперские фрагменты из записных книжек под названием «Соло на ундервуде», лаконичные и емкие мазки высвечивают этот период жизни молодых ленинградских писателей. После него трудно что-либо добавить, кажется пресным, сухим… В тот период наши пути с Сергеем не пересекались, так сложилось. Обидно, ведь буквально все, о ком он вспоминает, были и моими знакомыми, кое-кто и приятелями, некоторые – друзьями. Конечно, всего не вспомнишь, обо всем не напишешь, память – штука коварная. К примеру, я знаю: много пекся о творческой судьбе Довлатова Дима Поляновский. Его вообще как-то перестали вспоминать, возможно, оттого, что круг, вобравший в себя определенных людей, превратился в обруч с высоким ободом, через который уже невозможно перемахнуть. А ведь Поляновский сыграл в судьбе многих литераторов весьма благородную роль тем же добрым словом поддержки и заинтересованности. В судьбе хорошего детского писателя Ильи Дворкина или, скажем, в моей судьбе. Дима был удивительно красив внешне, жизнелюбив, доброжелателен. Носил редкое отчество – Иоганнович. И вообще, считался своим парнем, несмотря на значительную разницу в возрасте с большинством из нас. Он мало прожил – всего лишь сорок восемь лет, сдало сердце, сказалось тяжкое ранение в войну, контузия. Его повести «Сотрудник ЧК» и «Тихая Одесса», написанные в соавторстве с Лукиным, читают и сейчас…
О Поляновском я вспомнил в вольном трепе с Сергеем Довлатовым. Когда-то Довлатов предлагал свои рассказы в альманах «Молодой Ленинград». Составитель альманаха – Поляновский – рассказы принял, а ответственный редактор – Кетлинская – их задробила…
Вольный треп мы вели, фланируя по острову Манхэттен, куда я попал в восемьдесят седьмом году, после снятия «железного занавеса». Я приехал повидать своих близких после многолетней разлуки и был в числе первых ласточек, открывших широкую навигацию к берегам Новой Англии. Значительное место в чемодане занимали письма и подарки, не имеющие прямого отношения к моим близким, в том числе и письмо Меттера к Довлатову. Я позвонил Довлатову, и мы встретились. На Бродвее, у здания, где разместилась радиостанция «Свобода». Довлатова я узнал издали, хоть и видел его в Ленинграде раза два.
Однажды я ехал с приятелем в Дом писателя. Неожиданно на Литейном проспекте трамвай остановился – на межпутье, поддерживая друг друга, расположились трое молодых людей с бутылками в авоськах. Остановился и встречный трамвай – троица веселилась широким фронтом занимая и параллельные рельсы. «Тот, длинный, – Довлатов», – сообщил приятель. А второй раз – в день освобождения из-под стражи Володи Марамзина, моего приятеля по ЛИТО. Марамзин, кроме литературной одаренности, славился особой сексуальной одержимостью, чему в немалой степени способствовала яркая внешность – черноволосый красавец с живым призывным взглядом обольстителя, к тому же отчаянный буян и забияка. Известен факт, когда Володя швырнул тяжелый чернильный прибор в директора издательства «Советский писатель» Кондрашева – тот чинил зловредные препятствия прохождению рукописи. Случай казался логическим продолжением рассказа Марамзина «Я с пощечиной в руке», написанного в гротескном гоголевском стиле, – о том, как маленький человек пытается отомстить за обиду и «таскает» к обидчикам пощечину, никак не решаясь ее применить… Это в рассказе, а по жизни Марамзин своей пощечиной воспользовался – Кондрашев подал в суд, однако сам почему-то на заседание суда не явился…








