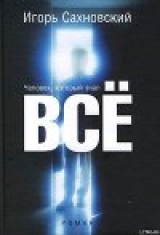
Текст книги "Человек, который знал все"
Автор книги: Игорь Сахновский
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава десятая
АНГЕЛ СМЕРТИ
Сорокасемилетний гражданин В.Т. Вторушин с внешностью изнуренного Шварценеггера, сильно траченной фурункулезом и химическими излишествами, проходил по всем досье и базам данных Министерства внутренних дел Российской Федерации под выразительной кличкой Болт. Не исключено, что он успел подзабыть свою фамилию, поскольку очень давно с гордостью и удовольствием сам называл себя Болтом в честь одноименного наркотического продукта, к которому питал особое пристрастие. Имея волчьи челюсти и глаза напуганного мальчика, он был убийственно застенчив, несмотря на свою репутацию беспредельщика, и заикался так, что это уже казалось чертой характера. Внутривенное вливание двух-трех кубов «болта» позволяло одноименному гражданину 15–20 часов подряд чувствовать себя господином судьбы, и фюрером, и половым гигантом.
Когда Безукладников вкратце описал мне Вторушина, невесело подморгнув: вот, стало быть, как выглядел ангел его смерти в первой редакции – уголовник-заика с фурункулами на щеках, – я припомнил боковой памятью одну милую семейную пару, которая из лучших побуждений однажды угостила меня «болтом» собственного приготовления, как угощают супчиком или домашней наливкой. Это были на редкость интеллигентные люди – искусствовед и учительница музыки. Меня только смущало, по молодости лет, частое употребление слова «жопа» при любом удобном и неудобном случае. «Ах ты жопа!» – говорила учительница мужу то с интимной злостью, то с бытовой нежностью. Мне было двадцать с небольшим, я только что навсегда расстался с первой возлюбленной и всякое новое впечатление глотал как болеутоляющее. Гостеприимный искусствовед с таинственной улыбкой алхимика налил мне стаканчик прозрачной жидкости. «Будь моя воля, – сказал он, – я бы раз в неделю всю страну поил из водопроводного крана. Прелесть!»
Бесцветная прелесть, выпитая залпом, отдавала уксусом. Было девять часов вечера. В половине десятого я вернулся домой. Когда в следующий раз я случайно бросил взгляд на часы, они показывали восемь утра. Все это время я, видимо, провел на Луне.
В окне зачем-то светало. За истекшие одиннадцать часов одинокого бодрствования мне не захотелось ни спать, ни есть. Не возникло вообще ни единого желания. Если не брать во внимание сумасшедшую твердокаменную эрекцию, которая, впрочем, никого ни к чему не обязывала и не имела целенаправленного характера. Странным образом я в ту ночь успел сочинить стихотворение из восьми катренов, где, например, была строка:
Так разлюбил – как выронил младенца.
Я навестил семью искусствоведа и учительницы месяца через три. На них было страшновато смотреть – коричневые подглазья, высохшие губы пыльного оттенка. Оба, казалось, достигли предпоследней степени изнурения. Муж вяло пожаловался: в аптеках перебои с эфедрином. «Но водичка для крана пока есть, – пошутил он. – Налить?» «Спасибо, не надо».
Вот эту изнуряющую водичку ангел смерти по прозвищу Болт, в отличие от семьи интеллигентов, не пил, а ширял себе в вену, опережая свои физические и денежные возможности. Его почки и печень отдыхали только тогда, когда некто Миша из цыганского поселка, варивший за день до пятисот кубов, отказывался наливать в долг. Болт задолжал больше, чем зарабатывал за год случайными подсудными подвигами. Кончились те золотые сытые времена, когда его угощал коньяком и севрюгой сам Коля Шимкевич – великий уже человек. Это ведь Коля уберег его от четвертой ходки, помог спрыгнуть с расстрельной статьи, возил с собой в баню, давал деньги и особые поручения. Сейчас гражданин В.Т. Вторушин мог бы входить под своды Государственной думы как белый человек, помощник депутата. Чтобы, значит, осуществлять там деятельность. И воплощать в жизнь. Но великий Коля решил иначе. После трех с половиной особых поручений – а каждое из них тянуло на восемь, а то и на пятнадцать лет строгого режима – он к Болту резко охладел и даже сказал унизительные слова:
«Ты, Болт, сначала прыщи на морде вылечи», и пришлось это сглотнуть. Если от человека зависишь, приходится терпеть – так ведь?.. А тут Шимкевич вдруг сам его нашел, сам вызвонил и забил стрелку, и Вторушин осознал, что его звездный час – вот он, уже настает.
– Как у тебя с жильем? – Народный депутат первым делом беспокоится о нуждах трудящихся.
Они сидели в отдельном кабинете закрытого ресторана. Болту льстили конспиративность беседы и роскошь сервировки – все ради него одного. С жильем было кисло, то есть почти никак. На птичьих правах он делил с клопами комнатуху в многосемейном общежитии.
Тихий, как тень, официант принес черную бутыль вина, запеленатую в салфетку, смочил дно бокала и предложил Шимкевичу снять пробу.
– Пошел вон, – мягко ответил Шимкевич.
Вторушину это почему-то польстило тоже.
– Зачем позвали? – спросил он.
– Маленькая такая просьба. Хочу тебя в разведку послать. Проверить одну квартиру.
– Что за хата? Чья?
– Считай, теперь ничья. Понравится – твоя будет.
Шимкевич хохотнул, словно бы до этой счастливой мысли он додумался прямо сейчас.
– Пустая, что ли?
– Для особо тупых повторяю: ни одной живой души там быть не должно.
Болт наконец понял. Он закурил, напрягся бугристым лицом и выдал формулу, слышанную по телевизору в каком-то сериале из уст крутого киллера:
– Цена вопроса?
С троекратным заиканием прозвучало не совсем круто.
Шимкевич поморщился от дыма болгарской сигареты:
– Ты же говорил, с жильем кисло? Вот тебе и цена.
– Ладно. За неделю разберусь.
– Не больше трех дней. Если что – прикроем. У меня там бойцы второй день на подступах топчутся. Инструменты готовь сам.
Вторушинские инструменты в подготовке не нуждались.
Специально укороченную, бритвенно острую сталь марки «Золинген», обмотанную изолентой и пригретую в кармане куртки, при случайном прошлогоднем обыске даже не изъяли – она выглядела скорее как инструмент, чем холодное оружие. Болт по старинке предпочитал ходить на дело под видом некоего условного ремонтника с потертой кошелкой, где не лежало ничего, кроме тяжелого разводного ключа, пары отверток и мотка скотча.
Шимкевич с философической грустью наблюдал, как Вторушин спешно подъедает телячью отбивную – сам уже почти отбивная… Но кому-то ведь надо поручать роль мяса, пушечного или там парного – для поваров.
Болт пришел на Кондукторскую ровно в полдень и четырежды позвонил в квартиру, удивляясь хлипкости двери, за которую предстояло проникнуть. Подобные замки он вообще отмыкал с помощью гнутого гвоздя, не повреждая механизм.
Это жилище своей бедностью напомнило ему школьную библиотеку, взломанную прошлым летом от нечего делать. Там Болт обогатился только импортными колготками и флаконом туалетной воды из ящичка с пустыми формулярами. Имущество Безукладникова смогло прельстить его лишь телевизором невыносимых габаритов и стеклянным шприцем емкостью в пять кубов, добытым со дна обувной коробки в комплекте с просроченными таблетками от кашля. Недолго подумав, Болт притырил и безукладниковский паспорт, лежавший на виду. На этом развлекательная часть программы закончилась. Теперь ничего не оставалось, кроме как сидеть в засаде до появления хозяев квартиры.
Время тянулось, как очередь к зубному врачу. Пытаясь хоть чем-то заполнить свой досуг, киллер Вторушин примерился к дивану, возлег и сделал вялую попытку мастурбации. Его мучила совсем другая, изысканная потребность, и на эту изысканную пока не было денег.
Вид из окна позволял оценить обстановку во дворе. Старуха в пятнистой шубейке выгуливала коротконогую дворнягу. Как минимум шестеро озябших топтунов (отнюдь не бойцовского вида и вроде бы независимо друг от друга) обозревали подступы к подъезду. Пусть топчутся дальше, их дело десятое…
На кухне ему пришло в голову заварить себе чифир, но чай отыскался только в пакетиках. В газовую духовку Болт заглянул на втором часу сидения в засаде – мимоходом, для проформы – и тут же осел на пол, чувствуя, как его прошибает обильный пот.
Следующие полчаса, мокрый, как мышь, он ползал на коленях перед газовой плитой, то выгребая пачки денег, все до единой, чтобы утрамбовать их в свою ремонтную кошелку, то застревая в жестоком сомнении, малопонятном ему самому, и складировал назад, стараясь придать заначке нетронутый вид.
В конце концов пьяный от волнения, он заставил себя прислониться к здравому смыслу, и здравый смысл, как нежный собутыльник, напомнил, что эта квартирка – уже без пяти минут его собственность. И зачем так трепыхаться, тащить с собой в стремной сумке такие финансы?.. Он сейчас возьмет на карман скромно сантиметра два денег, сгоняет по срочному делу – и сразу назад! А эта хата с плитой уже никуда не денется.
Кто бы сомневался, что самым срочным делом Вторушина станет визит к варщику Мише в цыганский поселок. Оттуда, понятное дело, на Луну. А поскольку время на Луне течет как попало, на Кондукторскую он вернулся почти ночью. Весь подлунный мир валялся рабски под ногами, покоренный мощью своего господина. Каждая тварь истекала желанием подчиниться и отдаться на милость В.Т. Вторушина. А он, великий и безжалостный, никого не собирался миловать. Между ног у него размещался ядерный снаряд, в кармане – змеиный стальной язык. Впрочем, настроение у Болта было скорее благодушным, как у феодала-покорителя, который после удачного набега обходит свои владения.
– Я не могу это описать, – произнес Безукладников с тихим смущением.
– И, по-моему, никто, никакой гениальный Хичкок не способен передать этот ужас, когда ты лежишь ночью голый в своей постели и слышишь: открывается дверь твоей квартиры и кто-то входит к тебе в темноту.
Судя по шарканью ног в тяжелых ботинках, пришедший убивать даже не старался скрадывать шаги. Он уверенно, по-хозяйски прошел на кухню, и оттуда послышалось громыхание газовой плиты.
Затем нависло короткое затишье, такое пронзительное, что Безукладников, скрючившийся под одеялом в зародышевой позе, внятно заслышал себя, собственное тело – как оно громко лежит на виду у темноты и как оно оглушительно боится. Тому, что трепетало в животе и больно бухало за ребрами, оставалось трепетать и бухать не более четырех минут – он уже знал определенно. Первые полминуты с панической доблестью он метался между вариантами прорыва: вскочить, нашарить тяжелый предмет, оглушить внезапностью… Или попытаться тихо-тихо, не дыша, протиснуться между слоями темени, мимо кухни и вырваться наружу – на лестничную площадку, на холод, куда угодно. Но вся беда была в том, что оба эти варианта давали одинаковый результат: и Безукладников, дерзнувший напасть, и крадущийся на волю беглец Безукладников одинаково быстро, в один миг, напарывались на короткую заточенную сталь – Вторушин умел бить почти вслепую, пружинно выбрасывая руку снизу вверх, в горло жертвы… Так Александр Платонович и лежал, утопая в ледяном поту, когда гость вышел из кухни, постоял, озираясь впотьмах, и направился к безукладниковскому дивану.
– Если бы я шевельнулся либо рискнул вскочить, он прирезал бы меня, как цыпленка, просто автоматически.
– Вы что, хотите сказать, он только постоял над вами, повернулся и ушел? Извините, плохо верится.
– Мне тоже не верится, – сказал Безукладников. – Тем более что я всего лишь захрапел. Правда, очень громко.
– Находчивость прямо фантастическая. Сами додумались?
– Сам бы я до такой детской глупости не дошел… Но подсказка была странноватая: лежать неподвижно и погромче шуметь.
Безукладников передернул плечами, как продрогший подросток.
– Как бы это правильнее сказать?.. Он не убил меня из брезгливости.
Вообразите: такой царь и бог. И тут перед ним лежит жалкий человечек, от которого уже столько шума. А если его тронуть, ковырнуть – сколько же будет крови, соплей!.. Попросту говоря, Вторушин был под кайфом и не стал себе этот кайф ломать. Ему еще хотелось в ту ночь полетать, а меня он оставил на завтра – как мусорное ведро или невымытую посуду.
– И вы, наконец, в эту же ночь сбежали из дома от греха подальше?
– Нет. Я, наконец, уснул как убитый и проспал до самого утра.
Глава одиннадцатая
70 КИЛОГРАММОВ ЖИВОГО ВЕСА
Самым зябким воспоминанием безукладниковского детства были темные зимние утра, когда ровно в шесть самостийно врубалось радио, не выключавшееся на ночь, поскольку служило родителям будильником, – и на последний драгоценный сон обрушивался гимн страны, грозный хор в двести глоток: «Союз нерушимый республик свободных…» Безукладников на всю жизнь запомнил страх, который охватывал его, маленького школьника. Не потому, что надо было так рано вставать и плестись в школу с тяжелым ранцем по морозу. И даже не потому, что несущийся из репродуктора голос Родины выражал беспощадную строгость. А потому, что в грохоте этой музыки голый подросток, вырванный из постели, как из материнского лона, несущий свою нескладную наготу, свои мурашки и стыдное детское нетерпение в туалет, чувствовал себя насекомым, щепкой, абсолютным ничтожеством перед «волей народа», которая всегда права и никогда ничего не прощает.
А этим простуженным, ангинным утром, надраивая зубы, умываясь, искоса поглядывая в зеркало, уже необратимо взрослый Безукладников вдруг испытал приступ такой леденящей ярости, что сам себе поразился.
Его травят, как дичь. Выкуривают, как зверя из норы. Можно сказать, его уже убивают – а не убили еще по чистой случайности. И кто охотник? Садист, по которому плачет тюрьма. Добавить мысленно: «Тот, кто отнял у меня Ирину», – было слишком больно.
Восьмилетнего Безукладникова мама посылала в магазин «Продукты» за хлебом и за сметаной. Он брал авоську, стеклянную банку с крышкой и уходил в магазин, как на казнь. Потому что на обратном пути его поджидал рослый соседский парень в красной ковбойке – загораживал собой дорогу, криво улыбался и спрашивал всегда одно и то же: «Ну что, стыкнемся?» Это было приглашение драться – просто так, без повода. И каждый раз Безукладников тушевался, прятал глаза, уходил. И каждый раз его мучитель криво улыбался, наслаждаясь беспроигрышной игрой кошки с мышкой. Задним числом Безукладников размышлял о причинах своей позорной робости и находил ей тупое оправданье: руки ведь заняты покупками! Якобы все дело в проклятой сметане. Как ни странно, объяснение оказалось точным. При очередной встрече в ответ на идиотский сакраментальный вопрос: «Ну что, стыкнемся?» Безукладников молча снял крышку с банки и аккуратно вывалил всю сметану на красную ковбойку. Ковбойка вытаращила глаза, попятилась, что-то выкрикнула тонким голосом. Но эта встреча стала последней – игра закончилась. Домой Безукладников шел налегке, холодея от ужаса победы.
Он вспомнил тот случай сейчас, когда вдруг обнаружил себя в состоянии, близком, так сказать, к опрокидыванию сметаны.
До следующего (фактически окончательного) визита Болта оставалось чуть менее трех часов. Во дворе сгущались разнородные наблюдательные силы.
Горло болело так, будто в него насыпали толченого стекла. Любимая некогда осенняя суббота грозилась теперь ничем не отличаться от осенних же понедельников. Тянуло снова лечь в постель и не вставать несколько суток.
Но сильнее всех потребностей был этот саднящий, как ожог, мальчиковый позыв – снять крышку и опрокинуть банку.
Мобильный телефон Шимкевича четырежды исполнил «Турецкий марш», прежде чем обратил на себя внимание музыкальной общественности. Он задавал тон в достойной компании – фуги Баха, куплетов Тореадора и канкана, – рассевшейся с пивом и копченой рыбой на кафельном берегу бассейна. Сам Коля в этот момент вольно плескался в хлорированной стихии, в хороводе стодолларовых длиннолягих наяд, всплывающих по вызову. Наяды были вызваны и оплачены фугой Баха – маленьким, вечно мрачным подполковником таможни, которого, как лошадку за уздцы, влекло, во-первых, все прекрасное, а во-вторых, высокая благодарность за высокие материальные благодарности, выражаемые Колей Шимкевичем в благодарность за посильную таможенную благодарность.
Коля шумно откидывался на спину и разбрасывал конечности во все стороны света, стремясь не обделить своей ступней либо десницей ни одну из участниц хоровода. Наяды, задетые за живое, прыскали и кокетливо матерились.
Пиликающий мобильный марш был наконец переправлен мокрыми ручонками в эпицентр бурливой стихии и поднесен к депутатскому уху, чтобы шаловливый Коля мог озвучить свою дежурную шутку: «База торпедных катеров слушает!»
Чуть задыхающийся, как бы на грани срыва, глуховатый голос обратился к нему по имени-отчеству, и Шимкевич изготовился отбрить какого-нибудь попрошайкуизбирателя. Но в трубке сказали:
– Моя фамилия Безукладников. Я вам советую сейчас подплыть к бортику. А то вдруг захлебнетесь – и не узнаете…
Шимкевич слушал беззвучно, слегка выпучив глаза. И по мере того как его ухоженные щеки из персиковых становились грязно-малиновыми, вся водная и сухопутная жизнь вокруг смолкала, устрашенная живодерским бессмысленным выражением на лице купальщика. Мокрые наяды, в бикини и без, торчали из воды в мерзнущих виноватых позах, уже как рядовые проститутки, готовые к тому, что их вот-вот прогонят пинками.
На берегу даже бросили жевать.
Безукладников говорил в идеальной тишине. Тишина создалась такая, что позволяла различить вкрадчивое дыхание аппаратуры из конторы Стефанова, особо участливой ко всем Колиным переговорам и собеседникам. А этому собеседнику, с точки зрения вкрадчивых ведомств, просто не было цены. Он быстро и внятно перечислял наиболее тяжкие подвиги Шимкевича, заботливо поясняя: «Страна должна знать своих героев! И я вам это устрою…» Героя же, казалось, настиг полный ступор. Взгляд его разбегался наподобие ртути, расползался по каким-то невидимым глинистым ямам и лишь раз ядовито плеснул в сторону примолкшей фуги Баха, когда звонящий упомянул таможенника Лешу, выброшенного с балкона по ошибке, то есть по ложной наводке подполковника, сидящего сию минуту у бассейна.
– Но вам-то без разницы – кого убивать, не так ли?
Шимкевич наконец выдавил из себя вопрос по существу:
– Чего тебе надо? Денег?
– Придурок, – сказал Безукладников. – Придурок!
Почти безголосый, он уже почти кричал:
– Ты хотя бы не заставляй ее… ползать перед тобой на коленях!..
Она же в детстве левую коленку повредила!.. До сих пор на холоде болит… Придурок. Ты через шесть лет умрешь от инсульта. При всех этих долларах. И не присылай ко мне больше своих наркоманов, своих киллеров полоумных. У меня здесь не зоопарк!..
Безукладников бросил раскаленную трубку – и понял, что погиб.
Отсчет времени начался. Шимкевичу понадобятся сто шестьдесят две минуты, чтобы среди субботнего дня созвать ударную команду и пригнать ее на Кондукторскую. Малыми силами он не стал бы штурмовать и курятник.
Беспрепятственно уйти из дома уже не удавалось: наблюдатели у подъезда получили сигнал боевой готовности. Один, вполне мордатый, топтался вызывающе близко – на лестничной площадке между четвертым и пятым этажами.
Законопослушный вариант вызова милиции сулил унизительную телефонную разборку с таким финалом: «Пишите заявление и приходите утречком во вторник на прием к инспектору».
У него был выбор: собраться прямо сейчас, надеть пальто, спуститься вниз, выйти из подъезда, быстрым независимым шагом, не реагируя на оклики, пересечь двор и уже на подходе к перекрестку, не слишком людному в этот час, принять пулю в крестец – причем вкупе с такой дикой, одуряющей болью, что следующий контрольный выстрел станет просто спасением. Либо: никуда не идти, позавтракать яйцом в мешочек, постоять под горячим душем, полистать заждавшегося «Человеканевидимку», покурить, снова покурить, думая о каждой сигарете: «Эта последняя в жизни», а потом лежать на полу с простреленными коленями, прикованным к батарее парового отопления, лежать до приезда Шимкевича, который, не говоря ни слова, наступит лакированными туфлями ему на грудь и начнет прыгать по груди и по лицу.
– Знаете, что такое животный страх? – спросил меня Безукладников. – Это когда у тебя вместо ума и души остается один живот, в котором все кишки скручены судорогой… Он пошел в ванную, разделся, оглядел свое тело, как некую бесхозную мнимость, и встал под душ. По серо-голубой стене вертикально расходились две трещины, образующие под потолком дождливый материк. Приговоренный смотрел вверх на струи воды, на географические трещины и спрашивал у этого запотевшего материка:
«Как мне уцелеть?» И переспрашивал, прислоняясь лбом к береговой линии: «Как мне уцелеть?» Ответ включал поразительно нелепую череду шагов, последний из которых Безукладников вообще мог бы выполнить лишь в состоянии белой горячки.
На яйцо в мешочек и «Человека-невидимку» ему уже не хватило самообладания. Он оделся медленно и тщательно, глядя с прощальным чувством на свою – теперь уже не свою – комнату, причесал мокрые волосы и поплелся к выходу. За дверью, приоткрытой в тяжелейшем приступе неуверенности в себе, блеснула кожаная куртка соглядатая, рванувшего с медвежьей прытью на пятый этаж.
Безукладников пересек лестничную площадку, будто контрольную полосу, и позвонил в квартиру соседки.
Субботнюю Луизу в зеленой косметической маске хотелось облизнуть, как блюдце с крыжовенным вареньем.
– Александр Платонович, я очень извиняюсь! Красота же требует жертв?
– Вашу красоту никакие жертвы не испортят. Можно позвонить? У меня что-то с телефоном…
Он набрал номер, которого не знал еще минуту назад. Где-то на северной окраине города взяли трубку, и вялый, вяленый голос прирожденного неудачника ответил: «Але». С изумлением прислушиваясь к невидимому суфлеру, Безукладников заговорил бодряческим тоном, каким, по его разумению, должны говорить отъявленные бизнесмены. А ему, как отъявленному бизнесмену, приспичило выяснить: правда ли, что Тимоша срочно, к такой-то матери, распродает свой обувной магазин «Salamander»? Женственный Тимоша, мрачно толстеющий на нервной почве, отвлекся от куриного бедра и заправил живот в тренировочные штаны:
– Ты сам кто такой? Кто тебя навел?
– А я-то как раз покупатель, – представился Безукладников. – По наводке Борис Михалыча.
В туманного, как Эверест, Бориса Михалыча Тимоша верил истовей, чем в курс доллара, объявленный с небес Центробанком, а слово «покупатель» вызывало у него буквально физиологическую радость. Покупатели – это были такие слабоумные чудесные существа, которые по своей воле несли Тимоше деньги и кормили его, кормили – даже не за то, что он обувал их в китайский и турецкий ширпотреб под видом немецкого, а, видимо, за то, что он, Тимоша, такой необыкновенный. А если есть еще болваны, которым нравится ходить в опорках, склеенных резиновой кашей, то, значит, их надо обувать!.. Правда, в последние полгода Тимоша нес ужасающие убытки из-за уличных торговцев, замусоривших город точно таким же товаром, но по бросовым ценам. Склад ломился от сезонных неликвидов, пропах склепом и мышиной мочой, и этот запах не давал Тимоше спокойно завтракать, обедать, полдничать и трижды ужинать, включая два перекуса после полуночи…
Но этот покупатель своей чудесностью и особым слабоумием превзошел всех. Он желал купить сразу триста пар обуви – причем немедленно и за наличный расчет.
– Только у меня товар… немного прошлогодний, – на всякий случай сознался Тимоша.
– Клиент всегда прав, – наобум ответил Безукладников, и Тимоше почудилось, что сделка может сорваться.
– Я же, блин, отдаю за сорок процентов!
– А я беру за шестьдесят! Но только сегодня. С доставкой на дом!..
Умалишенным лучше не возражать. На дом – значит на дом. Ровно через два часа?.. О'кей, ровно через два! Записываю адрес… Номер дома, номер подъезда…
– Заметано.
Безукладников заставил себя широко улыбнуться, как это, ему казалось, принято у коммерсантов, ударивших по рукам.
Свежеумытая после маски, потрясенная Луиза стояла посреди комнаты и, забыв о приличиях, глядела с открытым ртом – вчера еще милый, интеллигентный Александр Платонович, теперь зараженный миром чистогана, демонстрировал, так сказать, гримасы капитализма.
– Простите меня, – зачем-то сказал он, уходя. И это последнее, что она слышала от Безукладникова.
Он отступил назад за контрольную полосу, в свое ненадежное логово, где пока еще было тихо. Время уходило так медленно, как будто ему было больно расставаться с пространством. Не зная, куда себя девать напоследок, Безукладников принялся двигать шифоньер в сторону прихожей. Шифоньер настырно упирался всеми четырьмя корявыми ногами. Безукладников намочил под краном половую тряпку и просунул ее под мебельную подошву. Тащить за тряпку было немного легче. После того как шифоньерная туша заполонила прихожую и привалилась к наружной двери, Безукладников понял, что потерял доступ к плащу на вешалке и к ботинкам, стоящим под ней. Выдвигать шифоньер обратно уже не было сил.
Остаток времени он провел в тупой неподвижности возле кухонного окна. Одинокая пенсионерка со второго этажа водила по двору на веревке беспородную собаку, и они обе вызывали зависть своей никому ненужностью. Снежная крупа косой побежкой неслась к неопрятно чернеющей земле, внушая надежду на некое светлое постоянство, что отнюдь не отменяло полного безразличия будущего снега к этим людям, глядящим из окон на субботний белый свет, и к этим, бойцовского вида, уверенно вышедшим из-за угла дома и пересекающим двор…
Когда в дверь постучали, Безукладников нехотя зашевелился.
Что он еще успел сделать? Нарыть в духовке несколько пачек валюты и натолкать в карманы брюк. Одернуть – по школьной привычке – свой затерханный джемпер. Вытянуть на себя оконную раму и встретить голым лицом вторжение острой снежной крупы. Послушать, вздрагивая крупной дрожью, как выламывают с треском входную дверь. Вынуть ноги из домашних тапочек, тут же снова надеть их, с сожалением снова разуться и в два неловких приема взобраться на подоконник.
И вот так он торчал некоторое время, полусогнутый, в распахнутом оконном проеме, знобко примериваясь к четырехэтажной высоте, пока за его спиной ударная бычья сила молча прорубалась через шифоньерную баррикаду; жестяной карниз холодил пальцы ног в бумажных носках, снег все падал на полуголые кусты и деревья, на тротуар и на ярко-синий тент груженого «ЗИЛа», въезжающего во двор.
Квартиру заполнили топот и чужие голоса.
«Мама родная, – тихо сказал Александр Платонович, глядя вниз. – Я же там костей не соберу!..»
Пространство сузилось до синего пятна, притороченного к черному газону. Безукладников замедлил дыхание, подался головой вперед и что есть силы оттолкнул ногами карниз.
…Когда в начале зимы я зашел повидать Безукладникова, мой визит окончился у его растерзанной двери, заколоченной кое-как сизой фанерой и заклеенной казенной бумажкой с печатями. Старенькая дама с собачкой, встреченная у подъезда, на мой вопрос о жильце с четвертого этажа сообщила с восторгом очевидицы, что жилец выбросился из окна. Потому что запутался в криминале. Спасибо, милиция прибыла вовремя, взломали дверь – а там море крови и труп. «Чей труп?» «Жертвы. Чей же еще? Мы с Дусей собственноручно видели, как выносили! Да, Дусечка?.. Так он тут знаете какую стрельбу учинил?» «Кто?» – спросил я уже совсем по-глупому и, не выслушивая ответ, пошел восвояси.
В следующий раз мне предстояло узреть Безукладникова на милицейском плакате – увеличенную почти до загробной размытости крохотную фотографию с клеймом (видимо, паспортным) – в портретной компании заведомо преступных бедолаг, собранных под общим заголовком «Разыскиваются!». Одно только это слово слабо намекало на возможность удачного приземления выбросившегося из окна, хотя сам его снимок своей трагической документальностью напоминал скорее кладбищенские овалы на памятниках.
Семьдесят килограммов пока еще живого веса, упавшие с четвертого этажа, пробили дыру в мерзлом тенте из полихлорвинила и успешно застряли в темной картонной пыли обувных коробок. Едва ли не в ту же секунду в разных концах двора захлопали выстрелы, пухлый трясущийся человек в кабине крикнул шоферу: «Гони, на хер!» – и тяжелый «ЗИЛ», как подстреленный буйвол, ломанулся вперед, не разбирая дороги, сквозь кусты и детскую площадку, подальше от этой подлой засады.
За время пути Безукладников так захолодел, что собственные ступни уже казались ему фанерными. В попытках согреться он позволил себе углубиться в китайско-турецкие залежи и даже выкопал подходящего размера башмаки, почему-то свекольного цвета. Перепуганный буйвол мчался до тех пор, пока, наконец, смертельно взволнованному Тимоше не захотелось по нужде.
Остановились на пригородном пустыре, возле мусорной свалки.
Именно эту свалку Тимоша будет потом вспоминать долгие годы как место, где полностью подтвердились его подозрения о прекрасности жизни, в которой чудесные малоумные существа кормят и кормят Тимошу за его сугубую необыкновенность. Как раз такое существо – типичный с виду покупатель трехкопеечного хлама – приблизилось к Тимоше, пока тот застегивал брюки. Незнакомец одет был явно не по погоде, его трясло. Но он выразился, будто на светском приеме: «Бесконечно вам благодарен. Уж извините за беспокойство!..», протянул комок зеленых купюр и захромал прочь. И тут же вернулся, чтобы снова извиниться:
– Я, знаете, у вас там ботиночки позаимствовал…
– Уплочено, – сказал Тимоша.







