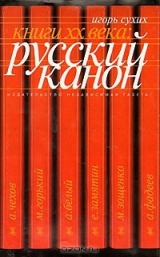
Текст книги "Панк Чацкий, брат Пушкин и московские дукаты: «Литературная матрица» как автопортрет"
Автор книги: Игорь Сухих
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
1. Эта книжечка вышла, стало быть, где-нибудь сидит же на белом свете и читатель ее.
Двухтомник “Литературная матрица” (СПб.: Лимбус Пресс, 2010), вероятно, самый успешный литературный проект последних десятилетий. Со времен републикации в СССР “Прогулок с Пушкиным” А. Синявского не припомнить таких количества рассуждений и обсуждений, критик и антикритик, круглых столов и полемических дуэлей. К информационному шуму подключились даже школьники, не пишущие теперь сочинений по Пушкину, но рассуждающие о том, насколько хорошо писатель Икс в “Матрице” понял творчество Маяковского, а Игрек не понял Чехова.
Идея издательства и труд редакторов привели к результату почти фантастическому. Под одним переплетом удалось собрать сорок современных авторов, трепетных творческих индивидуальностей разных поколений, сочинивших о своих предшественниках сорок две статьи-эссе-произведения (Некрасову и Маяковскому посвящено по две). В большинстве откликов барометр показывает “ясно”. Достаточно лишь бегло перечислить кто и о ком (“Ах, вы пишете комментарий, значит, кто с кем и кто кого”, – шутил когда-то К. Чуковский), кого-то бурно похвалить, кого-то мягко пожурить – и газетная или журнальная колонка готова.
Между тем событие столь незаурядно, что заслуживает более серьезного разговора. Этот огромный двухтомник действительно барометр, симптом, градусник, дающий представление о средней температуре по литературной палате, о чем сами создатели (ведь каждый работал самостоятельно) тоже вряд ли подозревали.
Так случилось, что для этого разговора я подготовлен лучше многих. Просто потому, что последние четыре года я занимался примерно тем же самым: писал учебники по литературе для старшеклассников и, естественно, перечитывал всю школьную литературу – от “Слова о полку Игореве” до Иосифа Бродского, – которую, конечно, еще не успел забыть. Вряд ли кто-то из рецензентов перед написанием текста занимался тем же самым. Что мы, “Онегина” не помним или Есенина не можем процитировать?
Однако подобное избыточное знание опасно. Всегда есть риск не объективно оценивать чужое, а упрямо толковать про свое: у них вот так, а правильно (у меня) вот эдак. Поэтому попытаюсь не распространяться о своем вот эдак(хотя упомянутые учебники – эксперимент, таких для школы еще никогда не писали, и мне до сих пор не очень верится, что они прошли через все согласования и утверждения) и ограничиться тезаурусом (объемом знаний) обычного интеллигентного человека: хотя бы того отличника, который должен прочесть и усвоить стандартный школьный объем материала.
Для простоты и наглядности представим, что “Литературная матрица” – сочинение некого коллективного Автора-сочинителя, взглядом и словом своим объявшего всю русскую словесность. Заглянув в оглавление, читатель может уточнить, каким брату или сестре раздаются серьги в данном случае.
Так что с Богом, прогуляемся по страницам “Литературной матрицы”. В сопровождении гоголевских эпиграфов-ориентиров.
2. Ах да, это правда, это точно Загоскина; а есть другой Юрий Милославский, так тот уж мой.
“Учебник, написанный писателями” – подзаголовок книги. Конечно, как уже заметили понимающие в школьных делах люди, никакой это не учебник. Редакторы-составители сами опровергают его в предисловии, уточняя жанр созданного продукта. Там сказано, что ученик, который попытается ответить на уроке по пушкинской главке, скорее всего, получит двойку. И сверхзадача задуманного проекта формулируется так: “Краткий и упрощенный конспект того, что ученые имеют нам сказать про художественную литературу, должен по идее содержаться в школьном учебнике. Учебник этот – книга, безусловно, полезная и познавательная. Существует он затем, чтобы его читатель, как минимум, запомнил, что Пушкин родился несколько раньше Чехова, и, как максимум, на что стоит обратить внимание при чтении Тургенева. Затем, чтобы в голове его читателя выстроилась картина истории русской литературы как истории – измов: классицизм – романтизм – реализм – символизм… И в этом смысле учебник неизбежно должен быть до некоторой степени равнодушен к самим текстам – шаманская, напрочь выносящая мозг проза Платонова ему столь же мила, как и зубодробительно скучный роман Чернышевского. Смысл же появления этого сборника, хотя статьи в нем и расположены в традиционном хронологическом порядке, состоит совершенно в другом. <…>
Главное, чего хотелось бы составителям этой книги, – чтобы тот, кто прочтет из нее хоть несколько статей, почувствовал необходимость заглянуть в тексты произведений русской литературы, входящих в “школьную программу”. Чтобы он читал эти тексты так, как читают их авторы этой книги, – не сдерживая слез, сжимая кулаки, хохоча и замирая от восторга, гневаясь и сходя с ума” (Т. 1. С. 11 – 12).
К этой принципиальной максиме-мантре мне еще придется возвращаться. Пока же замечу, что “учебник” здесь уже дважды называется сборником, а главы – статьями или текстами. И это справедливо. Хотя по причинам, в предисловии не указанным.
Равнодушен к текстам, как правило, плохой учебник. Хорошие же (назову хотя бы знаменитый вузовский учебник по литературе ХYIII века Г. А. Гуковского, по которому выучились студенты нескольких поколений) отличаются как раз личным тоном, страстностью, которую почему-то закрепляют лишь за мастерами художественного слова. Такие учебники – редкость, но ведь и хороший роман стоит далеко не на каждой книжной полке.
Есть совершенно иные причины, по которым “Матрица” не заслуживает высокого звания (или унизительного статуса) учебника.
Во-первых, в ней иной отбор имен. Здесь (если сравнить книгу с действующими программами) отсутствует примерно дюжина обязательных текстов (“Слово о полку Игореве”, весь XVIII век, писатели второй половины ХХ века (а их, кроме Солженицына, должно быть шесть или семь), но есть другие замечательные авторы, которые, увы, в современных программах монографически не изучаются и могут быть упомянуты только в обзоре (Замятин, Зощенко, Набоков, Бабель).
Однако это несовпадение – не главное. Учебник, как и приличная монография, отличается от сборника присутствием общей идеи, прошу прощения – концепции, которой в принципе не может быть в сочинении сорока независимо работавших друг от друга людей. Правда, есть и учебники, утвержденные и рекомендованные, авторами которых значатся десять или даже двадцать шесть человек. Но это – тоже самозванцы: сборники, выдающие себя за учебники. Картина истории русской литературы – по -измам ли, по эпохам, по писателем – может выстроиться в голове ученика, если она изначально представлена в учебнике.
Не надо преувеличивать и оригинальность самого замысла. Он поражает лишь количеством участников. Но прецеденты – от “Родной речи” П. Вайля и А. Гениса до еще советских времен “Рассказов о русских писателях” Н. Шер – у “Матрицы”, конечно, были. Уж не говоря о том, что писательское эссе о писателе для русской литературы, особенно ХХ века, – жанр привычный, имеющий множество блестящих образцов и исполнителей от И. Анненского и М. Цветаевой до И. Бродского и (если угодно) С. Залыгина. Можно даже поспорить, кто для матери русской литературы ценнее, поэты В. Ходасевич и Г. Адамович или они же как литературные критики.
Сборник статей (эссе), впрочем, тоже почтенный жанр. В конце концов, какая разница: учебник – не учебник (если только это не подпадает под закон о недобросовестной рекламе)? Главное, что там, за переплетом?
Подсказывая ответ на этот вопрос, редакторы-составители заблаговременно выстраивают защитный редут: “Они такие же “простые читатели”, как и мы с вами, – но, будучи сами писателями, они в силу устройства своего ума способны заметить в книгах своих почивших в бозе коллег нечто большее, нечто более глубинное, нежели обнаружит самый искушенный филолог” (Т. 1, С. 12).
Предложенная оппозиция уязвима в каждой части.
То, что от лица простых читателей, подписавших предисловие, выступают два дипломированных филолога, можно счесть признаком невинного демократического амикошонства. Я и сам в учебных текстах предпочитаю подобное “мы”.
А вот в ссылке на особое устройство писательского ума содержится больше лукавства (или непонимания). Попытка выгородить особую писательскую историю литературы, куда искушенным филологам со своими критериями вход запрещен, при ее последовательном применении ведет в абсурдный тупик.
Положим, вдохновленные успехом “Литературной матрицы” свой литературный канон предложат врачи или – почему бы и нет? – рестораторы (книги о кулинарном репертуаре русской драматургии и о поэтике запахов уже существуют). И они с порога заявят: у нас тут особые правила, распространяющиеся лишь на искушенных поваров или мастеров скальпеля. Писатели написали – и могут быть свободны, в глубинных вопросах разберемся без них.
Ходить в чужой монастырь со своим уставом – занятие (в зависимости от обстоятельств) то ли опасное, то ли смешное. Даже если этот монастырь находится по соседству и кажется совсем своим.
От “писательской филологии” действительно ждут чего-то более оригинального, чем от скучных историков литературы. Но сравнивать следует не ожидания, а результат.
Критерии для оценки того, что получилось из рассказов о писателях, не надо искать на стороне. Они те же самые: оригинальность наблюдений, точность выражения, учет исторического контекста, системность в характеристике автора и произведения.
Филология как интерпретация (в ней есть много других аспектов) – искусство чтения. Нечто более глубинноенаходится на филологическом пути, а не в противоположном направлении.
3. У меня легкость необыкновенная в мыслях.
Все тексты сборника, если судить по подзаголовкам, – микромонографии о русских классиках двух последних веков. Статья о писателе – жанр понятный и привычный. Это обычно критико-биографический очерк, то сжатый до размера предисловия или главы учебника, то расширенный до объема книжки (по ним обычно готовятся к урокам учителя и к экзаменам студенты).
Формула этого жанра проста: биографическая канва плюс более или менее подробные разборы отдельных произведений с выделением ключевых, входящих в канон и акцентированием смысловых и эстетических доминант.
В отдельных случаях (Островский, Тютчев, Некрасов, А. Толстой) Автор “Матрицы” точно чувствует жанр и создает четкий графический силуэт своего героя (Ю. Айхенвальд с его “Силуэтами русских писателей” – еще один дальний предшественник этой книги). Такие главы можно спокойно включить в хороший школьный учебник без всяких скидок на дилетантизм и субъективизм.
В большинстве же своих ипостасей Автор, как ни странно, предпочитает биографию творчеству, в результате чего возникают причудливые изображения классиков, больше похожие на кубистские портреты, дружеские шаржи, а иногда и вовсе карикатуры.
Для освоившего русский язык марсианина или, скажем, западного студента-слависта, поверившего, что он берет в руки – пусть и писательский – учебник, Пушкин окажется поэтом, сочинявшим непонятно что (в главе не разбирается, хотя бы кратко, ни одно произведение, а из лирики цитируется лишь одно четверостишие, да и то в строчку), Лермонтов – писателем без “Героя нашего времени” (роман мельком упомянут лишь в главе о Тургеневе), Толстой – автором соизмеримых шедевров “Косточка” и “Война и мир” (назидательной одностраничной притче для младших школьников посвящено полторы страницы, “Войне и миру – чуть больше двух, а “Анна Каренина” с “Воскресением” не упомянуты вовсе), а Чехов, соответственно, сочинителем не столько “Вишневого сада” (страницы для него более чем достаточно), сколько раннего рассказа “Казак” (две страницы рассуждений о нем увенчивают чеховскую главку). Так что даже выстроить в сознании адресата картину, “что раньше – что позже”, тоже бывает затруднительно.
Аналогично и с XX веком (хотя второй двадцативечный том начинается как раз с Чехова). Великая антиутопия Е. Замятина? Пара страниц из двадцати пяти – и будет с нее (хотя начинается глава как раз с упоминания о созданном Замятиным “универсальном контуре вполне определенного жанра”). “Мастер и Маргарита”? Тоже две-три страницы, которые еще приходится отыскивать в почти тридцатистраничном “Собеседнике прокуратора” (понятно, речь о Сталине). “Чевенгур”? Несколько случайных упоминаний. “Доктор Живаго”? В лучшем случае три страницы из двадцати пяти. Да и чего там церемониться, коли “я не люблю этого романа” и “настоящего, крепко сбитого романного сюжета в “Живаго” нет” (Т. 2, С. 433).
Так что же, в поисках “более глубинного” Автор не имеет права заглянуть в “Казака”, если не прочел “Вишневый сад”? Нет, я не про то. Автор сам по себе имеет право на что угодно: написать, опубликовать в журнале, включить в собственный сборник. Но автор, играющий в команде, перед которой поставлены учебные, просветительские, образовательные цели, должен как-то учитывать эту сверхзадачу. Подмена жанра не безобидна, особенно в том случае, когда она приобретает массовый характер.
Есть профессиональные, филологические разборы тех же толстовских детских рассказов, по объему в несколько раз превышающие оригиналы. Но их авторы, даже шутки ради, не могут предложить, чтобы их тексты включали в учебники для четвертого класса, где толстовская “Косточка” изучается. На клетке со слоном не стоит писать “буйвол”.
У меня есть конспирологическая теория по поводу явного предпочтения биографической информации, рассказов о жизни наблюдениям над творчеством, анализу поэтики. Дело не только в том, что творцу всегда интересен другой поэт. О каждом из русских классиков написана – и не одна – более или менее подробная биогра– фия – от пространных энциклопедических статей до тысячестраничных опусов в серии ЖЗЛ. Превратить несколько сотен страниц в двадцать – задача чисто техническая.
Иногда использование биографических источников приближается к опасной грани. Стоило, скажем, Автору очерка о Фете пожаловаться на редакторский произвол и отослать к своему тексту “в нормальном виде” ( http://www.polit.ru/author/2010/12/02/al021210.html), как дотошный оппонент нашел в этой “норме” несколько раскавыченных цитат из работ фетовских биографов ( http://m-bezrodnyj.livejournal.com/383783.html#cutid1). Подозреваю, что таких “параллелей” можно обнаружить и больше.
Для подобных биографических “рефератов” не требуется не только “чтение всерьез”, но и обычное чтение (перечитывание) “Обломова” или “Вишневого сада”. Кратенькопересказать текст по памяти можно и на двух страницах.
Впрочем, переходя к разбору сказанного о творчестве, начинаешь думать: мо– жет, оно и к лучшему. От напоминания в очередной раз даты рождения Толстого хотя бы нет никакого вреда.
4. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: “Ну что, брат Пушкин?” —“Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то всё”.
Так вот о поэтике, о творчестве. В рассуждениях о материях собственно литературных коллективный Автор “Матрицы” очевидно растраивается.
Самым полезным (но количественно незначительным) оказывается ответственный трудяга, не требующий скидки на поэтическую трепетность или романную основательность. Согласно правильно понятой просветительской установке, он формулирует свою (или использует чью-то) концепцию, определяет логику ее изложения, находит цитаты-иллюстрации и последовательно выстраивает текст, не забывая о собственно писательской задаче: броском заголовке, афористической формулировке, метафоре, вовремя рассказанном анекдоте. Для поэта или прозаика это – честно сделанная заказная работа, поденщина (так уничижительно-гордо называлась давняя книжка В. Шкловского).
Но это же скучно, да и читать надо много… Поэтому Автор “Матрицы” чаще оборачивается напористо-жизнерадостным клоуном-зазывалой, работающим в жанре эпатажа.
Послушайте, Чацкий – это панк, да еще “инопланетный гость”, да еще “по нраву богоборец”!
А гоголевская поэма – “образец приключенческой литературы” и даже “безупречный приключенческий роман”!!
И “Обломов” не то, что вы (и все) думали, но – “современный русский триллер”!!!
Ну, а стихи Мандельштама “На стекла вечности уже легло / Мое дыхание, мое тепло” – пример “высокопарной глупости”, “претензия, вообще говоря, безумная; и так в те годы пишут все “салонные” поэты”! (Т. 2. С. 219).
Чехов же, оказывается, создатель “нулевого письма”, “то есть такого литературного стиля, который лишен любых идеологических и литературных кодов, индивидуальных характеристик и представляет собой нехитрую комбинацию речевых штампов и банальностей” (Т. 2. С. 20).
В предисловии составители, пропустившие весь материал через себя, предсказывают: “У профессионала-филолога, который возьмется читать этот сборник, будет масса поводов скривить лицо: об этом, мол, уже написал тот-то, а это не согласуется с теорией такого-то” (Т. 1. С. 11). (Кстати, этот образ навязчив: двумя страницами раньше почему-то “обязан скривить лицо” школьник, пришедший на урок к Мариванне).
Психологическая реакция тут предсказана по прямолинейной тургеневской художественной логике, а не по диалектической толстовской. У профессионала-филолога (и даже у Мариванны, и даже у ее думающих учеников) гораздо больше поводов не кривить лицо, но удивленно поднять брови, или улыбнуться, или расхохота– ться. И вовсе не потому, что сказанное не согласуется с какими-то там теориями (которые ведь тоже не на пустом месте возникли), а потому, что оно противоречит разбираемым текстам, а порой и сказанному через две страницы или даже в соседнем абзаце.
Ну, хорошо, профессору наконец открыли глаза на то, что Гончаров написал великий русский триллер (сию оригинальную мысль Автор заботливо вынес в заголовок и повторил в первой фразе). Но ведь надо прочесть и второй абзац: “Налицо преступление. Есть обвиняемый. Судьба как следственный эксперимент. Виновен? Невиновен? Каждое поколение читателей отвечает на этот вопрос по-разному”. (Т. 1. С. 137). Позвольте, но здесь уже обозначена фабула детектива! Не только профессионал-филолог, но квалифицированный читатель-любитель или киноман может вам объяснить, что это разные жанры(даже если они иногда и смешиваются).
Однако на следующей странице, лягнув по пути революционно-демократическую критику (как же нынче без этого, Автор ее так презирает, что теряет вопросительный знак в заглавии добролюбовской статьи), нам, не моргнув глазом и не скривив лицо, предъявляют новое открытие: “Роман Гончарова – ремейк русского инициационногомифа, мифа о становлении нации, о рождении русского психологического типа. В этом его мощь и надвременность” (курсив на этот раз не мой).
Профессорам, однако, не стоит волноваться, от них никуда не денешься, потому что через десяток страниц Иван Александрович оказывается, как уже сто пятьдесят лет известно, автором “русского реалистического романа”, “мастером психологического реализма”.
Так “Обломов” – это триллер, детектив, инициационный миф или же реалистический роман? Или, может быть, все это вместе, этакий невиданный жанровый коктейль? Нас, однако, не удостаивают дополнительными объяснениями, вместо этого увлекаясь живописанием мрачного будущего гончаровских героев.
“Если бы герои Гончарова существовали в действительности, то легко можно себе представить, что бы стало с ними в реальности, доживи они до Ленина и Сталина. Ольга стала бы комиссаром и ставила к стенке классовых врагов вроде Штольца. Обломова бы расстреляли как заложника, или он бы сам умер от голода. Такие, как Захар, необразованные крестьяне, составили позже элиту сталинской системы, и ему бы пришлось расстреливать Ольгу, как были уничтожены герои первых лет революции”.
Читая подобное (а подобной дешевой публицистики в сборнике много), хочется воскликнуть: “Вот вам сюжет то ли детектива, то ли триллера (комиссар Ольга – сильная задумка), вот клава, так и сочиняйте свой инициационный миф!” Но при чем тут Гончаров?
Панк Чацкий? Я бы еще понял, если бы Автор в этом воплощении, вспомнив свое недавнее прошлое, обозвал Чацкого национал-большевиком. Для этого можно придумать хоть какие-то основания: социальный протест, демонстративные формы его выражения. Но Чацкий-панк? Грязный, увешанный цепями, оскорбляющий общественную нравственность дикой музыкой? И тут нас не удостаивают какими-то объяснениями. “Сказал люминиевый, значит, люминиевый”.
“Чацкий – панк. Много их таких среди золотой молодежи – рвущих на себе рубахи от Gucci. Грибоедову он внятен. Наш Грибоедов, даром что строил карьеру, сам сочинял стихи в духе упомянутого Егора Летова…” (Т. 1. С. 36). И дальше следует цитата из лучшего грибоедовского стихотворения: “Мы молоды и верим в рай, —/ И гонимся и вслед и вдаль / За слабо брезжущим виденьем…”
За стихи, конечно, спасибо. Их мало знают. Но Грибоедов, сочиняющий в духе “упомянутого Егора Летова”… Ничего не скажешь, сильная мысль. Упомянуто, кстати, было вот что: “Всего два выхода для честных ребят: / схватить автомат и убивать всех подряд / или покончить с собой, с собой, с собой, с собой, /если всерьез воспринимать этот мир…” (Т. 1. С. 33). Правда, похоже? Примерно так же, как “Обломов” на русский триллер.
Кажется, что точные слова (термины), о смысле которых спорят какие-то там профессора, для Автора многих статей – пустышки, которые можно набить любой словесной трухой. Филология, конечно, не математика, она неточна, но не до такой же пародийной степени. Потому что некоторые “разборы” – чистая пародия, которая почему-то выдается за новый взгляд.
Вот Автор добирается до Маяковского, начинает анализ его раннего творчества (Маяковскому здесь посвящены две статьи, та, которую я цитирую, самая длинная в “Матрице”, целых семьдесят страниц).
“Стихотворение “Ночь”, которым открывается любое собрание сочинений Маяковского, – вещь подражательная и пустая. <…> Те строки, что любят цитировать, когда говорят о выразительности Маяковского (“Багровый и белый отброшен и скомкан, / в зеленый бросали горстями дукаты…”), на самом деле исключительно невыразительны. Невыразительны они потому, что совершенно ничего не выражают. <…> Стихи написаны о чем угодно – только не о России, не о Москве, не о взаправду увиденном. Странное дело: исключительно яркое по эпитетам стихотворение написано человеком, который словно не различает цветов, не видит действительности. Откуда бы в Москве тех лет взялись дукаты? Это что, такое образное переосмысливание бумажных керенок? Что еще за багровый и белый, где вы такие цвета в Москве найдете? Москва – разная: серая, голубая, перламутровая, мутная, тусклая, но вот багровых цветов в сочетании с зеленым и белым – в ней не имеется. Какие еще арапы с крылом попугая? Добро бы речь шла о временах нэпа, хотя и тогда арапов в Москве замечено не было, но в предвоенной России – что это за арапы, которые громко хохочут посреди багровых всполохов?” (Т. 2. С. 219 – 220).
Тут что ни замечание, что ни вопрос, то перл. Не буду про подражательность и пустоту – это вещь вкусовая. Оставлю в стороне яркое по эпитетам стихотворение, хотя за употребление шаблона яркийв филологических текстах (а оно мелькает в нескольких статьях) я бы просто лишал диплома. Даже замечательный, достойный чеховского ученого соседа (“Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда”) аргумент об исключительной невыразительностиможно списать на презрительную иронию (“Ну, не люблю, не люблю я этого вашего Маяковского, а вот приходится писать”).
Но ведь все остальное достаточно легко проверяется и объясняется.
“Стихи написаны о чем угодно – только не о России, не о Москве…” А кто вам сказал, что стихи написаны о Москве? Из чего это следует? Почему вы уверены, что описывается именно московская ночь, а не городская ночь?
“Откуда бы в Москве тех лет взялись дукаты? Это что, такое образное переосмысливание бумажных керенок?” Извините, каких лет? “Ночь” написана в 1912 (тысяча девятьсот двенадцатом) году. Какие керенки тогда можно было переосмысливать? А поскольку дальше говорится о предвоенной Москве, строгий учитель мог бы спросить Автора: а помнит ли он, когда началась – и какая? – война? И когда в русской политике появился Керенский? И самое главное: какое это имеет отношение к стихотворению Маяковского?
“Что еще за багровый и белый? Что это за арапы, которые громко хохочут посреди багровых всполохов?”
Объясняю. “Ночь” – один из первых опытов футуристической новой живописи, поэзии города, которая строится на замене признаком (эпитетом) самого предмета или его метафорическом преобразовании. Багровый и белый – цвета неба и облаков на закате. Дукаты – не образное переосмысливание бумажных керенок, а всего-навсего метафорическое обозначение электрических фонарей, которые внезапно зажигаются в зелени парка или бульвара (поэтому – бросали). Арапы же вовсе не бродят по Москве, а хохочут с раскрашенных жестяных вывесок. Картина наступления ночи в городе дана в четко продуманной последовательности живописных и выразительныхдеталей.
Самое удивительное, что этот “анализ”, как будто сделанный каким-то образованным (как же, тут и Георг Гросс, и Бахман, и Барлах, и еще телега всяких имен) дальтоником, унылым “человеком в футляре”, который совершенно не видит образа и придирается к словам, принадлежит не только яростному публицисту, автору нескольких нашумевших романов, но и художнику.
Московские дукаты я включаю в свой золотой фонд. Как образчик воинствующей поэтической глухоты или надежно замаскированного издевательства над читателем.
В своем дальтонизме критик Маяковского не одинок. Похвалы классику в “Матрице” могут быть столь же замечательно-бессмысленны. “Тургенев – виртуозный ритмик и метрик: в его фразах крепко-накрепко пригнаны начальные слова, а окончания фраз – словно чешуйки змеи: одна чешуйка влечет за собой другую, та – третью и т. д. Отсюда – гибкость фраз в их совокупности, а ритм и размер его прозы совпадает с какими-то мистическими, глубинными, скрытыми колебаниями человеческой души и тела” (Т. 1. С. 180).
Во времена раннего символизма были такие профессора (не филологи, а юристы или медики), которые печатали в газетах задорные статьи с предложениями заплатить любому желающему за разгадку какого-нибудь стихотворения Брюсова или Блока. Я, ничем не рискуя, могу объявить конкурс (с участием и самого автора) на объяснение в этом пассаже различий между ритмом, метром и размером тургенев– ской прозы (у стиховедов это довольно строгие понятия), интерпретацию таин-ственных окончаний-чешуек или скрытых колебаний человеческого тела. Победителей в нем не будет.
Вызывающий эпатаж Автора-Рыжего на соседних страницах сменяется шаблонным бормотанием Белого, как будто повторяющего сентенции еще одного чеховского героя: “Лошади кушают овес, а Волга впадет в Балтийское море”.
“В 1840-е годы в журнале “Современник” один за другим были напечатаны рассказы Тургенева из цикла “Записки охотника”. В этих живых и ярких вещах, где главным героем впервые стал простой люд, Тургенев продолжил работу Гоголя, но если Гоголь написал о душах мертвых, то Тургенев – о душах живых, которые гнездятся в неуклюжих крестьянских телах” (Т. 1. С. 166).
“От себя” тут лишь простой люд, яркие веши(и здесь яркие!) да неуклюжие крестьянские тела(кстати, почему это они неуклюжие?). Все остальное – из тех же треклятых школьных учебников.
“Так, в 1937 году Мандельштам написал такое пронзительное стихотворение…” (Т. 2. С. 369). Дальше “Грифельная ода” – целых две страницы – приводится целиком. “Еще в 1933 году поэт совершил литературно-самоубийственный поступок: не только написал жестокую эпиграмму на Сталина, но и стал открыто читать ее своим знакомым…” (Т. 2. С. 386). И снова целиком цитируется знаменитый текст.
Этот прием – огромная цитата, сопровождаемая какой-то банальной подвод– кой, – повторяется в сборнике многократно. Автору надо бы выписать на него патент. В главе о Бунине полностью цитируется его автобиография (три страницы). В тексте главы о Зощенко перепечатаны “Нервные люди” (две страницы). Из 30 страниц второй статьи о Маяковском цитаты занимают почти десять. И тут несколько текстов переписаны целиком. Почему бы тогда и оставшиеся двадцать отдать Маяковскому? Тексты сами за себя говорят.
Иногда “глубинные открытия” делаются в “Матрице” буквально на пустом месте. Вот Автор восхищается Ахматовой: “Эти стихи – ее имя для всего мира и ее мучение: особенно “Сжала руки под темной вуалью…” – его она читала вслух на выступлениях так много раз, что почти возненавидела. Ее первая настоящая литературная удача, вызывающая у молодых читательниц ощущение холода в груди:
Задыхаясь, я крикнула: “Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру”
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: “Не стой на ветру”.
В знаменитом белом двухтомнике сочинений Ахматовой (под редакцией Н. Н. Скатова) напечатано именно так: без точки после “умру” и с точкой после “на ветру”. Это так верно, что даже словами не описать: повисший вскрик – и ставящий точку ответ. “Не стой на ветру” – это горькое превращение близости в расставание: “Не стой на ветру, простудишься” переходит в “Не стой на ветру, бесполезно, ты меня не вернешь”. Это стихотворение надо пережить, как первую любовь” (Т. 2. С. 398).
Филологу, увы, скривив лицо, придется посягнуть на ощущение холода в груди и напомнить, что белый двухтомник под редакцией Н. Н. Скатова – типичное популярное издание (издательство “Правда”), знаменитое лишь своим большим тиражом. “Напечатано именно так…” – опечатка (очепятка). Если бы Автор заглянул в упоминаемое на другой странице действительно знаменитое издание под редакцией В. М. Жирмунского, первое научное издание Ахматовой (да и в любой другой авторитетный том), он увидел бы там после “повисшего вскрика” обычную прозаическую точку. Наблюдение высосано даже не из пальца, а просто из пустого места.
Но нас ведь заботливо предупредили: “…авторы – не ученые, а писатели и поэты. С литературоведческими трудами они, в большинстве своем, не знакомы” (Т. 1. С. 11).
Оказывается, не знакомы даже в том случае, когда вроде бы их упоминают!
В других же случаях все-таки знакомы, но почему-то об этом молчат.
Отношения Автора не только с “литературоведческими трудами”, но вообще со всем написанным об их подопечных – особая песня.
5. Прочие тоже были, более или менее, люди просвещенные: кто читал Карамзина, кто “Московские ведомости”, кто даже и совсем ничего не читал.
У автора статьи о Б. Пастернаке (семь собственных романов, сборник стихов, переводы и публицистика) интервьюер интересуется, как решилась да что читала. “Не выбирала, просто кто-то написал эту статью – не получилось, тогда дали написать мне. Я сказала, что Пастернака не очень люблю, но мы согласились на том, что раз я к нему без обожания отношусь, получится интереснее и объективнее, – честно признается молодое дарование. – Перечитала стихи и “Живаго”, пролистала биографию, написанную Дмитрием Быковым, потом села и написала. Получила большое удовольствие”.



