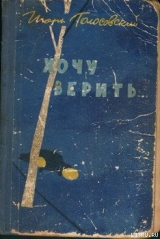
Текст книги "Хочу верить…"
Автор книги: Игорь Голосовский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Вера следила за ней исподлобья, любуясь ею и ненавидя ее.
– Ну, прощай, подпольщица! – прищурившись насмешливо сказала женщина и накинула на плечи белый щегольской полушубок. – Желаю тебе поумнеть.
– Готова? – открыл дверь надзиратель.
Охая и держась за живот, она вышла. Вера осталась одна. Она съела холодный борщ и куриную ногу, легла, не раздеваясь, на мягкую кровать и мгновенно уснула.
Рано утром ее вывели в коридор. Тут она опять долго стояла лицом к стене, потом какой-то немец в очках цепко взял ее за плечо и повел. Он втолкнул Веру в большую светлую комнату, похожую на школьный класс. Вдоль стен стояли длинные скамейки. Вера побыла немного одна, затем пришли два солдата, деловито закатали рукава мундиров, ухмыляясь, сорвали с нее платье, белье и голую привязали ремнями к скамье. Они долго, по очереди били ее резиновыми дубинками. Вера кричала, пока не потеряла сознание.
Когда она очнулась, ей велели одеться, проводили за ворота и отпустили.
…Я пробыл у Веры Давыдовны весь вечер. Она рассказала мне много интересного о своей жизни в оккупации, но все это уже не имело отношения к Людмиле Зайковской. Подводя итог беседе, я задал напоследок несколько вопросов:
– Сколько времени вы находились вместе с Зайковской?
– Примерно часов двенадцать.
– Вы вполне ручаетесь за достоверность вашего рассказа? Меня интересуют «советы», которые давала вам Зайковская, и ее рассуждения о жизни. Правильно ли вы ее поняли? Может быть, ее слова имели другой смысл?
Орлова удивленно посмотрела на меня:
– Какой же там мог быть еще сммсл? Говорю вам, я хорошо запомнила все. Эта странная женщина глубоко врезалась мне в память. Я долго вспоминала о нашем разговоре… Нет, нет, я передала точно, как было…
– Зайковскую прямо из камеры, по-видимому, отправили в тюремную больницу?
– Вряд ли, – ответила Вера Давыдовна. – Дело в том, что ее стоны показались мне притворными. Потом я уже подумала, что эта женщина, наверно, просто решила избавиться от моего общества, а может быть, под предлогом направления в больницу немцы ее увезли куда-нибудь или даже освободили… Я слышала, что она оказала им большую услугу…
Поблагодарив Орлову и извинившись за то, что помешал ей шить, я ушел.
В десять часов утра я был в архиве.
– Ну, узнали что-нибудь новенькое? – встретил меня Томилин.
– Только то, что вам уже известно, – ответил я. – След Зайковской ведет в тюремную больницу… Нужно попытаться отыскать его там.
– В тюрьме не было больницы, – огорошил меня заведующий архивом.
– Куда же в таком случае могли отправить Людмилу, если она заболела?
– Гестаповцы не имели обыкновения лечить заключенных, и никакой больницы, повторяю, при тюрьме не существовало. Что касается Зайковской, то о ее дальнейшей судьбе ничего не известно, – ответил Томилин и посмотрел на меня взглядом, в котором ясно можно было прочесть: «Ну что ты ломишься, братец, в открытую дверь?»
– Неужели мне больше не с кем поговорить? – в отчаянии спросил я.
– Поезжайте в Западную Германию, – сказал Томилин. – Разыщите там Кернера, он наверняка занимает важный пост, и попросите его рассказать вам о Зайковской. Уж он-то знает о ней всю правду. Только боюсь, он не захочет дать вам интервью.
– Вы шутите, – пробормотал я, и вдруг меня осенило. – Переводчик Чудовский! – сказал я громко. – Там же был еще переводчик! Он жив?
– Вероятно, – ответил Томилин. – Он долго скрывался, меняя адреса и фамилии. Его разыскали лишь в 1950 году, судили и приговорили к двадцати пяти годам лишения свободы.
– Значит, сейчас он еще находится в колонии?
– Возможно….
– Я встречусь с ним!
Томилин покачал головой.
– Вы упрямый человек. Поезжайте. Но не возлагайте больших надежд на Чудовского. Ничего нового он вам не скажет. У нас есть стенограмма его выступления на суде. Чудовский безоговорочно подтверждает предательство Людмилы.
– Да, да, я знаю… Он был в камере вместе со следователем Бронке, когда Зайковская писала свое донесение… Но все равно! Я обязательно должен с ним поговорить!
– Счастливого пути! – Томилин пожал мне руку. Вернувшись в гостиницу, я позвонил на аэродром. О том, где находился Чудовский, можно было узнать лишь в Москве, в Главном управлении колониями Министерства внутренних дел.
Вечером я улетел из Прибельска, улетел, так ничего и не добившись, не узнав ни одного нового факта, но по-прежнему убежденный в том, что письма Людмилы Зайковской не лгут!
5
В редакцию я не пошел. Конечно, это было не . очень-то красиво с моей стороны, но я просто боялся, что моя командировка будет аннулирована и я не смогу продолжать поиски.
Строго-настрого я наказал Кате и маме отвечать всем, кто звонит по телефону, что меня нет в Москве, а сам отправился в Министерство внутренних дел.
Начальник управления колониями, седой и внимательный полковник с Золотой Звездой Героя Советского Союза выслушал меня сочувственно.
– Я вас понимаю, – сказал он. – Иногда хочется верить интуиции, а не фактам. Погодите, вы говорите, Чудовский? Да я же его помню! В 1950 году я был председателем военного трибунала, когда его судили. Карл Карлович Чудовский, по национальности немец, из волжских колонистов. Он содержится в колонии. Я знаю это потому, что недавно ко мне поступило его ходатайство о пересмотре дела.
– Могу я встретиться с Чудовским?
– Пожалуйста. Вам придется поехать в город Борск. Советую лететь самолетом, а дальше доберетесь на попутной машине.
– Наверно, нужно специальное разрешение?
– Журналисты могут в любое время посещать места заключения, как и другие представители общественности. Желаю удачи!
По пути домой я зашел в центральную кассу аэропорта. Билет до Борска стоил более четырехсот рублей. Туда и обратно около девятисот. Пришлось занять тысячу рублей у Кати.
– Получу гонорар за очерк, верну, – сказал я. Мне было неловко брать у нее деньги – я знал, что она собиралась обзавестись шубой, – но что же мне оставалось делать? Самолет отправлялся в рейс через два дня в девять часов утра. Вечером я позвонил Маше, Услышав ее голос, я вдруг оробел.
– Здравствуйте, Маша, – сказал я. – Это говорит Алексей. Я приехал и скоро уезжаю опять. Нам нужно встретиться.
– Приходите ко мне, – тотчас же ответила она. – У вас есть время?
– Где вы живете?
– Рядом с вами, на Баррикадной.
Через десять минут я поднимался по крутой лестнице на третий этаж старинного каменного дома. Сердце у меня колотилось так сильно, что я был вынужден остановиться и перевести дыхание.
Сапожниковой нужно было звонить пять раз, но едва я притронулся к звонку, как щелкнул замок. Маша стояла за дверью и ждала меня.
Мы вошли в комнату. Я огляделся. Это была небольшая комната с высоким лепным потолком и двумя узкими окнами. В углу стояла деревянная полированная кровать, накрытая белым покрывалом. В шкафу за стеклянной дверцей виднелись корешки книг. В простенке между окнами висела географическая карта, испещренная какими-то стрелами и линиями, нарисованными цветными карандашами. Это были, как я позже узнал, туристские маршруты. Страстная туристка, Маша ездила со своими друзьями по мединституту на Алтай, в Казахстан, в Прибалтику. Она была детским врачом и работала в районной поликлинике.
На тумбочке стоял телевизор «КВН» с круглой линзой. Мебели было немного: стол, буфет и тахта с валиком.
Главным, что бросалось в глаза при входе в комнату, была чистота. Строгая, почти больничная чистота ощущалась в каждой мелочи: в накрахмаленной скатерти, в белоснежных занавесках, в простенькой дорожке, аккуратно постеленной на пороге, даже в самом воздухе, свежем, без специфического запаха, свойственного квартирам в старых домах.
– Раздевайтесь, садитесь, – слегка смутившись, сказала Маша.
Она была в широкой, колоколом, зеленой юбке и белом шерстяном свитере, плотно обтягивавшем талию и грудь. Она подстриглась, ее густые соломенные волосы падали на лоб короткой челкой, из-под которой тревожно и вопросительно смотрели на меня темно-синие, почти черные глаза. Новая прическа сделала ее лицо совсем юным. Шея стала тонкой и хрупкой, а плечи угловатыми, как у подростка.
Я смотрел на нее, не сознавая, что это неприлично – смотреть вот так, в упор, на почти незнакомую девушку. Она отвела глаза и начала медленно краснеть.
– Садитесь же. Хотите чаю?
– Хочу, – ответил я.
Глаза ее ласково улыбнулись, и я внезапно расхрабрился:
– Вы и бутерброд мне какой-нибудь дайте, Маша, хорошо? А то я сегодня не обедал.
Она захлопотала, и неловкость, связывавшая нас, исчезла. Я пробыл у Маши часа три. Мы попили чаю, посмотрели телевизор. Передавали концерт художественной самодеятельности.
Я рассказал, с кем встретился в Прибельске, не скрыв от Маши, что разочарован результатами поездки. Узнав о моем решении лететь в Борек, она взглянула на меня с радостным удивлением. Меня вдруг бросило в жар.
– Что тут особенного? Почему бы не прокатиться? – сказал я. – Тем более, там природа роскошная.
– Я не знаю, из каких побуждений вы это делаете, но, по-моему, вы очень хороший человек, – тихо ответила Маша.
– Ну вот еще! – растерянно пробормотал я. – Что вам вздумалось? Просто у меня такая работа…
– Когда вернетесь, позвоните мне, хорошо? – попросила Маша.
Я надел пальто и вышел в коридор. Вдруг открылась дверь, и Маша позвала меня. Я вернулся.
– Подождите, – сказал она. – Я еще в прошлый раз хотела, чтобы вы взяли это… – Она достала из пластмассовой коробочки, которую держала в руке, пачку фотокарточек и, порывшись в них, протянула мне одну. Я сразу узнал Людмилу – и по описанию Орловой и по большому сходству с нею Маши. Она была сфотографирована в классе возле доски. Она смотрела мимо меня. Лицо было нетерпеливым, словно говорящим: «Ну, скоро вы там?» Ей было лет двадцать или чуть-чуть побольше.
Я завернул фотокарточку в бумагу и спрятал в карман.
Маша проводила меня. В коридоре мимо нас промелькнула соседка.
– Здравствуйте, Машенька, – сладко пропела она, с любопытством смерила меня взглядом и скрылась в ванной.
Весь следующий день я был занят обоями. Катька и Виталий решили оклеить комнату новыми обоями. У молодоженов была бездна энергии, которую они не знали, куда девать, а отдуваться пришлось в результате мне…
Печально посмотрев на сдвинутую в угол мебель, на расстеленные по всему полу газеты и на Виталия, который с бодрым видом привязывал к палке одежную щетку, мама оделась и ушла из дому. Катя, намазав клеем газетный лист, сняла свой нарядный фартучек и незаметно сбежала на каток. Виталий, поскользнувшись в луже клея, упал и ушиб ногу. Мне пришлось снять пиджак и вооружиться щеткой.
Виталий сидел в коридоре на сундуке, виновато глядел на меня и стонал так жалобно, что я посоветовал ему убираться к врачу. Оживившись, он поспешно оделся и, уже не хромая, удрал. Я остался один на один с обоями…
К концу дня комната была кое-как оклеена. Я отнес ведро в кухню и в полном изнеможении присел на сундук. В этот момент в дверь постучали. Не вставая, я протянул руку и открыл замок.
В переднюю вошел моряк в черной шинели, великолепных клешах и парадно сверкающих ботинках. На его плечах сияли новенькие лейтенантские погоны.
Он снял фуражку и, держа ее рукой в белой перчатке, сказал:
– Здравствуйте. Прошу прощения. Могу я видеть Алексея?
– Это я…
– Очень приятно. Извините за беспокойство. Я буквально на две минуты.
У него было очень молодое, круглое, доброе лицо с розовыми щеками и курносым носом.
– Слушаю вас, – сказал я.
– Вы журналист, кажется?
– Да.
– А я в общем жених Маши! – выпалил он и густо покраснел.
Я не сразу понял, о чем он говорит. Через минуту до меня дошел смысл его слов, и я спросил, стараясь быть спокойным:
– Вы, очевидно, имеете в виду Машу Сапожникову?
– Да, я имею в виду Машу! – ответил лейтенант яростно. – Именно ее, и вы прекрасно об этом знаете! Вот что, молодой человек, вы работате в газете или не знаю где, меня это не касается. Слушайте и зарубите себе на носу. Я люблю Машу и хочу на ней жениться. Понятно? Оставьте-ка ее в покое, и нечего к ней ходить и морочить ей голову!
– Не кричите на меня, пожалуйста, – сказал я, похолодев. – Я был у Маши всего один раз по важному делу. И буду с ней встречаться, если потребуется, еще… А вы, ничего не узнав, сразу набрасываетесь! Просто возмутительно!
Но я не был возмущен. Я был растерян и опечален.
– Если так, то ладно, – упавшим голосом сказал лейтенант. – Простите за беспокойство. – Он надел фуражку и жалобно закончил: – Если по делу, тогда, конечно, какой разговор… очень извиняюсь.
– Ничего, – буркнул я, с завистью глядя на его атлетическую фигуру и широченные плечи. Можешь быть спокоен, моряк, куда мне до тебя!
Потоптавшись в дверях и еще раза три извинившись, он ушел.
– Глупо, – вслух сказал я. На душе у меня было погано.
Мне вдруг расхотелось лететь в Борск. Хорошо, что самолет отправлялся утром. До вечера я бы, пожалуй, не выдержал. Мне очень хотелось порвать билет и забыть о Маше и о ее матери. Позже я со стыдом вспоминал об этом приступе малодушия.
«Будем считать недоразумение исчерпанным, – сказал я себе, когда самолет поднялся в воздух, – в чем, собственно, дело? Не все ли равно, есть у Маши жених или она замужем и ждет третьего ребенка? Не ради нее же я все затеял!»
Я решительно взял с полки «Огонек» и углубился в чтение приключенческой повести. Но долго еще сердце у меня саднило…
Борск поражал широкими, асфальтированными улицами и многоэтажными каменными домами. Я думал, что это захудалый поселок, а это был большой современный город с треллейбусами, драмтеатром и стадионом. Город как город. По улице с портфелями в руках спешили в школу ребятишки. Женщины в пальто и меховых шубках, в теплых ботиночках отправлялись за покупками. Проносились легковые и грузовые машины.
До колонии было сто километров. Туда на рассвете отправлялся грузовик с продуктами.
Я уехал с этой машиной.
В кабине шофера было уютно и тепло. Я с интересом разглядывал окрестности, но, впрочем, очень быстро утомился и задремал. Смотреть-то было совершенно не на что. Гладкая, как стол, белая равнина, и больше ничего.
Через четыре часа показались строения, а за ними небольшой террикон. По его склону ползла крохотная вагонетка. Грузовик остановился возле длинного забора, оплетенного колючей проволокой. За забором, через равные промежутки, торчали вышки. На вышках за стеклянными стенками расхаживали часовые.
– Приехали, – сказал шофер.
…Начальник колонии – молодой, подтянутый майор со скуластым лицом кирпичного цвета, – узнав о цели моего приезда, не выразил удивления.
– К нам последнее время многие ездят, – сказал он не то одобрительно, не то с иронией. – Из журналов, из советских организаций, даже из соцстраха. Обед на кухне пробуют. Обувь щупают у заключенных, не прохудилась ли. Ничего, хорошая обувь. Народ у нас здесь весь работает. Зарплата им начисляется. По вечерам смотрят кино, устраивают концерты самодеятельности. И все считают, что так и нужно. А я часто думаю: кто у нас тут? Опасные преступники. Старосты, начальники полиции и другой сброд. «Вы же поглядите, – хочется мне им сказать, – поглядите, как с вами обращается советская власть, которую вы предали! Неужели ничего у вас внутри не шевелится?»
– Ну, есть, наверно, и случайные люди, – осторожно сказал я. – Разные бывают обстоятельства.
– Случайных давно по домам отпустили, – строго ответил майор. – Остались только те, кто служил фашистам верой и правдой. Чудовский ваш трудится в бухгалтерии. На физической работе здоровье не позволяет. Вечерком можем его навестить.
Чудовский жил в маленькой комнатке при бухгалтерии в самом центре колонии. Поблагодарив майора, который проводил меня, я поднялся по лестнице и постучал. Мне открыл мужчина лет пятидесяти, полный, хлопотливый, с румяным, моложавым лицом и пухлыми ручками. Он был чисто выбрит. От него пахло дешевым одеколоном. На нем были зеленая пижама и войлочные туфли. Мы познакомились.
– Карл Карлович Чудовский, – сказал он, наклонив набок голову и не протягивая руки.
Я назвал себя.
Узнав, что я журналист, Чудовский вообразил, должно быть, что я собираюсь писать очерк о заключенных, и захлопотал. Он снял с моих плеч полушубок и, бережно держа его в вытянутых руках, точно горячий чайник, повесил на гвоздик. Затем с грохотом открыл печку, подбросил полено и лишь после этого предложил мне стул.
– Хорошо, что вы зашли ко мне, – сказал он, умильно заглядывая мне в глаза. – Я тут давно, обо всем могу рассказать. Много еще, конечно, есть существенных недостатков. Но прогресс некоторый имеется. Безусловно, а как же? Веяние времени.
Сев против меня на стул и сложив руки на коленях, точно примерный ученик в классе, он принялся ровным, внятным голосом рассказывать о том, как несправедливо обошлась с ним судьба и с какими нечуткими, неинтеллигентными людьми приходится ему жить здесь бок о бок.
Мне неудобно было его прерывать, но Чудавский, судя по всему, собирался говорить о себе еще долго. Воспользовавшись случайной паузой, я сказал:
– Извините, у меня мало времени. Я приехал к вам, чтобы побеседовать совсем о другом.
Он сразу насторожился. Исчезла улыбка.
– О чем же?
– О некоторых событиях, происшедших летом и осенью тысяча девятьсот сорок второго года в оккупированном Прибельске.
Чудовский стал еще сдержаннее.
– К сожалению, плохо их помню. Прошло восемнадцать лет.
Он явно испугался. Ему, наверно, показалось, что я знаю нечто такое, о чем он все эти годы предпочитал умалчивать. Пришлось его успокоить.
– Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, Чудовский. Я интересуюсь этими событиями исключительно как журналист. То, о чем я буду вас спрашивать, не имеет лично к вам никакого отношения. Я просто прошу помочь мне разобраться в некоторых неясных фактах.
Поза его стала менее напряженной. Он откинулся на спинку стула, вытащил из кармана пачку папирос. Но в глазах по-прежнему было недоверие.
– Спрашивайте.
– Помните ли вы некую Людмилу Зайковскую?
– Да, помню.
– Расскажите, пожалуйста, подробно, как вы впервые встретились с ней.
Он прикурил, глубоко затянулся несколько раз и медленно, взвешивая каждую фразу, ответил:
– Это было в конце июля тысяча девятьсот сорок второго года. Я работал переводчиком у штурм-баннфюрера Кернера, начальника политической полиции. Двадцатого или двадцать первого июля, точно не помню, ко мне в кабинет зашел дежурный по корпусу и сказал, что меня вызывает господин Бронке в сто четырнадцатую камеру. В этой камере я застал Бронке и молодую красивую женщину, которую звали, как я узнал, Людмила Зайковская. Она была арестована вместе с другими восьмого июля за принадлежность к подпольной организации.
Речь Чудовского лилась плавно. Он говорил не торопясь, но без запинки, по-видимому не припоминая, а лишь повторяя свои давно заученные наизусть показания.
– Когда я вошел, Зайковская стояла у окна, сложив руки за спиной и слегка откинув назад голову. Ее волосы рассыпались по плечам. Помню, у нее были очень красивые волосы, рыжеватые, пышные и длинные. «Поговорите с ней, Чудовский, – приказал Бронке. – Я плохо ее понимаю».
– Она же преподавала немецкий язык, – удивился я.
– В тот раз Зайковская говорила только по-русски. Наверно, у нее были на это свои причины… «Господин переводчик, – сказала она, – объясните Бронке, что я должна срочно увидеть штурмбаннфюрера Кернера. Пусть он придет ко мне в камеру или вызовет меня к себе. Я сделаю важное сообщение». «Можете все сказать Бронке, он передаст Кернеру, – ответил я. – Господина штурмбаннфюрера сейчас нет в городе».
– Его действительно не было?
– Нет, он был, но если бы пришлось его позвать, Бронке никогда не простил бы мне этого.
– Почему?
– Потому, что ему хотелось представить дело так, будто именно он уговорил Зайковскую дать важные показания. Короче говоря, поставить это себе в заслугу.
– Он вам намекнул?
– Что вы, конечно, нет! Но это было и так ясно. Я недолго продержался бы на своей должности, если бы не научился разбираться в их психологии…
– Что же ответила Людмила?
– Она подумала немного и согласилась дать показания Бронке. Она спросила, может ли Бронке гарантировать ей жизнь и свободу, если она назовет адреса и фамилии важных преступников.
– Патриотов, – поправил я.
– Да, конечно, – торопливо сказал Чудовский. – Бронке дал ей честное слово немецкого офицера, что она не только останется жить, но будет щедро вознаграждена.
– Он собирался сдержать свое обещание?
– Он просто не думал об этом. Зайковская назвала имена подпольщиков, взорвавших железнодорожный мост. Я их помню. Остап Тимчук, Семен Гаевой, Тарас Михалевич и Василий Галушка. В тот же день все четверо были арестованы, ни в чем не признались, но все равно их казнили.
– Когда?
– Точно не помню. В начале августа.
– Почему их одних? Другие подпольщики еще долго находились в тюрьме.
– За взрыв моста Кернер получил выговор от своего шефа – штандартенфюрера Герда. Ему хотелось показать свою оперативность. Сообщение Зайковской было для него очень кстати. Он так обрадовался, что приказал перевести ее в хорошую камеру и кормить обедами из ресторана.
– Почему же он не освободил ее?
– Она была еще нужна ему. Он хотел с помощью Зайковской получить показания у секретаря подпольного горкома партии Георгия Лагутенко.
– Каким образом?
– Посадив ее к нему в камеру. Лагутенко ведь очень хорошо относился к Зайковской.
– Кернер вам говорил об этом плане?
– Да, он говорил мне…
– План был осуществлен?
– Не знаю… Девятнадцатого августа меня перевели в другой город, и я больше не видел Зайковскую и не слышал о ней.
– А с Кернером вам приходилось еще встречаться?
– Да, ведь он оставался моим начальником.
– Случайно в разговоре он не упоминал о Зайковской, о ее дальнейшей судьбе?
– Нет…
– А Лагутенко? Дал Лагутенко какие-либо показания?
– Не могу вам сказать.
– Как вы думаете, что могли сделать с Людмилой? – задал я последний вопрос.
Чудовский посмотрел в потолок, почесал пальцем бровь и ответил снисходительно:
– Кернер обычно убирал людей, чьими услугами пользовался, Скорее всего Зайковская была расстреляна…
Наш разговор можно было считать оконченным. Все, что рассказал Чудовский, я знал раньше… Мне было ясно, что больше он ничего не скажет. Уже одевшись и стоя в дверях, я спросил для очистки совести:
– В тюрьме была больница?
– Нет, – ответил Чудовский. – Заключенных лечили в городской больнице. Конечно, только тех заключенных, которые были нужны Кернеру. Их помещали в отдельную палату. Там постоянно дежурил тюремный надзиратель Майборода Егор Тимофеевич.
– Неужели фамилию помните?! – вырвалось у меня.
– Чего же его не помнить, – спокойно сказал Чудовский, – если мы с Майбородой вместе пять лет в одном бараке жили, на соседних нарах спали. Освободили его по амнистии. – В голосе Чудовского послышалась зависть.
– Где он теперь, не знаете случайно? – Я замер, ожидая ответа.
– Адресок у меня записан. Желаете? – Чудовский принес из комнаты записную книжку, нашел нужную страницу и сказал: – Вот. Путевым обходчиком работает. Если случится зайти к нему в гости, передайте от меня привет. А о Зайковской, поверьте, как на духу, ничего больше не знаю.
– Благодарю вас, – сказал я. – До свидания.
– Просьба у меня к вам имеется, – вдруг решился он. – Ходатайство я написал Министру внутренних дел. Не затруднит вас по приезде в Москву передать его прямо к нему в приемную?
Он достал из кармана конверт и протянул мне.
Утром я уехал. Начальник колонии дал мне свою машину. Я сказал ему о просьбе Чудовского и спросил, можно ли ее выполнить?
– Он мог бы передать свое ходатайство обычным путем, – ответил майор. – Но если это вас не затруднит, передайте его министру… Ничего страшного.
Я долго видел из машины черный конус террикона и коробочки домов, резко выделявшиеся на чистом снежном покрывале степи. Настроение у меня было приподнятое. Все-таки я не зря сюда приехал. Появилась какая-то крохотная зацепка. Конечно, этот Майборода может и не знать о Зайковской. Неизвестно, была ли она вообще в больнице. Но я радовался тому, что передо миой открылась узенькая тропиночка как раз в тот момент, когда я считал себя в тупике… Мы еще повоюем, товарищ моряк, и Маша тут ни при чем. Можешь на здоровье оставаться ее женихом!
Мне не терпелось поскорей попасть в Москву, но я решил экономить деньги – ведь предстояло еще совершить путешествие к Майбороде – и взял билет на поезд.
В Москву я приехал 30 декабря. Улицы были празднично украшены, в витринах сверкали, наряженные елки. Дома меня встретили радостными восклицаниями.
– Слава богу, хоть на праздник явился! Два дня мы тебя никуда не выпустим! – твердо сказала мама. – Лучше не пытайся улизнуть.
– Хорошо, – ответил я. – Вот только позвоню в редакцию.
Я рассказал Василию Федоровичу, что узнал кое-что новое о Зайковской, по-прежнему надеюсь отыскать факты, говорящие о ее невиновности, но должен еще встретиться с некоторыми людьми и, возможно, кое-куда съездить.
Он слушал меня невнимательно.
– Ладно, ладно… Подгонять мы тебя не будем, ио и за проволочку не похвалим. К Дню Советской Армии, во всяком случае, очерк должен быть в полосе, иначе я тебе не завидую. А может, лучше бросить это дело? А? Ты скажи откровенно, не стесняйся. И у классиков бывают осечки…
– Нет, не брошу, – ответил я.
– Ну, добро… На вечер в редакцию придешь?
– Обещал встретить с родными… С Новым годом!
– Взаимно.
31 декабря в двенадцать часов ночи раздался телефонный звонок.
– Это Алексей? – услышал я Машин голос. – Здравствуйте. Я очень рада, что вы приехали… Я ни о чем не спрашиваю, Алексей, я просто хочу пожелать вам счастья. Большого, большого счастья, слышите?
– Слышу, Маша, – ответил я. – И я вам желаю счастья. Вам и вашему жениху.
– Спасибо. Только его сейчас нет. Он служит в Ленинграде и приезжает не часто.
– Значит, вы одна?
– Да, я одна… Но мне не скучно. Я смотрю телевизор. Поздравляю вас с Новым годом, Алексей.
– Спасибо… С Новым годом, Маша!
На другой день я позвонил ей, и мы встретились возле высотного дома.
– Я хочу попросить у вас прощения за Сережу, – сказала Маша, поздоровавшись. – Вчера по телефону было неудобно…
– Ерунда! – смущенно ответил я.
– Ерунда, но все равно ужасно глупо получилось. Я с ним теперь не разговариваю. Он звонит, а я не подхожу.
– Напрасно, Маша, – грустно сказал я. – Вы лучше с ним помиритесь. Он вас очень любит.
– Вы мне это советуете? – каким-то странным тоном спросила она.
– Я не могу давать вам советов, но я бы помирился на вашем месте…
– Хорошо, я помирюсь, – согласилась Маша, искоса взглянув еа меня.
Мы заговорили о моей поездке. Услышав о Майбороде, Маша заволновалась:
– Что, если он действительно помнит маму? Ох, как же это важно! Сейчас все должно выясниться… – Щеки ее порозовели. Она остановилась и прижала руки к груди. – Алеша, возьмите меня с собой! Я вас очень, очень прошу. Я не буду вам мешать, честное слово. Это же совсем близко… Я на несколько дней отпрошусь. Здесь я изведусь…
– Но я не знаю, удобно ли, – ответил я растерянно. – Что подумает ваш жених? И вообще… Вдруг придется там задержаться…
– Ну и что же! Я должна поехать туда, неужели вы не понимаете? Должна!
– Хорошо, – сдался я. – Едем!
Катюша увязалась меня провожать. Увидев Машу на перроне, она подошла к ией и бесцеремонно спросила:
– Это вы дочка Людмилы Зайковской? Мне все известно!
– Как тебе не стыдно! – зашипел я, но она и ухом не повела.
– Значит, вас зовут Маша? И вы едете вместе? Гм, понятно!.. Смотрите, не закрутите голову моему брату. Он мужчина робкий, беззащитный.
Маша засмеялась:
– Ну, я бы не сказала.
Ехать нужно было всего одну ночь. Мне не спалось. Я вышел в тамбур и, глядя на черное стекло, стал думать о людях, с которыми пришлось встретиться в последние дни. Все они как бы имели по два лица. Одно, принадлежащее им сейчас, и второе то, что было девятнадцать лет назад. Как выглядел в тысяча девятьсот сорок первом году безобидный Чудовский? Каков был мирный историк Томилин? Я слышал, что он воевал в партизанском отряде… А Вера Орлова? А те, с кем еще мне предстояло познакомиться?
Я жил одновременно и в прошлом и в настоящем. От событий военных лет зависели мои теперешние поступки, а сегодняшний день помогал правильно оценить то, что случилось два десятилетия назад… Связь между прошлым и настоящим была кровной и неразрывной. Никогда я не ощущал это так остро.
Позади скрипнула дверь. Я увидел Машу. Она зябко куталась в белый пуховый платок. Я молча подвинулся, освободив ей место возле окна. Лицо ее было бледным в желтом электрическом свете. Глаза казались совсем черными.
– Я думала о вас, – сказала Маша. – Какая у вас удивительная специальность! Вы должны быть историком и следователем, знать технику, сельское хозяйство и еще миогое, многое другое… И главное, обязательно быть хорошим человеком, иначе ничего вы в жизни не разглядите, а если разглядите, то все равно не поймете… Вот вы, Алеша, я думаю, настоящий журналист!
– Почему же вы так решили? – шутливо спросил я. – Может, как раз ненастоящий? Может, это не мое призвание?
– Нет, вы настоящий! – Она серьезно посмотрела на меня и покачала головой. – Вы хотите узнать правду. Правда вам дороже всего, а напечатают ваш очерк или нет, для вас неважно…
– Еще как важно, Маша! – возразил я. – Ужасно хочу, чтобы напечатали и чтобы фамилия была крупными буквами. Хочу, чтобы редактор похвалил и чтобы люди толпились возле витрины. И от гонорара бы не отказался. Вот видите, какой я?..
– Все равно, это не главное… Скажите, ведь вам хочется, чтобы моя мама оказалась невиноватой? Хочется, да?
– Ну, конечно, – ответил я. – Очень!
– А почему?
Я пожал плечами:
– Не задумывался над этим… Просто каждому человеку хочется верить в хорошее…
– О, как вы еще не знаете людей!.. Другой на вашем месте давно убедился бы, что мама предательница, и прекратил поиски. Ведь я же понимаю, что дело не только в письмах… Вы не хотите верить, что комсомолка, выросшая при советской власти, могла продаться фашистам. Ведь так?
– Так…
– Каждый судит о людях по себе, это я давно заметила. Вот и выходит, что вы настоящий человек и настоящий журналист!
– Имейте в виду, я могу подумать, что вы мне льстите. Нельзя говорить такие вещи ночью молодому, неженатому мужчине, – смущенно сказал я. – Лучше посмотрите на этот огонек. Поезд идет, а огонек на месте стоит. Что бы это могло быть?
– Отражение от лампочки, очень просто.
– Я посмотрел на Машу, и мы рассмеялись.
– Сколько вам лет? – неожиданно спросила она.
– Двадцать семь… Что, выгляжу старше?
– Нет, я не потому… Мне кажется, у вас большой жизненный опыт.
– Обыкновенный, как у всех… Учился в университете на заочном, работал чертежником на станкозаводе. Отец умер, когда мне было двенадцать лет, и я сразу пошел работать.








