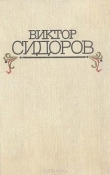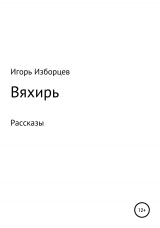
Текст книги "Вяхирь"
Автор книги: Игорь Изборцев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– На старости две радости: один сын – вор, другой – пьяница, – невесть к чему орала вслед пыльному облаку уже успевшая захмелеть Малютиха.
Бабий язык – чёртово помело, – подумал Иван Васильевич. – А ведь добрая когда-то девка была, завидная невеста. Коль под мой возраст подходила бы, глядишь, и я бы к ней в ворота постучался. Хорошо, позднее она заневестилась, так что эта чашу Григорий Лукьянович пил… бил, да не разбил… Никто в машинах не обращал на Малютиху внимания. Иван Васильевич за широкими окнами видел Федьку, закаменевшего от предстоящего ему пугающего и таинственного действа, и оживлённые, от того же предстоящего, лица гостей.
Любо им чужедомное, – опять вернулся он мыслями к прежнему. – Или своя разруха опостылела? Чужая радость своей печали дороже? А не от того ли и разруха, что чужое родным стало? Чужбинка, однако, не по шерсти гладит. Своё ломаем, не бережём. Верно Анастасьюшка-то говорила: худая та птица, которая гнездо своё марает. Комбайны, на полях брошенные, в землю врастают да ржей покрываются, как оные камни мхом. Деревни, что вдовы соломенные, пучат пустые глазницы на пашни заросшие. Словно мор лютый прошёл по земле. Что осталось, за грош продаём и на хлам нерусский меняем. Ни орут нас, ни сеют, сами мы что ли дураками родимся? Или всё ж сеют?
Иван Васильевич припомнил гладкого, как голыш из ручья, комиссара из Европы. Гиреев так его и представил колхозному обществу: комиссар, дескать, из Европы Ричард Ченслер. Взошёл тот на клубную трибуну, глазами пострелял по залу, – словно выискивал кого-то? – и улыбнулся, как савраска деда Алексея, выставив напоказ белющие, ровно перхотью посыпанные, лошадиного размера зубы: вон, мол, мы какие; не то что вы – гнилозубы да желтозубы. Народ-то наш подзапущен – что верно, то верно. Только где ж ему лекарства-то покупать, с какого достатка? От всех напастей самогоном пользует себя, будь оно не ладно. Только этот Ричард не зубы приехал обществу лечить, не с пьянством бороться. Он, вроде как, головы решил народу поправить: поучить, как жить разумно. Вот, дескать, меньшинства у вас нарушаются, права их щемятся – в Европе того не любят и не приветствуют. Иван Васильевич, как понял, что о содомитах гость толкует, так вознамерился, было, плюнуть да уйти, но как тот про иные меньшинства заговорил – решил повременить. А гнул этот комиссар к тому, что веруют, де, в здешних местах неправильно, дремуче – в европах так давно никто не верует. Вот, говорит, есть, дескать, у вас уважаемый Девлет Гиреев – он, как раз из меньшинств происходит. Почему ему мечеть не ставите? Почему щемите его права? Гиреев улыбался, лицо, как жёлтый блин лоснилось и тоже кивал: да, дескать, почему? А давайте, дальше гнул своё Ричард, спросим ещё одного из меньшинств. Есть у вас, спрашивает, такой Бекбулатович? (Всё ведь наперёд прознал, шельма!) Есть, ответили. Тут и сам Бекбулатович к трибуне выступил. Он уж прорву лет прожил в посёлке – из крещёных татар был. Почесал Бекбулатович затылок плешивый. На кой мне, говорит, мечеть ваша? Мы крестов не боимся. Так прямо и сказал, а комиссару тому и крыть нечем. Спрятал он свои зубы лошадиные, скривился, будто клюквы ему в рот натолкали, и ушёл. А тут припоздавший отец Никон вбежал, хорошо – не поспел, а то быть международному скандалу. Уж он-то комиссара с его меньшинствами срамными ещё бы как взгрел!
Ездил чёрт в Ростов, да напугался крестов, – улыбнулся Иван Васильевич. Последнее воспоминание прибавило ему духу: хоть что-то своё сохранили – слава Богу! Однако сомнения не уходили и – нет-нет – тревожно цепляли за живое. А если поднапрут комиссары эти? Они ведь – языком, что рычагом? Да деньгами поманят? Устоим? Иван Васильевич посмотрел на томящуюся в пыли под солнцем Малютихину компанию. Эти, вон, – подумал, – ради чарки дармовой ни себя, ни других не пожалеют – горы свернут, да на спины наши обрушат. Какой разум в такой голове? Одно слово: ехал к Фоме, а заехал к куме. Родился мал, вырос пьян, помер глуп… Ладно, Бог не выдаст, свинья не съест, – Иван Васильевич откинулся на спину. – Отдохну малость… Сквозь рваное зелёное сито ветвей капала ему в глаза прозрачная небесная голубизна, затекала в голову и, смешиваясь с пряным запахом свежескошенных трав, кружила там пьянящим хороводом. Вот она, земля-то родная, да небо наше… Мысли стали вязнуть, путаться… Иван Васильевич понял, что, если сей момент не поднимется, то уснёт. Противиться не стал, закрыл глаза и тут же, словно провалившись куда-то, действительно уснул…
Солнце, луна, звёзды… – всё это, открытое ему одновременно, не смешивается друг с другом, но наполняет живым неземным светом огромный мир, в котором он – мельчайшая песчинка. Кто я? Он боится хоть что-то сказать – что его слово в этой невместимой в разум огромности? Но чей-то голос отражается эхом от звёзд, обтекает словами луну, касается солнца… «Господь наказывал меня за грехи то потопом, то мором. И всё я не каялся, наконец, Бог наслал великие пожары, и вошёл страх в душу мою и трепет в кости мои, смирился дух мой…» Чьи это слова? Чей это голос? Мой… Он пугается… Кажется, все звёзды смотрят сейчас только на него – он в самом центре этого необъятного мира…
Небесная твердь лопается, он падает, летит куда-то вниз… Вот он уже в просторной комнате, за столом. Горят свечи… Множество свечей в массивных подсвечниках. Он видит себя со стороны: он в крытой красным бархатом собольей шубе с большим отложным воротником… золотые пуговицы, жемчуга… на ногах – красные сафьяновые ичеги… Он что-то пишет, обмакивая перо в золотую чернильницу…
«Се аз, многогрешный и худый раб Божий Иоанн, пишу сие исповедание своим целым разумом. Душею убо осквернён есмь и телом окалях. Яко же убо от Иерусалима божественных заповедей и ко ерихонским страстем пришед, и житейских ради подвиг прелстихся мира сего мимотекущею красотою…
Се заповедаю вам, да любите друг друга, и Бог мира да буди с вами. Аще бо сия сохраните, и вся благая достигните; веру к Богу тверду и непостыдну держите крепко, за нее страждите крепко и до смерти. А сами живите в любви. А воинству, поелику возможно, навыкните…
И вы б, дети мои, Иван и Федор, жили бы в любви и в согласии заодин, и сей мой наказ памятовали бы крепко. Аще бо благо учнете творити, вся вам благая будет. Аще ли злая сотворите, вся вам злая сключатся, яко же речено бысть во Евангелии: аще кто преслушает отца, смертию да умрет…»
Он вчитывается и ужасается: кому я пишу? Фёдор – в Твери. А Иван? Кто Иван? Но тут его пронзает ужасающее прозрение.
– Нет, – шепчет он, словно отмахиваясь, – не может быть!
– А что бы ты хотел, грешный Ивашка?
Он оборачивается и видит отца Сильвестра. Тот в белоснежном подряснике с золотым крестом; борода его не седой паклей на груди, а как чистейший первый снег.
Он чувствует себя послевоенным юнцом, да и одежда на нём теперь самая обыкновенная – повседневная деревенская. Дорогой шубы, да золотых украшений – нет как нет.
– Батюшка, благослови, – тянется он руками к священнику.
– А на что тебя благословить? – отец Сильвестр пугающе строг. – На что тебя благословить, – повторяет, – на какие добрые дела?
– Я не знаю, – он чувствует себя совсем растерянным и вдруг спрашивает: – А где мой сын Иван?
– Так ты ж его убил.
– Когда? – спрашивает он и с ужасом понимает, что всё так и есть, что он и убил. Только как?
– А жену свою кто, на слёзы её не смотря, в больницу взашей гнал к убийцам-врачам? То-то! Вот тот убитый во чреве младенец и был твой сын Иван.
– Как же? Я ведь не знал.
– Да всё ты знал, – отец Сильвестр строго грозит пальцем, – а ну-ка припомни!
Он вспоминает… Плачет Анастасья, на живот свой указывает: «Он ведь живой, Ваня, как же его под нож?..» Теперь он сам плачет, и слёзы его, как капли расплавленной смолы, опаляют щёки, капают на грудь и прожигают до самого сердца…
– Говоришь, в деревнях ваших жить некому? – продолжает отец Сильвестр. – Умирают деревни? А что ж вы детей своих губите: они бы вам и землю пахали, и сеяли, и дома строили. Ты всё татар, да литовцев коришь, воюешь с ними мыслями пустыми, а ближних-то своих ты поберёг? Ведь и их-то, если не делом, то словом, мыслью, побил, да грязью зачернил. Начальники тебе плохи! Не по праву, де, и истине правят. А сам-то в мыслях не мечтал о том? Не царствовал? Царствовал! Суд, да расправу вершил? Было! А правый ли суд? То-то. Все у тебя плохи – воры да пьяницы, все тебя не привечают, в гости не зовут. А ты-то кого позвал? Последним с кем поделился? Кого из беды вызволил?
– Да что я могу? Стар я уже, да гол как сокол, – он пытается оправдаться, но сразу видит своё лукавство и неправоту. А отец Сильвестр тут же обличает:
– Беден, гол, говоришь? Так и другие не лучше. Вот и позвал бы к трапезе своей. Жене-то, помнишь, наказывал: «Что в печи, всё на стол мечи?» Вот и сам бы так. Не в богатстве дело, а доброте сердечной. Что по любви, от сердца открытого делается – тому и ближний рад, и Господь за то наградит. Господь-то всё приемлет – и горбушку, с ближним разделённую, и копеечку последнюю, и слово милосердное; Он и дела принимает и намерения приветствует; и труды почитает и жертвы хвалит. Но только что ты сделал из этого? Ничего! Так что сам и есть всему виной – и разрухи, и запустения, и всего доброго забвения.
Он ищет оправданий, которых там, в его избе, куда взгляд ни кинь – пруд пруди. Но здесь их нет. И совесть его, как власть имеющая, велит ему молчать… Он думает о жене, – как она? – но не смеет спросить. И молчит…
– Ладно уж, – отец Сильвестр вдруг мягчает и за строгостью его проступает та самая давешняя земная доброта, – об Анастасии хочешь узнать? Что дозволительно тебе ведать, скажу. Не оставил её Господь. За муки её земные, за смиренное, покорливое сердце не знает она нынче ни в чём нужды, и печали более не ведает. Это всё, что положено тебе пока знать. Если будет на то для тебя Божия воля, узнаешь поболее. Только помни: сейчас ты под вопросом. А как дело своё поправить, ты уж теперь сам рассуждай.
– Да, я понял, – он сокрушённо кивает головой и замечает свои, всё ещё протянутые за благословением, ладони. И вдруг видит, что батюшка осеняет его Крестом и подаёт руку.
Он бережно принимает её, целует с чувством детского восторга и никак не хочет отпустить. Но отец Сильвестр осторожно отнимает и говорит, словно прощается:
– А на отца Никона ты обид никаких не держи, на исповедь к нему ходи, Таинства принимай. Ему же ещё много поправок выйдет: так что исправится и в силу войдёт. Да у него и фамилия-то знаешь какая? О-о! – отец Сильвестр сворачивает губы в трубочку и улыбается…
Это действительно прощальные слова… Разом всё исчезает, пред глазами пестрая невнятная суматоха… Какие-то звуки врываются извне и выталкивают разум на поверхность, к свету, к воздуху, к небу…
Первое, что почувствовал Иван Васильевич, проснувшись – приютившегося под боком кота. Невесть как разыскавший хозяина Калач, выражая своё полное довольство и преданность, старательно мурлыкал.
– Молодчинка-скотинка, любишь деда своего, – Иван Васильевич приласкал кота и задумался над последним из сна вопросом батюшки Сильвестра. Какая же фамилия? Вроде бы слышал? Он рассеянно поглаживал выгнутую тугим луком спину Калача и всё никак не мог вспомнить. Какая же? И вдруг всплыло, как лёгкое облачко – не иначе подарок от батюшки Сильвестра. Оттуда! Колычёв его фамилия. Отец Никон Колычёв! И всё же? В чём закавыка? Фамилия, как фамилия? И чего это батюшка так восторженно губки округлил? Нет, – мысленно сдался он, – не доискаться сейчас. Потом спрошу у кого. Да и вообще… Давешний сон в своей необыкновенной пугающей достоверности и, в тоже время, полной своей невозможности, никак не укладывался в голове. Не сейчас! – отодвинул он от себя целый ворох вот-вот готовых нахлынуть мыслей. – Позже, ещё будет время…
А у Касмановых гремела музыка, народ вовсю гулял и веселился. Сколько ж я проспал? – Иван Васильевич растерянно почесал затылок. – Не иначе уж к вечеру дело? Он разглядел небрежно раскиданную по сторонам дороги Малютихинскую заставу. Это означало одно: свадебный поезд давным-давно прибыл и все получили, кто что хотел. Действительно, с другого конца деревни доносился весёлый наигрыш гармони; кто-то во весь голос распевал частушку:
Погляди, дроля, на небо.
После неба – на меня.
Как на небе тучи ходят,
Так на сердце у меня.
А со стороны Касмановых, словно соревнуясь с озорным бабьим распевом, звериный мужичий голос орал под грохот электрогитар:
Он съел живьём крысу, он выпил кровь кобры,
Спалил дотла ведьму, собрал её пепел,
Посыпал им тело.
«Господи, помилуй!» – прошептал Иван Васильевич и перекрестился. Он похлопал себя по бокам, стряхивая налипшую сухую траву, и побрёл к своему дому – прятаться теперь не имело никакого смысла. Он добрался до палисадника и услышал, что пение, с противоположного от Касмановых конца деревни, вроде как приближается. Действительно, гармонь резвилась уж где-то рядом, да и слова частушек звучали совсем явственно и разборчиво:
Золото моё колечко,
На колечке есть печать.
Кто завлёк моё сердечко,
Тот и будет отвечать.
Машка Темлюкова поёт, – сообразил Иван Васильевич. Уж её-то голос он не спутает ни с каким иным. Как овдовел, было дело – сватали её за него. Ничего из этого не вышло – и, слава Богу! А поёт-то хорошо! Он заслушался и чуть не пропустил момент появления под его окнами шумного общества деревенских, неспешно перемещающихся в сторону разгуляй-свадьбы. Метнулся за угол, в тень и уж оттуда украдкой смотрел за дальнейшим. Разглядел Анну Колтавскую и Марию Наговую – тоже почти что его невест… Не сиделось на месте деревенским свахам – всё бы им судьбу чью-то устраивать, тем паче – вдовцов. Но не решился Иван Васильевич жизнь свою менять: пусть, дескать, как есть – и, опять же, слава Богу! Была в обществе и Малютиха с сотоварищи, но уже не атаманила – набралась, так что еле плелась в конце…
Девочки, во поле ветер,
Девочки, во поле дождь,
Девочки, не наша воля,
Не полюбишь, кого хошь.
Машка Темлюкова пела, пританцовывая; рядом двигала боками Колтавская и стучала в ложки…
Навстречу, от Касмановых, неслось что-то уже более спокойное, но, всё равно, невнятное:
Прогоняй ностальгию мимо дыма в потолок
И не трогай телефон и заусенца…
Деревенское общество миновало его дом и потянулось в гору. Там, в самой уж близости друг от дружки, обоюдное пение слилось в какую-то не разбери кашу… и вдруг всё замолкло. В минуты этой напряжённой тишины Иван Васильевич и сам занервничал, томясь ожиданием: как-то решится? Нальют и вон сопроводят или примут и за стол усадят?.. Внезапно тишина треснула от тихого сначала, а потом – всё более решительного и громкого вступления гармони. Высокий голос гармониста прорезал набухающее уже сумерками небо над деревней и изогнулся над ней радугой:
По просёлочной дороге шёл я молча,
И была она пуста и длинна.
Только грянули гармошки что есть мочи,
И руками развела тишина…
И вдруг взорвалось уже общим – и тех, и этих – хором, так что Иван Васильевич чуть не присел от неожиданности – столько нерастраченной народной силы разом выплеснулось в окружающее пространство:
А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала,
И крылья эту свадьбу вдаль несли.
Широкой этой свадьбе было места мало
И неба было мало, и земли.
Кот Калач стремглав дунул в кусты, а Иван Васильевич улыбнулся: наша ведь вышла победа! Наша!
Он готовил ужин, чаевничал и всё слушал, как гуляет у Касмановых свадьба. Но уж не гудели более постылыми словами громкоговорители. Общество, не стесняя себя, пело что-то знакомое и родное:
То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит —
То моё сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит…
Вскоре он, однако, совсем перестал прислушиваться. Пережитое, – по преимуществу из давешнего сонного видения, – обрушилось на него таким собранием мыслей и раздумий, что сердце зашлось болью, а душа – тягостным томлением. И во сне не было ему покоя: он метался в постели и что-то вскрикивал, так что приткнувшийся в ногах Калач то и дело вздрагивал и тревожно поводил из стороны в сторону треугольниками ушей…
Под утро Иван Васильевич проснулся и прошептал в сторону невидимого в темноте портрета Анастасии Романовны: «Я сумею, не смотри, что выстарился. Сдюжу. Ты подумай-ка только: каково в мои-то годы, да под вопросом жить?»
2004
Огуречный тракт
Глупа та птица, которой гнездо своё немило.
Народная мудрость
– Сынок, купляй огурчики. Свеженькие, чуток с грядочки, – баба Вера улыбается, борозды-морщины на её лице движутся, приоткрываются, обнажая свою исподнюю бледность, отчего лицо её, до черноты выдубленное солнцем, начинает светиться беспомощными розовыми лучиками. Сынок – седой мужчина лет шестидесяти – едва удостаивает её мимолётным взглядом и хлопает за собой дверью переливающейся перламутром серебристой иномарки. Через несколько секунд машина исчезает в дрожащей перспективе плавящегося от полудённого зноя шоссе…
Иван попытался подсчитать, сколь раз, начиная с утра, баба Вера произносила эту фразу? Вышло, что не менее двадцати. Причём, женщин она старалась не замечать, только мужеский пол, сынков… Он вспомнил давешнего седовласого пенсионера и про себя усмехнулся: тоже мне, сынок… Впрочем, баба Вера могла себе это позволить. Сколько ей стукнуло? Восемьдесят пять? Нет, пожалуй, поболе, скорее к девяноста. Он сковырнул тяжёлый пласт памяти, проросший длинными рядами нулей в новых многорублёвых купюрах, перестроечной трескотнёй и советскими пятилетками… Ему лет семь-восемь, а баба Вера – она такая же, как сейчас: безжалостно выжженная солнцем, выстуженная морозом, с истончённой бесконечными трудоднями плотью и похожим на геодезическую карту лицом – вот она, её горькая топография… Наша мамушка… Ведь так её, кажется, называли? И не только дети и внуки, но и многие селяне… Однако, давно уже её никто так не зовёт. И почему, спрашивается? Э-э-эх… Иван оттолкнул от себя груз тяжёлых мыслей и посмотрел на стоящий рядом пакет с огурцами. Что толку в том, что было раньше? Сегодня вот огурчики бы продать. С утра он сбыл шесть килограммов по пятнадцать рэ, итого – девяносто рублей. И вся недолга! А бабе Вере, можно сказать, повезло: у неё ушло килограммов двенадцать. Народ, видимо, полагал, что со старушкой легче договориться. И не без основания: часа два назад какой-то плюгавенький мужичонка из красного джипа сторговался с ней на три килограмма по семь с полтиной за кило. Вот гад! – Иван в сердцах сплюнул на асфальт. – Это же литр бензина для его заморского коня. Баба Вера поняла его жест по-своему:
– Истомился, сынок? – спросила, и морщинки участливыми светлыми лучиками скользнули по её лицу. – Кваску испей, вон баночка у меня в кошёлке.
– Спасибо баб Вер, не хочу,– Иван отрицательно качнул головой и опять сплюнул. – Вот ведь жизнь! Сидим мы тут с тобой у магазина почитай уже полдня на жаре, говорить – и то сил нет. Димыч вон только пьяный и болтается. Но ему и других дел-то нет. А мы всё сидим. И какой прок? Летит мимо чужое сытое счастье, и что? По пятнадцать целковых выложить жмодится. А ведь в их городских магазинах в два раза дороже огурчики-то стоят. Да и какие там огурчики? Химия! А жизнь-то мимо летит. Мимо, баб Вер!
– Жизть, она завсегда так, – охотно согласилась баба Вера; она задвигалась, зашевелила своими мешками и кошёлкой, – пойду, однакоть, корове пить дам. Как там, Вань, твоя Галина, детки? Вы ведь в райцентре таперь?
Вот память, – удивился Иван, – и меня, и жену помнит. В девяносто-то лет?
– Нормально, устроились, – он машинально смахнул со лба к виску горячую струйку пота, – я электриком в райпо, Галка пока без работы, трудно работу найти. Не только у нас всё позакрывали, там тоже хорошо постарались. Вот по выходным материны огурчики продаю, как ей отказать? Она-то хворает.
– Слыхала, – баба Вера перекинула через плечо мешки с остатками непроданного товара, – ты ей кланяйся, я Анну-то ещё девчонкой в церкву водила, Херувимскую учила петь. Доведётся ль таперь свидеться? Ну, ладноть, слава Богу за всё! – она перекрестилась и тяжело заскребла по асфальту бесформенными, задубевшими от времени ботами.
Иван провожал её рассеянным взглядом, также рассеянно слушая, как блажит где-то за ларьками местная кликуша Дарья; как с глухим гулом взрывается над шоссе воздух, пронзаемый торпедами авто; как гудят колёса, скрипят тормоза… тормоза… Что-то там на шоссе происходило: движение вперёд застопорилось, и постепенно выстраивался длинный хвост из машин… Но Иван не обращал пока на это внимания, всё ещё не отпуская взглядом изломанную фигурку бабы Веры, покуда не истаяла она окончательно в дрожащем от зноя полуденном мареве…
Из-за угла магазина вывернул Димыч, ошалело огляделся, подтянул сползающие, побуревшие от грязи зелёные трико и, выписывая ногами кренделя, двинулся к Ивану. Тот в сердцах сплюнул, заранее зная, что сейчас услышит.
– Эх, душа горит, Рассея плачет! – дурашливым фальцетом вывел Димыч (Ивана коробило от этой его всегдашней глумливой приговорки). – Налей сто грамм, Ванёк.
– Обойдёшься! – отмахнулся Иван. – Загнёшься скоро от своего пойла. Ты же младше меня, а тебя уж жена успела выгнать, дети голодают. Освинел совсем!
– Сволочь я, гад! – не стал спорить Димыч и, обтирая спиной стену, опустился рядом на корточки. – Под расстрел меня! Я готов! Но налей сначала, душа горит. Вон слышь, как Дашка мычит? Тоже болеет. Но ей не треба сто грамм, а мне позарез. Налей за неё, будь человеком.
– И было бы, не налил, – жёстко отрезал Иван, – Дарью-то чего приплёл? Человек не в себе. За чужие грехи, быть может, страдает. Отец Никон так и говорит: грешат все, а отдувается она одна, одну её бесы мучат. А ты охолонись, куда катишься?
– Ну, говорю же, что сволочь я! Но всё, что халтурю по дворам, Нинке отношу. На эти не пью, мне лучше попросить. Да и вообще, – Димыч потряс в воздухе кулаком, – не я это придумал – пилораму закрывать и фермы не я закрыл, и стадо колхозное не я продавал. Я хоть и гад, но работал всю жизнь. А теперь где?
– Давай в район, я помогу найти что-нибудь, – Иван вздохнул, выходило, что тут Димыч был прав по все статьям: работы действительно в округе не имелось никакой.
– Обмозгую, – пообещал Димыч и, указывая на шоссе, замычал: – Глянь, что творится!
А ситуация и вправду накалялась: хвост из машин вырос, утянулся влево и там затерялся. Гудели клаксоны, кричали, перекрывая шум моторов, водители, пассажиры выскакивали из раскалённых душных коробок и расползались по площади у магазина.
– Пойду, поработаю. Эх, душа горит, Рассея плачет, – Димыч тряхнул на ходу нечёсаными сивыми лохмами и метнулся в гущу разрастающейся толпы. Через минуту его высоченная сгорбленная фигура замаячила средь ожесточённо жестикулирующих и орущих обитателей этого странного, нежданного здесь автопоезда…
По обочине, объезжая застывший ряд машин, на площадь вкатился большущий «Мерседес», за ним огромный как вагон чёрный джип. Из него выскочили наружу четверо откормленных, грозного вида, парней в чёрных костюмах, при галстуках. Они профессионально быстро огляделись и тут же взялись выталкивать всю шумящую публику ближе к шоссе. В руках одного из мужчин Иван с удивлением разглядел короткоствольный автомат. Вскоре площадь опять опустела, оттеснённый к своим авто народ тихо оттуда поругивался, но более просто зыркал в сторону «Мерседеса». Его дверь, со стороны водителя откупорилась, появился высокий русоголовый энергичного вида мужчина в ярком зелёном пиджаке. Он быстро обежал машину и открыл заднюю правую дверь… Сначала асфальта коснулась нога в остроносом чёрном, без малейшего признака пыли, ботинке, брезгливо шаркнула, словно испытывая земную твердь на профпригодность, убедившись, что всё – более-менее, вызвала наружу свою вторую половину, а ещё через миг показалось и всё остальное: смуглолицый среднего роста человек в шикарном в крупную полоску костюме. Хозяин!