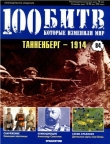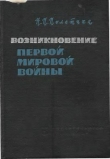Текст книги "Донесённое от обиженных"
Автор книги: Игорь Гергенрёдер
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
29
Заботой хорунжего было «показаться» командиру повстанцев Красноярцеву так, чтобы тот почувствовал, несмотря на возраст Прокла Петровича, его полезность и дал бы приемлемую должность. Антона Калинчина послала судьба: он представил его офицерам, которые замолвят за старика золотое словцо. В столовой офицерского собрания к нему так и пристали с расспросами о западне, устроенной Житору.
К столу Байбарина подходили новые и новые слушатели. Он поведал: казаки прознали, что отряд разделится и артиллерия направится к Изобильной по зимнику. Конный разъезд под началом Никодима Лукахина прорубил на её пути лёд на Илеке, чтобы красные не успели занять холм над станицей до подхода их основных сил по летней дороге.
Как и ожидалось, основная часть отряда вошла в станицу первой и – прямиком к площади, к ограде, за которой затаились стрелки и скрывалась старенькая, но вполне зубастая пушка…
– Итог… – Прокл Петрович говорил тоном как бы извинения за то, что рассказ может показаться хвастливым. – Начисто аннулирована боевая единица: свыше семисот штыков и сабель, при четырёх пушках и двенадцати пулемётах.
Ему зааплодировали. Ротмистр-улан, длинный и тощий, как Дон Кихот, но с круглощёким лицом эпикурейца, в продолжение рассказа с деловым самозабвением крякал и взмыкивал и за этим опустошил тарелку жирной ухи. Во внезапном напряжении подняв указательный палец, словно трудно добираясь до некой догадки, он просиял и выговорил изумлённо:
– Спиртику хряпнуть в честь хорунжего?
Отозвались слаженно и сердечно:
– Беспременно!
– Браво, ротмистр! Вот умница!
– Да не даст спирту буфетчик…
Захлопотали, побежали к буфетчику. Спирту, в самом деле, не достали, но принесли первача. Поначалу поднимали стаканы «за воителя», «за геройские седины», «за станичников – сокрушителей красной орды!» Затем стали брать размашистее:
– За возрождение великой России!
– За державу с государем!
– За российские честь и престол!
Кровь в хорунжем кипела жизнерадостно и бесшабашно. Его приняли по достоинству, и сердце перегревал тот пламень, что, бывало, так и перекидывался в души слушателей.
Прокл Петрович начал на возвышенно-ликующей ноте, не совсем учитывая её противоречие с тем, что говорил:
– Господа, не будем забывать – народ пойдёт только за новыми политическими призывами! Слова «государь», «царь», «престол» лишь оттолкнут миллионы простых людей. И ни в коем случае нельзя их осуждать за это. Николай Второй совершил беспримерное в русской истории предательство!
Не отвлекаясь на возникшую заминку, оратор взывал к разуму слушателей: законы России не предусматривали отречение правящего императора, и потому он, отрёкшись, тем самым соделал самое тяжкое преступление против государственного строя. В разгар труднейшей, жертвенной войны царь выступил первым и главным – впереди всех революционеров – разрушителем российской законности…
Затосковавший вокруг озноб встряхнулся гомоном. Первым Антон Калинчин, нервно дёрнув ноздрёй, прокричал страдальчески-ломко:
– Как можно так винить государя? Его вынудили отречься!
– Никакой нажим не может служить оправданием. Законы предоставляли царю полную власть самодержца, – стал доказывать Прокл Петрович. – Никакая угроза не оправдывает уход часового с поста. Присяга обязывает миллионы людей идти под пули. Тех, кто не выполнил долг, судят военно-полевым судом, объявляют трусами. Царь испражнился на головы людей, верных присяге, плюнул в святую память всех тех часовых, что погибли на посту. Сам он трусливо ретировался со своего поста…
Кругом поднималось закрутевшее озлобление.
– Чёрт-те что – такую гадость говорить! А ещё сединами убелён.
– Самогоночка в голову ударила.
– Что у пьяного на языке – то у трезвого, известное дело…
Тесное окружение героя дня поредело. За столом остались Антон Калинчин, два казачьих офицера и улан. Тот спокойно предложил выпить ещё, махом опорожнил стакан, закинув назад голову, и, замедленно устанавливая взгляд в хорунжего, поделился:
– Ненавижу социалистов – и левых, и правых, и каких угодно – но о царе вы правы. Припекло, и он бросил пост: рассчитывал – его ждёт райская частная жизнь. Никак не полагал, что его тут же – под арест…
Есаул, продолговатым лицом напоминавший щуку, приподнял тонкую губу над выступающими вперёд зубами:
– От вас я не ожидал!
Ротмистр раздражённо вскинулся:
– Я от германцев две пули принял, повалялся в госпиталях! И это обращено в пустой «пшик»! Кто был на войне не дурнем – увидели, чего царь стоит. Не умеешь управлять – назначь главу министров, дай ему особые полномочия, всю полноту власти! Поставь на этот пост твёрдого генерала, сам отступи на второй план. Престола же не покидай – не рушь устой устоев!
Со мной в госпитале, – продолжил, не успокаиваясь, улан, – поручик лежал один, из приват-доцентов, учёный по японской истории. Он рассказывал – у японцев как бывало? Во время боя князь сидит на холме позади своих войск, и каждый, кто оглянется, видит – князь на своём месте! Командиры командуют, а князь сидит спокойно, недвижно и этим замечательно здорово действует на войска.
Так и наш народ привык, что в беломраморном дворце в Питере сидит царь-батюшка, Божий помазанник, всеобщий властелин – и на этом стояла и стоит русская земля! Исстари это велось и иначе не бывало!
Офицер заключил в сердцах:
– А тут вдруг сам царь и пренебрёг! По святому народному – копытом-с!
– Вы что же, господа, – прапорщик Калинчин несказанно волновался, – забыли, что на государя ополчилось всё окружение?
– Ну и пусть бы свергли! – резнул ротмистр. – Это не сломало бы народных представлений о мироздании. Русские люди бы поднялись: вернуть престол царю! бей изменников!
– Потому и не решились бы свергать, – сказал до сих пор молчавший сотник и по-мужицки поплямкал ртом, затягиваясь самокруткой. – А чтоб прикончить бузу в Питере, – проговорил с недоброй весёлинкой, – тамошних сил бы хватило. Но им нужен был ясный, прямой приказ императора – действовать по военному времени! как в девятьсот пятом было, когда семёновцы поработали. Полковник Риман имел приказ: «Пленных не брать, пощады не давать!»[15]15
Сотник имеет в виду Декабрьское вооружённое восстание 1905 года в Москве. Полковник Г.А.Мин (1855–1906) командовал Лейб-гвардии Семёновским полком, когда им в ночь на 16 декабря был окружён район Красной Пресни. В приказе Г.А.Мина о штурме говорилось, что «арестованных на сей раз не будет», – и около тысячи человек было убито, включая 86 детей. Затем Г.А.Мин направил отряд под командованием полковника Н.К.Римана (1864–1917) на Казанскую железную дорогу, отдав приказ: «Пленных не брать, пощады не давать!»
Марк Твен писал: «Если такое правительство нельзя свергнуть ничем, кроме динамита, тогда хвала Господу, что на свете есть динамит». (Цитируется по книге: Брайан Мойнехен. Григорий Распутин: святой, который грешил., с. 147).
[Закрыть]
Есаул воскликнул с острым мучением в тоне:
– Почему государь не предложил престол Николаю Николаевичу? Тот унял бы и думу, этих трепачей-адвокатишек, и разнузданную шваль в солдатских совдепах!
Прокл Петрович, предупредив, что не хотел бы обидеть лиц немецкого происхождения, коли они есть среди его собеседников, сказал:
– Ни отрёкшийся царь, ни Николай Николаевич, ни Михаил Александрович, – имена он выговорил с лёгким презрением, – не годятся по той причине, что они – люди с чужими паспортами!
Ротмистр, занявшийся жареной уткой, крякнул – то ли от наслаждения жарким, то ли от услышанного. Есаул и Антон Калинчин вперили в Байбарина пытливые взгляды, какими буравят человека, заподозрив, что он не тот, за кого себя выдал. Сотник, сидя в табачном дыму, как в коконе, ухмыльнулся хитрецкой мужицкой ухмылкой и почти прикрыл щёлочки глаз.
Прокл Петрович, не замечая, что пальцами отбивает по столу такт, начал в тревожном вдохновении:
– Народ пребывал и пребывает в убеждении, будто его царями были Романовы, тогда как это – Гольштейн-Готторпы!
Он разъяснил, что государь одного из германских государств – герцогства Гольштейн – был преподнесён русскому народу под фамилией Романов. К обманутым отнеслись более чем пренебрежительно: их царь Пётр Фёдорович у себя на родине по-прежнему оставался Карлом Петером Ульрихом фон Гольштейн-Готторпом.
Что подмена династии может открыться, беспокоило самодержцев Голштинского Дома. Почему они и оберегали столь ревниво своё неограниченное самовластие, ненавидя всякую возможность свободного народного волеизъявления.
– Во всех странах Европы, – Байбарин подчёркивал голосом важность произносимого, – давным-давно действовало народное представительство, те же болгарская и сербская монархии не жили без парламента. И лишь в России до 1906 года не имелось никакого его подобия.[16]16
С.С.Ольденбург. Царствование императора Николая II. – Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 1998, с. 9:
«Кроме России, только Турция и Черногория из европейских стран вовсе не имели в то время парламентов».
Там же, с. 11:
«Право издавать законы нераздельно принадлежало царю … В области исполнительной полнота царской власти так же была неограничена. Людовик XIV, после смерти кардинала Мазарини, заявил, что хочет отныне быть сам своим первым министром. Но все русские монархи были в таком же положении».
Там же, с. 13:
«Но русский царь был не только главой государства: он был в то же время главой русской православной церкви, занимавшей первенствующее положение в стране».
Там же, с. 20:
«При отсутствии представительных учреждений, организованной политической деятельности в России не было, и попытки создать партийные группы немедленно пресекались полицейскими мерами. Печать находилась под зорким наблюдением власти».
Там же, с. 46:
«В своей речи 17 января 1895 г. к земским депутациям государь сказал: „Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления; пусть знают все, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как охранял его мой покойный незабвенный Родитель“».
Высказывания, которые дают представление о стране под неограниченной властью фон Гольштейн-Готторпов.
А.В.Сухово-Кобылин:
«Глухая Ночь при зловещем рембрандтском освещении… Рак Чиновничества, разъевший в одну сплошную Рану великое тело России, едет на ней верхом».
«Богом, правдою и совестью оставленная Россия, – куда идёшь ты в сопутствии твоих воров, грабителей, негодяев, скотов и бездельников».
Князь В.П.Мещерский (что примечательно, убеждённый монархист): «Россия давно стала сортиром при полицейском участке» (1904).
Леонид Андреев: «Вид России печален, дела её ничтожны». (Из письма Горькому, 1911).
В.В.Розанов: «Душа плачет, куда же все русские девались?.. Я ужасно плачу о русских, ибо думаю, что погибает само племя, что вообще попирается всё русское» (1911).
[Закрыть]
Прокл Петрович напомнил о практиковавшихся вплоть до 1904 года телесных наказаниях.
– Немцев-колонистов – тех нельзя было высечь. А русских крестьян, солдат, матросов секли! – воскликнул он так, словно был уверен, что его возмущение разделят.
Есаул, оттопырив губы, процедил:
– Порка и ныне полезна.
Байбарин, глядя в его враждебно потускневшие глаза, произнёс с вкрадчивой подковырочкой:
– На немцев цари, никак, пользу эту жалели… А что находили полезным для немцев? Собирать по Германии желающих и перевозить за счёт русской казны, относя сюда и кормёжку, в российские пределы. В паспорта вписывали гордое «колонист-собственник», – приводил подробности хорунжий. – Русские мужички загодя им дома строили.[17]17
Н.В.Гоголь, описывая дом помещика Собакевича: «…посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и темносерыми или, лучше, дикими стенами, – дом вроде тех, как у нас строят для … немецких колонистов». («Мёртвые души». Выделено мной – И.Г.).
Смотрим, в частности: Igor Pleve. Einwanderung in das Wolgagebiet: 1764–1767. Goettingen: Goettinger Arbeitskreis, 1999, S. 44–45:
«С ранней весны 1764 г. в местах, определенных под первые пять колоний, работали бригады плотников из различных близлежащих русских сел. Так, на строительстве домов в колонии Шиллинг (Сосновка) было задействовано 60 плотников из государственных крестьян села Новые Бурасы. Дома в колонии Антон (Севастьяновка) строили 27 человек из Керенского уезда /…/ к 1768 г. было построено 3453 дома, и в течение этого же года еще 998 домов».
Г.П.Данилевский. Беглые в Новороссии; Воля; Княжна Тараканова. М., Правда, 1983:
Колонист, Богдан Богданович Шульцвейн, из-под Орехова, из колонии Граубинден, имеющий тридцать тысяч десятин земли, рассказывает: «Мой дед, видите ли, переселился при графе Сперанском, около сорока лет назад; мы пешком пришли сюда, с котомками, дед и отец мой несли старые саксонские сапоги за плечами (с. 29) … на днях купил я землю, вот что неподалёку от Николаева, близ поместья герцога Ангальт-Кеттен: съездил потом на Дон принанять степи для нагула овец … места стало уже нам, колонистам, мало. Так-то-с, не удивляйтесь! Наши кое-кто уже в Крыму ищут земель, на Амур послали депутатов присмотреться насчёт занятия земель под колонии (с. 25–26) … У меня семьдесят пять тысяч голов овцы в разных местах (с. 26) … У меня и свои корабли теперь тут есть. Два года уже, как завёл. Сам на своих судах и шерсть с своих овец прямо в Бельгию отправляю» (с. 29).
Роман «Беглые в Новороссии», откуда приведены выдержки, впервые опубликован в журнале «Время» в 1862 году.
Во время Первой мировой войны Германия не оставляла вне поля зрения немецких колонистов в России. Сотрудники министерства иностранных дел подготовили для министра фон Ягова доклад, в котором два миллиона немцев-колонистов были выделены как этническая группа с самым высоким уровнем рождаемости в Европе. (А.И.Уткин. Первая мировая война., с. 222).
[Закрыть] Немцам давалась бесплатно земля, беспроцентная ссуда. Они не подлежали воинской службе, с них не взимали налогов.
Он обвёл взглядом собеседников:
– Ну, а что наши мужички имели и как им доставалось – полагаю, и без меня известно-с.
Ротмистр раздумчиво вставил:
– Случалось, едешь по немецкому селу – дома каменные, процветание. Ни одного оборванного не увидишь, лица самодовольные. Неужели, себя спросишь, это крестьяне?
– Колонисты! – поправил Прокл Петрович и продолжил с насмешливым умилением: – Я вам, господа, фактики. Александр Суворов после своих потрясших мир побед, после великой своей службы был отправлен в ссылку – за нелестный отзыв о прусских порядках в армии. Умер в опале. А немецкий офицер Беннигсен, изволивший на русскую службу пойти? Только за участие, под началом Суворова, в польской кампании 1794 года был произведён в генерал-майоры, награждён золотой в бриллиантах шпагой с надписью «За храбрость», получил другие награды и – главное-то! – получил тысячу с лишним крепостных!
– Но это… – начал Антон Калинчин и потерялся; выражение у него было вопросительное и беспомощное, – это не могло быть терпимо…
Байбарин развёл руками:
– Но – происходило…
Мы, со своей стороны, не отвлекаясь пока на все многочисленные подтверждающие примеры, упомянем хотя бы о Фабиане Остен-Сакене, который тоже воевал под началом Суворова и за участие в польской кампании удостоился золотой шпаги. Александр Первый назначил Остен-Сакена членом Государственного совета и возвёл в графское достоинство, а Николай Первый возвёл в княжеское, пожаловав ему в день своей коронации первый классный чин генерал-фельдмаршала.
Остен-Сакен был награждён всеми высшими орденами империи. Когда же он состарился, царь, сохранив за ним жалование главнокомандующего армией, пригласил его на покой ко двору и приказал приготовить для него помещение в одном из своих дворцов.
А вот как Николай Первый облагодетельствовал своего германского родственника герцога Ангальт-Кетенского. Тот промотал родовое поместье «Аскания» в Пруссии, и Николай подарил ему огромные владения в Новороссии. Самая крупная часть нового имения была названа «Аскания-Нова». В царском указе говорилось, что земли передаются герцогу «на вечные времена, с правом наследования, со всем, что имеется над и под землёй».
Наследники герцога продали «Асканию-Нову» разбогатевшему немцу-колонисту Фейну. Его потомки стали известны под фамилией Фальц-Фейн. Их владение составляло двести пятьдесят тысяч десятин плодороднейшей земли. Если русский помещик, имевший десять тысяч десятин, слыл куда как богатым – то что же сказать о немцах Фальц-Фейнах?..
30
Ночь стояла невозмутимо-тёплая; унавоженная размякшая дорога не пристыла, ручеёк, пошёптывая, торопился уклоном улицы. Хорунжий шёл к домишке у разлива реки и, казалось ему, улавливал в тесноте притаившихся жилищ чуткое напряжение людей. Бодрствовали они или спали, но ожидание беды, страх и живучесть надежды царили глухо и неотступно.
Двор перед домиком заплыл речным туманом, который резче обозначался понизу: под ним угадывалась вода. Осмотрительно ступая в неё, хорунжий без всплеска добрался до крыльца, открыл дверь: пахнуло дровяной золой от протопленной печи, душной пресной сыростью и гнилью. Окно пропускало пригашенный лунный свет, и залитый пол слабо мерцал, на нём колебался крест оконного переплёта. На лавке различились очертания тёмного, большого: от него накатывал мерно-напирающий звук, точно рукавицей раздували угли самовара.
Варвара Тихоновна не услышала, а, несмотря на сон, почувствовала, что вернулся муж. Заворочалась, пробормотала ещё в дрёме: – Господи, спаси… – грузно приподнялась и сиповато-разбитым голосом спросила:
– Не потопнем мы до утра, Петрович?
Запутанный своими думами, он прошёл к лавке по доске, давеча положенной на пол, зажёг тряпичный фитилёк в блюдце с сальной жижей.
– Ничего… Вот я тебе полкурицы принёс…
Зная, что жена не переносит еду всухомятку, достал с полатей (больше некуда было поставить) бутылку кислого молока. Вынул из узелка и пшеничный сухарь, поджаренный на масле.
Варвара Тихоновна, кряхтя, села на лавке:
– Удумал чего… средь ночи кормить.
Он в неловкости, что покинул её в гиблом месте, сказал ласково:
– Намучилась – подкрепись.
Она, перекрестившись, принялась за жареную курятину. Байбарин замер рядом на скамье, думая о том, что недавно было в офицерском собрании.
Сотник со своей самокруткой, пуская ртом дым и глядя в его клубы, проговорил с показным равнодушием:
– Вы сами-то что от царя претерпели?
Прокл Петрович отвечал без промедления:
– Я, позвольте, опять к истории. Ермолов, которого Александр Первый удостоил вопросом, какую награду он хотел бы получить, сказал: «Государь, произведите меня в немцы!» Претерпел что-то Ермолов или нет, чтобы такое произнести?
Возьмите – Карл Нессельроде сорок лет являлся министром иностранных дел России, госканцлером: и не знал по-русски! Каково-с? А наш великий Грибоедов, чьи предки – думные дьяки – Русью ведали, был у Нессельроде одним из служащих.
Ротмистр кивнул как бы в согласии и сказал с оттенком превосходства, что появляется, когда у собеседника обнаруживают какой-нибудь «пунктик»:
– Ну-ну, понятно. Немцев и я не жалую. Но зачем их выставлять важнее, чем они есть? Не они же повинны в теперешней чехарде.
Байбарин настойчиво определил:
– Повинны немцы-самодержцы, которые обманом присвоили русскую фамилию! Полтора с лишним века они доводили народ до, как вы выразились, чехарды…
Он вновь ринулся штурмовать чужой замкнувшийся разум:
– Крестьян у нас – семь восьмых населения. И в какое положение их поставили – относительно тех же немцев-колонистов? Тем – по тридцать десятин земли на семью бесплатно! И прочее и прочее! А на семью русского мужика приходится в среднем четыре десятины. Да и за те он при царе – аж с отмены крепостного права! – вносил выкупные платежи…
Хорунжий затронул вопрос, в то время ещё не забытый: он волновал Льва Толстого, который в статье «Царю и его помощникам», написанной в марте 1901, призывал отменить выкупные платежи, давно уже покрывшие стоимость выкупаемых земель.
Не забыл напомнить Байбарин, как за недоимки уводили со двора крестьянина последнюю овечку, выносили из избы самовар – зато неизменно оставались натуральные повинности: то, что нужно было выполнять, не получая никакого вознаграждения. Строить и ремонтировать дороги, мосты, перевозить на своих подводах казённые грузы, обслуживать почту, пускать на постой – кого укажет власть.
Не имел русский хлебопашец, даже в начале двадцатого века, и полной личной свободы, что представлялось Европе варварством. Переезжать с места жительства крестьянин мог лишь при наличии паспорта. Но чтобы получить его, требовалось разрешение.
– Посему не русским бы мужичкам называть царя батюшкой! – гнул своё хорунжий. – Другой народ имел для того оснований поболее.
В самом деле, трудно ли по картинам, которые запечатлели Глеб Успенский, Николай Успенский, другие писатели, представить попечение династии о русском селе?.. Оно, как в средние века, жило натуральным хозяйством, и всё необратимей (и после отмены крепостного права) было оскудение. Плуг не мог вытеснить соху, бороны по большей части оставались деревянные; мало кто имел веялки – веяли зерно, по старинке пользуясь лопатой. Наделы с годами лишь сокращались. Падало поголовье крестьянского скота, всё больше становилось безлошадных дворов. Лесов сохранилось так мало, что вместо дров топливом служил высушенный на кизяки навоз: поля лишались удобрения. Много лет количество выращиваемого хлеба на душу – не росло. С.С.Ольденбург – историк-монархист – и тот в книге «Царствование императора Николая II» признаёт «понижение экономического уровня» в деревне, пишет, что «застой местами превращался в упадок».
Девяносто процентов крестьян едва кормилось собственным хлебом: везти на продажу было нечего. При неурожае тотчас распространялся голод, ставший неумолимо-частым массовым бедствием.[18]18
В частности: В.И.Гурко. Устои народного хозяйства России. СПб., 1902, с. 56:
По выводам В.И.Гурко, низкая культура земледелия не позволяла развить все производительные силы страны, тогда как европейские соседи «на таком земельном пространстве и при таких климатических условиях, при наличности которых мы не в состоянии добыть от природы необходимое для удовлетворения наших ограниченных нужд, /…/ извлекают достаточное количество ценностей для удовлетворения своих развившихся потребностей».
А.И.Уткин. Первая мировая война., с. 33:
«В начале XX века валовой национальный продукт на душу населения в России был в пять раз меньше среднеевропейских показателей».
В.И.Гурко. Наше государственное и народное хозяйство. СПб., 1909, с. 1:
В работе отмечается, что Россия, проигрывая во всемирном соревновании, и до революции 1905 «занимала последнее место среди других мировых держав», а после революции «ее экономическое положение проявляет грозные признаки ухудшения: количество многих производимых страной ценностей уменьшается, удовлетворение главнейших народных потребностей понижается, государственные финансы приходят все в большее расстройство». В 1905–1906 годах страну в очередной раз охватил голод.
Говоря об утрачивании Россией позиций в Европе, Гурко отмечает: «В то время как русский крестьянин ежегодно десятками тысяч переселяется в далекие тундры Сибири, наши западные окраины /…/ наводняются немецким пришельцем, мирно, но стойко и неуклонно отодвигающим наши этнографические границы к востоку». (Устои народного хозяйства России. СПб., 1902, с. 56).
Нелишне вспомнить, строил ли кто-то дома для русских крестьян, переселявшихся в Сибирь? Предоставлял им лошадей, коров?
В те времена по сорок тысяч россиян в год (это были, главным образом, старообрядцы) вообще уезжали из России, навсегда.
[Закрыть]
Европа давно забыла о таком. Не голодали и немецкие сёла в России. Колонисты всегда располагали запасами хлеба, владели внушительным поголовьем скота и богатели, торгуя мукой, мясом, шерстью не только на внутреннем рынке, но и поставляя продукты за границу. Мы могли бы привести столько впечатляющих примеров, что этого оказалось бы более чем достаточно для самого взыскательного читателя. Но подумаем о тех, кого отступления утомляют, и, отослав дотошных к книге Григория Данилевского «Беглые в Новороссии», книге, где рассказывается и о немцах-колонистах, вернёмся к беседе в офицерском собрании.
Прокл Петрович, живописуя притеснения податного русского люда, всякий раз возвращался к тому, что Голштинский Дом «месил-месил, пёк-пёк и испёк невозможность не быть всероссийскому мужицкому бунту против помещика, чиновника, офицера и любого, кто кажется барином». На чём теперь и греются красные.
Есаул смотрел на него, точно колол иголкой:
– Отчего вы с нами сидите? Шли бы к эсерам! Я не их поклонник, но сейчас мы с ними, и это правильно. Так у них давно разобрано, чем мужичка оделить, как на путь наставить…
– Я пойду к эсерам, – смиренно сказал Байбарин, – пойду ко всем, кому узость партийного мышления мешает увидеть: свержение монархии имело национально-освободительную подоплёку!
– Вот вы говорите, – обратился он к сотнику, – бузу в Питере можно было бы прихлопнуть – получи войска приказ. Но не мог, никак не мог царь пойти на то, на что пошёл в девятьсот пятом, когда Мин, Риман, Ренненкампф, Меллер-Закомельский[19]19
БаронМеллер-Закомельский Александр Николаевич (1844–1928), генерал от инфантерии с декабря 1906, отличился во время Первой русской революции, руководя карательной экспедицией. Продвигаясь со своим отрядом по Сибирской железной дороге и чиня расправу на месте, он усмирял солдат запасных частей, что требовали срочного возвращения в Центральную Россию «по домам». Назначенный позже временным Прибалтийским генерал-губернатором, барон «проявил большую энергию и жестокость в подавлении революционного движения в крае». С.Ю.Витте писал: «если бы Меллер-Закомельский не был генералом, то по своему характеру он был бы очень хорошим тюремщиком, особенно в тех тюрьмах, в которых практикуются телесные наказания; он был бы также очень недурным полицейским и хорошим обер-полицеймейстером», был «человек, не брезгающий средствами». Среди высших российских наград, которых удостоился Меллер-Закомельский: орден Белого Орла (1906), орден Святого Александра Невского, полученный в 1909, бриллиантовые знаки к ордену даны в 1912. (В частности: В.И.Федорченко. Императорский Дом. Выдающиеся сановники: Энциклопедия биографий. Т. 2, с. 44).
Ренненкампф Павел Карлович (1854–1918), получив чин генерал-лейтенанта, в конце 1905 – начале 1906 «возглавлял экспедиционные войска, направленные на подавление революционных выступлений в Забайкалье» и весьма преуспел. Граф А.А.Игнатьев писал о нём: «он оказался таким, каким я его себе представлял – обрусевшим немцем, блондином богатырского сложения, с громадными усищами и подусниками. Холодный, стальной взгляд, как и вся его внешность, придавал ему вид сильного, волевого человека. Говорил он без всякого акцента, и только скандированная речь, состоящая из коротких обрубленных фраз, напоминала, пожалуй, о его немецком происхождении». (Там же, с. 302).
[Закрыть] расстреливали восставших или только заподозренных сотнями. Тогда, – сделал ударение хорунжий, – не было войны с Германией – и потому немцы могли расстреливать русских без опаски попасть в жернова!
Он усмехнулся усмешкой отчаянного терпения:
– А в Феврале?! Стань известно приказание в народ стрелять, а тут и откройся, что не только царица – немка, но и сам царь – Гольштейн-Готторп? Что содеяли бы с семейкой? Оттого и хватил венценосца пресловутый «паралич воли». Никогда ростбифов с кровью не чурался, да вдруг потерял к ним вкус.
У ротмистра появилось выражение уступчивости на круглощёком лице:
– Не знаю, не знаю, может, оно и эдак. Но сейчас-то, при нынешних наших делах, ради чего нам в том копаться?
– Ради правды! – произнёс не без драматизма Байбарин, и прозвучал прочувствованный монолог идеалиста о силе, которая в правде: – Эту силу обретём, когда и сами уясним правду и простому человеку передадим. Раскол у нас не между мужиками, с одной стороны, и теми, кто причислен к барам, – с другой. Нет! Не здесь быть гневу. Пусть гнев падёт на прямых виновников. Продажная знать и верхушка духовенства, ища личных выгод, покрывали обман голштинцев. Те и поставили русских ниже своих сородичей. А другие коренные народы и вовсе были кто? Юдофобия насаждалась…[20]20
А.И.Куприн. Поединок, xi:
«Овечкин вскакивает и (отвечая на вопрос, кто внутренние враги в стране? – И.Г.) радостно кричит:
– Так что бунтовщики, стюденты, конокрады, жиды и поляки!»
Элизабет Хереш. Николай II. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998, с. 142:
«Столыпин /…/ в этом разошелся с царем, занимавшим по отношению к евреям твердую (без уступок) позицию /…/ Неприязненное отношение царя к евреям объяснялось не только их ролью в революционном движении /…/ Нетерпимость Николая к еврейству имела более глубокую основу».
Брайан Мойнехен. Григорий Распутин: святой, который грешил., с.433:
«Антисемитизм императора был как бы непреднамеренным, так глубоко было его врожденное презрение к евреям. Война стала предлогом, чтобы ужесточить уже существующие ограничения. Все издания на иврите были запрещены, так же как и переписка на идише. Александра разделяла взгляды мужа. Когда в 1910 году она приехала в Германию, чтобы подлечить сердце, брат порекомендовал ей ведущего специалиста в этой области, проживавшего во Франкфурте. Однако императрица не пожелала лечиться у еврея, пускай и известного специалиста».
Там же, с. 10:
«Французский посол жаловался, что не проходило и дня, чтобы в зоне военных действий не был повешен по обвинению в шпионаже какой-нибудь еврей». (Речь о Первой мировой войне – И.Г.).
С.С.Ольденбург. Царствование императора Николая II., с. 477:
«Было предпринято массовое выселение евреев из Галиции и из прилегающих к фронту русских областей /…/ Десятки тысяч, а затем и сотни тысяч евреев из Галиции и Западного края получили предписание в 24 часа выселиться, под угрозой смертной казни, в местности, удаленные от театра военных действий /…/ русское командование способствовало массовому исходу населения на восток, причем деревни сжигались так же, как и посевы, а скот убивался на месте».
Д.В.Лехович. Белые против красных. Судьба генерала Антона Деникина. – М.: «Воскресенье», 1992, с. 36–37:
«Главное командование (русских войск в 1915 – И.Г.) стремилось опустошить оставленные неприятелю земли. То, что проделал с Россией Сталин при отступлении во время второй мировой войны, не было внове /…/ Военное начальство (в 1915-м – И.Г.) насильно гнало от наступающего врага миллионы людей внутрь России, с запада на восток /…/ большинство людей выселялось по приказу военных властей. На глазах у них поджигали жилища, оставшиеся запасы и имущество. Среди этих беженцев – поляков, русских, белорусов, украинцев – было много евреев. Их доля оказалась чрезвычайно печальной /…/ патриотическое рвение с примесью юдофобства дошло до абсурда: началось выселение в глубь России не только своих, но также австрийских евреев из Галиции. Тысячи этих несчастных, попав в чужую страну, двигались на восток с толпой беженцев, встречая на своем пути недоброжелательство и злобу местного населения».
[Закрыть]
– Вон оно что! – пригвоздил сотник. – Наконец-то вылезло, за кого стараетесь!
– Примите к сведению, – разнервничался Байбарин, – я не собираюсь делить, кто выше, кто ниже: русский, башкир, еврей, калмык или камчадал.
Есаул кашлянул и проговорил ядовито и зловеще:
– Так это большевицкий интернационал. Что же вы всё обиняком да исподволь? Скажите, что агитируете за него.
Прокл Петрович ощутил, как стиснулись его челюсти, он с усилием разжал их:
– Большевики едут на обмане, и тут они – достойные восприемники голштинских деспотов! – объявил он в лицо ненавидящей закоснелости: – Те преподнесли им все условия для заварухи, подарили войну со всеобщим развалом – как же мог не удасться красный переворот?
– Вы ещё, ещё побраните красных-то, – ехидно поддел сотник, – безбожники, мол, кровопивцы, сволочь… И добавьте, что монархисты, духовенство, офицеры – таковы же.
Есаул бросил ему с резким недовольством:
– Это уже шутовство какое-то! – Он повернулся к Байбарину: – Вы, часом, не заговариваетесь – из любви высказывать интересное? – замолчав, постарался придать злому лицу презрительно-уничтожающее выражение.
Ротмистр сидел, несколько смешавшийся и насупленный.
– Я отдаю должное изучению, знаниям… – адресовал он хорунжему, подбирая слова, – о неурядицах наших вы верно… немцы жирок у нас нагуливали, да-с… Но – пересаливаете! – он гасил возмущение вынужденной учтивостью. – Сказать, что мы жили в поднемецкой стране? Мой отец состарился на службе престолу! Образцовым полком командовал и пал в четырнадцатом году. А теперь, если по-вашему, выходит: у него и родины настоящей не было?
По жёсткости момента, наступившего после этих слов, Прокл Петрович понял: сейчас ему предложат покинуть собрание. Он встал из-за стола и, обойдясь общим полупоклоном, направился к двери, чувствуя, как его спина прямится и деревенеет под впившимися взглядами. Его догнал у дверей прапорщик Калинчин, в рвущем душу разладе воззвал жалостливо:
– Как же вы, а-ааа?! – и тотчас ушёл.
* * *
Прокл Петрович, человек весьма-весьма зрелый, несмотря на это – или как раз посему, – был больше ребёнок, нежели огромное большинство юношей. То, что он со своими взламывающими всё устойчивое, с «невозможными» мыслями открылся офицерам, которых впервые видел, выказывает его наивным или даже, на чей-то взгляд, недалёким. Но таким уж вела его по жизни судьба.
После происшедшего он казнился сомнениями: по благому ли порыву разоткровенничался? Не разнежило ль громкое поначалу «чествование» и не взыграло ли у него тщеславие?
Подозрения, надо признать, не вовсе беспочвенные, поили душу разъедающей тоской, и он в сырой, подтопленной избе беспокойно полез в дорожный сундучок, достал Библию и затеял ищуще и углублённо проглядывать её в трепетно-скудном мерцании самодельного светильника.
Заботливая тревога должна была разрядиться и разрядилась улыбкой удовлетворяющей находки. Он прочитал в подъёме заново обретённого восхищения: «Боязнь перед людьми и скрытность ставят сеть, а надеющийся на Господа будет в безопасности».
Тряпичный фитилёк, вылизав остатки жира в блюдце, потух. Прокл Петрович укладывался так и эдак, страдая от неудобства любого положения, пока мало-помалу не впал в забытье.
Проснулся он около девяти утра и увидел: вода уже не покрывает весь пол – лишь у порога стоит лужа. Жена ожидала за столом, который оживляли сухари, луковица, вяленая очищенная рыба. Услышав, что службы у мужа не будет, так как «люди оказались не тех требований», Варвара Тихоновна сказала в спокойном огорчении:
– То-то я проснись – и у меня как ёкнет, и будто кто пальцем перед носом махнул.
Прокл Петрович потирал рукой левую сторону груди: характерный жест человека, для которого крупное невезение – вещь не такая уж незнакомая. Мытарства извилистой дороги в белый стан выявили свою безнадёжную зряшность, и, однако, его поддерживала вера в то, что значение случая многосложно и проясняется не сразу.
Жена заметила, что его глаза запали глубже, а морщины обозначились резче:
– Только не горься.
Разговор обратился к тому, что уже не раз обсуждалось. В далёком посёлке Баймак жила дочь Анна, чей муж инженер Лабинцов служил на медеплавильном заводе. Зять помнился старикам человеком обходительным – и куда же ещё оставалось им держать путь?
Перекусив, хорунжий заторопился на базарную площадь – попытаться подрядить упряжку в сторону Баймака.
На подходе к площади Прокла Петровича перехватил, выбежав из зданьица телеграфа, прапорщик Калинчин:
– Господин Байбарин, вам надо срочно убыть из станицы! Такое делается… – В глазах его тосковало пытливое сомнение. Терзаемый тем, что знал, он решился рассказать.
Была оглашена сводка: на Кардаиловскую движутся силы красных. Офицеры дружно вспомнили высказывания «заезжего», и есаул предположил: он заслан большевиками, которых «так усердно ругал из неумелого притворства». Сотник, не исключая связи «гостя» с комиссарами, сказал, что видит «дело более тонким и тёмным: попахивает каверзами масонской ложи». Ротмистр нашёл эту мысль крайне любопытной…
Не заставил себя ждать вывод, что «гостеньком» надобно заняться контрразведке. На счастье Байбарина, офицеры не знали, где он остановился.
Прапорщик жадно всматривался в Прокла Петровича. Желание верить, что тот невиновен, едва держалось, разрываемое впечатлениями от услышанного вчера. Хорунжий, со своей стороны, был во власти скользких воспоминаний о Траубенберге. Тело даже как-то затомилось ощущением закручиваемых за спину рук. Соображение, что на сей раз, по причине иной обстановки, обойдутся, скорее всего, без этого и вопрос встанет не о высылке, утешало слабо.
Поспешно, но сердечно поблагодарив Антона, он хотел идти хлопотать об отъезде – Калинчин задержал:
– Отец дружил с вами – я так всё помню! Скажите… в том, что они думают… что-то есть? – его глаза глядели с ожесточённой прямотой, Прокл Петрович ощутил в их недвижности какую-то обострённую пристальность к малейшему своему движению.
Как ни причудливо это было посередь взбулгаченной станицы, да в столь рискованный для него миг, он, сосредоточив себя в усилии особенной плавности, обнажил голову, поклонился Антону в пояс и прошептал:
– Нет.
– Так идите! – прошептал и прапорщик в облегчении. – Я вас – бабушка учила – в спину перекрещу.