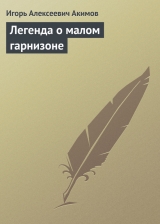
Текст книги "Легенда о малом гарнизоне"
Автор книги: Игорь Акимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
7
Ночь приближалась быстро. Мучила жажда. Немцы уходить не собирались. Надо было воспользоваться сумерками и заметить, где они располагаются на ночь, где поставили часовых. Ромка медленно встал во весь рост (стена это позволяла, сейчас на ее фоне он был почти неразличим) и только теперь увидел, откуда шел странный запах, который беспокоил его все время, пока он сидел.
Меньше чем в десяти метрах от него, на том месте, где прежде был вестибюль, а теперь зияла яма, – мины пробили перекрытие котельной – навалом лежали трупы пограничников. У многих из них были видны следы страшных ожогов, больше в верхней части тела, особенно на лице, но некоторые обгорели с ног до головы. Ромка сначала подумал, что это последствия пожара. Однако увидел еще один труп и решил: не в пожаре дело. Этого парня немцы не заметили, когда стаскивали к яме тела убитых пограничников со всей заставы. Яма была почти сразу, как войти в бывший парадный вход. Двери валялись в стороне, рама обгорела до кладки. Немцы могли сбрасывать трупы почти от входа, а этот хоть и лежал недалеко, оттуда его было не видать – закрывала куча кирпича.
Он лежал совсем близко от Ромки, в трех шагах, а рядом возле оконного проема еще валялась его винтовка – позиция никудышная, потому что немцы могли подобраться к нему почти вплотную, что они сделали, наверное. Он лежал на спине, и по тому, как у него обгорели голова и руки, и по характеру единственной раны – его пристрелили в упор, прямо в сердце, он уже и не видел ничего, как подошли к нему, не видел, катался от боли, а потом что-то ткнулось в грудь – и конец;
Ромка понял, что дело не в пожаре. Их выжигали огнеметами, догадался он, и, осторожно ступая босыми ногами, пробрался к яме, чтобы посмотреть, нет ли там живых. Но сразу увидел, что это бесполезное занятие: раненых немцы добивали на месте… в упор из автоматов…
Ромка возвратился назад, подобрал винтовку, достал патрон; снял с убитого ремень с патронташем, примерил на себя – было чуть свободно. Ромка стал прилаживать, передвинул бляху и тут увидел на внутренней стороне ремня крупные буквы чернильным карандашом: «Эдуард П.».
Ромка сел рядом. Сидел и смотрел прямо перед собой. «Вот так повернулось, – думал он, – с такого, значит, боку». Вот так повернулось…
В отличие от сброшенных в яму у Постникова карманы не были вывернуты. Ромка достал его простреленный комсомольский билет и положил в карман рядом со своим. Была еще записная книжка, фотография девчонки и какие-то потертые бумажки. Разглядывать не было времени. Ромка просто переложил их к себе: представится возможность – перешлю матери. Поколебался – и стащил с Постникова левый сапог. Примерил. Великоват, а все же лучше, чем босиком. Нашел свой правый сапог, натянул и спустя полчаса уже пробирался через лес.
Прежде всего он направился к роднику. На это у него ушло вдвое больше времени, чем он предполагал, поскольку по дороге пришлось обходить еще один немецкий бивак; счастье, что в последний момент повезло: только он собрался перейти большую поляну, как чуть в стороне из-под деревьев вышли двое и побрели по вечерней росе, отсвечивая касками, и навстречу им такой же патруль. Дальше Ромка пробирался осторожней, и, когда напился и набрал во флягу воды, была уже полночь.
Вода его взбодрила, но лишь на несколько минут. Затем наступила реакция. Его неодолимо потянуло в сон. Ромка поначалу отнесся к этому иронически, однако скоро заметил, что едва передвигает ноги, а понукания не помогают. Все его внимание уходило на одно: не натыкаться на деревья. А чтобы следить по сторонам, высматривая немецких часовых и патрули, – об этом и речи не было. Только сейчас, когда он оказался в относительной безопасности, заявило о себе нервное перенапряжение, в котором он находился уже почти сутки.
Ромка не стал упрямиться. Но завалиться просто под дерево было рискованно: столько немцев вокруг – ни за грош попадешься. Другое дело – захорониться наверху, в ветвях… слишком много мороки: сперва надо найти подходящую развилку, наломать толстых веток и сделать из них настил… И тут он вспомнил о триангуляционной вышке.
Это решение было вполне в Ромкином вкусе. Парадоксальность он считал признаком высшего класса. Кому придет в голову, что он прячется на самом видном месте? Ромка там был однажды. Площадка два на два, правда, не огороженная, но, если лежать (а он не лошадь, чтобы спать стоя), ни одна сволочь снизу не заметит.
До вышки было несколько сот метров. Ромка не заметил, как одолел их. Он спал на ходу и спал, когда, поднявшись по первой лестнице, сопя и чертыхаясь, выломил ее из гнезда и сбросил на землю. Следующие две лестницы он не стал трогать, это и в самом деле было ни к чему, взобрался наверх, пробормотал: «Пусто как… А я ведь один, а? Выхожу один я на дорогу…» – положил под голову винтовку и патронташ – и уже больше ничего не помнил.
Проснулся он от оглушительного рева. Возможно, ему даже снилось что-нибудь подходящее: что за ним гонится лев, или, скажем, что его засунули в середину танкового двигателя, но если бы даже он и попытался потом вспомнить – не смог бы. Явь опрокинулась на него вдруг, как бочка воды. Он сразу оказался в ее эпицентре – без прошлого, без переходов, без нюансов.
Солнце поднялось уже довольно высоко, сухо пламенел, наливаясь белым зноем очередной день, а вокруг Ромки, в нескольких метрах от площадки, на которой он сидел, медленно кружил немецкий самолет…
Это был не «мессершмитт», и не «фокке-вульф», и вообще далеко не современная машина – любую из них Ромка определил бы сразу, столько раз видел в методическом кабинете на плакатах. Этот был тихоход, какой-нибудь связист или разведчик; двухместный моноплан-парасоль. Даже выглядел он как-то по-домашнему. Летчик сдвинул очки на лоб, смеялся, махал рукой и что-то кричал Ромке, может быть – гутен морген.
Черные кресты неторопливо проплывали мимо Ромки…
Он вдруг очнулся. Стряхнул с себя наваждение. Черт побери! – да ведь этот паршивый самолетик чуть было не загипнотизировал его; сперва ошеломил своим внезапным появлением, а потом стал внушать…
«Что ж это я на него смотрю, на гада? – изумился Ромка. – Будто в кино расселся. Вон фашиста даже насмешил. Корчится. Ну ты у меня сейчас, паскуда, покорчишься. Я тебе такой покажу гутен морген – сразу начнет икаться…»
Ромка потянулся за винтовкой. Осторожно потянулся, не хотел спугнуть немца, но ведь тот не куда-то смотрел в сторону – сюда; он сразу перестал смеяться, и лицо у него даже как будто вытянулось. Однако он не отвернул самолетик; он продолжал делать очередной круг, словно ему это зачем-то нужно было, а скорее всего – ему что-то в голову ударило, затмение какое-нибудь, а может, гипноз, раз уж с Ромкой ничего не вышло, вдруг на него переключился. Он продолжал делать очередной круг, только теперь уже не высовывался через борт, а сидел прямо и лишь косил глазом в Ромкину сторону и дергал ртом.
Ромка так же медленно, без единого резкого движения поднес винтовку к плечу, прицелился и повел ее за самолетом, ловя его темп; потом взял небольшое упреждение и выстрелил.
Наверное не попал в летчика, а если и попал, так не очень серьезно. Зато разбудил. Немец кинул машину в сторону, на крыло, высунулся и погрозил кулаком. Ромка разрядил ему вслед обойму, почти не целясь, это была пустая трата патронов, но ни досады, ни сожаления не испытал. Он смотрел, как самолетик, набирая скорость, лезет вверх, как он разворачивается где-то над совхозом, а может, и чуть подальше.
Снова непонятная апатия овладела им, но Ромку это не волновало. Он сидел на серых, рассохшихся, промытых дождями, прожженных солнцем досках, овеваемый легким ветерком, уже прогретым, лишенным прохлады, уже собирающим запахи зноя, чтобы к полудню загустеть и остановиться в изнеможении; сидел мирно и покойно, и даже чуть ли не дремал, наблюдая сквозь ресницы, как сердито жужжит далеко в небе маленькое насекомое, как оно там суетится, ловчит…
Ну, сейчас порезвимся!..
Он поднялся, пристегнул ремень, вставил новую обойму и передернул затвор. «Туго что-то ходит, – отметил он, – никогда бы не подумал, что Эдька не чувствует оружия».
Он посмотрел по сторонам; на холмы, рощи и поля – отсюда, с пятнадцатиметровой высоты, вид был прекрасный, – расставил ноги, при этом чуть притирая подошвы, словно проверял, не скользят ли сапоги, словно искал для каждого сапога самую остойчивую, самую идеальную точку опоры; нашел; перехватил поудобнее винтовку, чтобы сразу, как вскинешь ее к плечу, стрелять не прилаживаясь, и сказал себе: «Я готов».
Немец, кажется, только этого и ждал.
Несколько мгновений висевший на месте самолетик стал расти. Он мчался в атаку прямо на Ромку, несся на него, как с горы. Жужжание перешло в рокот, потом в вой, который становился все выше, все пронзительней. Вой несся сквозь Ромку, но не задевал: это для психов впечатление, а Ромка к таким вещам был не восприимчив. Он стоял не шелохнувшись, упершись хорошо притертыми подошвами сапог в серый дощатый настил, опустив руки с винтовкой, только руки сейчас у него и были расслаблены, но это необходимо – они должны быть свежими и твердыми, когда придет время стрелять. Он следил прищуренными глазами за надвигающимся в солнечном ореоле, в ослепительном сиянии врагом (немец был хитрец, он заходил точно по солнцу) и считал: «Еще далеко… далеко… вот сейчас он выравнивает самолет как раз на площадку… вот уже я в паутине прицела… он меня затягивает в самый центр… сейчас будет нажимать на гашетку…»
Короткий стук пулемета, всего несколько выстрелов, оборвался сразу, потому что Ромка, чуть опередив его, сделал два маленьких шага в сторону, так что левая нога стала на край доски. Пули просвистели рядом, а Ромка уже шел на противоположный край площадки, и опять он чуть опередил немца, потому что хотя вспышки новых выстрелов трепетали в такт его шагам, пули прошли мимо – там, слева. Больше он не успеет скорректировать свою телегу, понял Ромка и засмеялся, но ему тут же пришлось броситься плашмя на настил и даже вцепиться пальцами в щели между досками, чтобы не стащило, не сбросило вниз, потому что летчик озверел оттого, как его простенько провели, и, пренебрегая собственной безопасностью, пронесся в двух метрах над площадкой. Ромке даже показалось на миг, что это конец, но все обошлось, он сел и, задыхаясь, закричал вслед самолетику:
– Ах ты, гнида! Ты ж меня чуть не уронил!..
Винтовка лежала тут же. Если б она упала вниз, пришлось бы спускаться, и дуэли был бы конец. А так… Самолетик делал вдали широкий круг, у Ромки было предостаточно времени, чтобы сбежать, по двум лестницам и спрыгнуть на землю. А там он бы нашел, где схорониться. Но так мог поступить кто угодно, только не Ромка Страшных.
Он подобрал винтовку. Жаль, что не пришлось пальнуть ему вслед, ведь совсем был рядом – рукой достать можно. Теперь он, конечно, изменит тактику, отбросит джентльменство и еще издали начнет поливать из пулемета. Тяжелый случай. А еще надо придумать, как уберечься от воздушной волны. Если не придумаешь, значит, из бойца, из поединщика превращаешься просто в беспомощную, безответную мишень. Это будет никакая не дуэль – расстрел!..
Только сейчас Ромка оценил вполне, как чудовищно не равны условия, в какие поставлены он и немец. Это, впрочем, не поколебало его решимости. Дело в том, что если первые выстрелы он сделал не задумываясь, так сказать, автоматически, то остался на этой площадке (вместо того, чтобы удрать) совершенно сознательно. Тут и в помине не было риска ради риска, фатализма, желания испытать судьбу, поиграть со смертью в «кошки-мышки». Просто он подумал, что в первом же бою сбить вражеский самолет – это совсем неплохо для его, Ромки Страшных, вступления в войну. Достаточно красиво. Вполне в его стиле. Он очень надеялся на свою хитрость и находчивость, считая свои шансы ничем не хуже. А выходит – недооценил немца…
Самолетик уже мчался в атаку.
От воздушной волны было спасение: если спуститься в люк и стоять на лестнице. Но тогда немцу достаточно перейти на бреющий полет, и он расстреляет Ромку – малоподвижного, по сути, распятого на этой лестнице. – как мишень в тире.
Нет, об удобствах надо забыть.
Он перекинул ремень винтовки через плечо, чтобы висела стволом вперед, а руки оставались свободными, отступил к заднему краю площадки и опустился на одно колено. И когда самолетик приблизился до трехсот метров и можно было ждать, что вот-вот ударит по площадке свинцовый град, Ромка соскользнул на уходящее вниз бревно – одно из трех, на которых держалась эта площадка, – и прилепился к нему, обхватив его руками и ногами.
Пули жевали настил. Казалось, кто-то со всего маху втыкает в доски кирку – и тут же с треском, «с мясом» ее выдирает. Последние пули шли горизонтально: немец перешел на бреющий и мчался метров на пять ниже уровня настила и бил, бил, но слишком поздно он это затеял, только дважды пули звонко ткнулись в бревно, да и то далеко от цели, потому что Ромка успел соскользнуть ниже на пять метров; там был треугольник из поперечных балок, к одной из которых прилепилась маленькая промежуточная площадка. Ромка едва успел встать на бревно и вскинуть винтовку, как из-за настила вынырнул уносящийся вверх самолет. Ромка смачно выстрелил дважды и засмеялся. Все-таки бой шел на равных!..
Балансируя руками, он пробежал по бревну до площадки, но не успел еще ступить на ведущую вверх лестницу, как вокруг него засвистели, застучали в дерево, завизжали, рикошетируя от железных угольников и скреп пули.
Чертов немец успел возвратиться!
Только теперь началось настоящее.
Самолетик преобразился. Он ожил. Он перестал быть машиной. Это был вепрь, носорог, крылатый огнедышащий змей, огромный и стремительный. Он вился клубком вокруг вышки, бросался на нее, ревя и визжа, он сотрясал ее, и Ромке казалось, что вышка шатается, что это уже никакая не вышка, а качели, иначе как объяснишь, что вот всего мгновение назад перед его глазами было небо, и уже – земля, и снова площадка летит вверх, и снова рушится – в визге, грохоте и реве. И уже чудились ему вокруг какие-то страшные морды, ощеренные пасти, и хвосты, и хохот…
Немец брал верх. Он уже морально уничтожил этого жалкого человечишку, который вертелся юлой, метался среди бревен как в клетке и совсем потерял голову. Осталось в последний раз без спешки зайти в атаку и спокойно расстрелять эту букашку.
Немец брал верх. Он понял это. И это же понял Ромка. Земля колебалась перед глазами, словно крылья огромной птицы, бревна вертелись вокруг каруселью, горло было раскалено и забито песком, и сердце силилось выскочить из него – и не могло. И когда Ромка представил, какое жалкое зрелище собой представляет – и это он, который так красиво начал эту игру. Как же вышло, что все повернулось наоборот, что немцу удалось его замордовать, что вместо дуэли получилась травля?..
«Хватит», – сказал себе Ромка и встал во весь рост посреди издерганного, расщепленного пулями настила – точно там, где он стоял в самый первый раз и в той же позе.
Он открыл флягу и спокойно сделал несколько глотков, косясь в сторону немца.
Самолет мчался прямо на него, а Ромка ждал, расслабив руки, давая им передышку, чтобы не дрожали, если ему так повезет, что он сможет выстрелить. Он уже не прикидывал, сколько остается до самолета и что сейчас немец делает, когда начнет стрелять; и что самому предпринимать – не думал, Он просто считал: один, два, три… – размеренно считал, чтобы сосредоточиться, чтобы успокоить сердце и нервы. И ему это удалось, он даже сумел отвлечься на несколько мгновений; они выпали из его сознания, а потом он как будто очнулся и вдруг понял, что самолет все еще не стреляет. Он был уже совсем рядом – вот-вот врежется – и не стрелял…
Опять рокочущий смерч пронесся над Ромкой, но он не упал; он встал боком, уперся и выдержал воздушный удар, но пока восстановил равновесие и хорошенько прицелился, самолет уже был далеко. Ромка все-таки выстрелил, не столько для дела, сколько для нервной разрядки: все же эти несколько секунд ему нелегко достались. Он испытал разочарование, что немец не стрелял; этим вроде преуменьшалась Ромкина доблесть. И еще он чувствовал, как опять подступает злость. Ведь немец продолжал с ним играть, как кошка с мышонком.
«Ну, ты у меня доиграешься», – пробормотал Ромка, но тут случилось нечто неожиданное: немец не кинулся в лобовую атаку, а стал мешкать, сбросил скорость и как-то неуверенно, нерешительно пошел по кругу, причем и круг-то он делал на приличном отдалении, свыше ста метров. Летчик высунулся из кабины и опять погрозил Ромке кулаком.
Ромку вдруг озарило: да ведь у немца патроны вышли!
Он захохотал и, не целясь, пальнул в сторону самолета.
– Эй ты, паршивый змей! Гнилая требуха! Куриный огузок! Ну давай! налетай! дави! – Еще выстрел. – Что я вижу: ты хочешь оставить меня одного? Ты делаешь мне ручкой? И тебе вовсе не нравится прощальный салют? Ах ты, падло!..
Самолет уже летел прочь, но Ромка, отводя душу, выстрелил еще раз, и бегал по площадке, и еще что-то кричал, размахивал руками, и грозил винтовкой. Он кричал всякие слова, а иногда просто «Ого-го-го!», пока самолет не растаял на востоке; только тогда Ромка перевел дух и обтер мокрое лицо полой гимнастерки, при этом он случайно глянул вниз.
Почти у подножья вышки, на тропинке, желтевшей тонкой строчкой посреди цветущих июньских трав, стоял немецкий мотоцикл с коляской и пулеметом. Трое немцев давились от еле сдерживаемого смеха, не желая выдавать свое присутствие. Но теперь им не было смысла таиться – и дружный хохот ударил Ромку прямо в сердце.
Он отскочил на середину площадки, к люку, сунул пальцы в патронташ. Пусто. И в винтовке осталось только два патрона.
Немцы не переставали смеяться, однако ка Ромкино движение среагировали: ствол пулемета поднялся вверх, а тот, что сидел позади водителя, в каске и без френча, в одной лиловой майке, слез с седла, отошел на несколько метров в сторону я поднял автомат.
– Ком! – сказал он и махнул рукой, предлагая Ромке спуститься. – Ком!
«Летчик не мог их вызвать, – подумал Страшных. – Это был наш поединок, наше вдвоем с ним дело – чего бы он стал приглашать кого-то со стороны? Нет, эти сами приехали. Небось видно было со всей округи, как мы шумим».
– Салют! – крикнул он, выдавил из себя смешок и помахал немцам рукой. Он не представлял, как будет выпутываться, и тянул время.
Немцы снова грохнули.
– Ком! – уже требовательней крикнул тип в лиловой майке. – Ты что, не понимаешь, дурак? Может, я неясно говорю? Так у меня есть переводчик!
Автомат в его руках чуть дернулся, и четыре пули продырявили настил вокруг Ромки. «Ох и бьет, собака!» – восхищенно подумал он и осторожно ступил на лестницу.
Немец улыбался.
– Эй ты, парень! – сказал он. – Только сначала брось винтовку, понял?
– Моя не понимайт, – простодушно разводил руками Ромка, осторожно спускаясь, ступенька за ступенькой; винтовку он и не думал бросать.
– Хальт!
Две пули, слева и справа, тугими воздушными комочками, как ваткой, махнули возле лица. Но Ромка уже сошел на первую площадку.
«Не бояться… Не бояться! Я и с этими справлюсь – только бы добраться до них…»
О плене он не думал.
Немец уже не улыбался.
– Стой, тебе говорят, паяц. Бросай винтовку! Ну, в последний раз предупреждаю!
Он увидел, что Ромка собирается ступить на вторую лестницу, закусил губу – и лестница загудела от ударов, и две верхние ступеньки разлетелись в щепки.
Ромка побледнел, взялся левой рукой за шаткое перильце – и шагнул на уцелевшую ступеньку.
Автомат поднялся снова.
Раздался выстрел. Чуть отдаленный: стреляли с полутораста метров: может, с двухсот. Немец дернулся вверх, пошел-пошел в сторону, теряя на ходу автомат, запутался сапогами в траве и сел.
Ромка медленно сошел еще на пару ступеней и тоже присел, держа винтовку под мышкой. Немцы словно забыли о нем, глядели куда-то в сторону. Сейчас бы по ним пальнуть… Ведь их двое осталось, а у него как раз два патрона. Но стрелять отсюда было бы ужасно неудобно: пока примостишься между ступеньками…
Еще выстрел – Ромка уже приметил куст, из-за которого стреляли, – и пулеметчик повалился из коляски.
Опомнившись, водитель рывком бросил мотоцикл между опорами. И – влево-вправо, влево-вправо – пошел зигзагом через луг вниз по склону. Но сверху все это выглядело слишком просто. Ромка медленно поднял винтовку и сбил немца с первого же выстрела. Мотоцикл промчался еще несколько метров, попал в рытвину, повернулся и заглох.
Ромка тяжело спустился по лестнице. От нижней площадки до земли было больше пяти метров. В другое время это его бы не остановило: просто спрыгнул бы – и все. Но сейчас он чувствовал, что прыгать нельзя. Что обязательно подвернет или сломает ногу. Вот такое отвратное было у него самочувствие.
Он бросил на землю винтовку, обхватил бревно и съехал по нему вниз.
К Ромке подошел маленький красноармеец. Совсем маленький – хорошо, если метра полтора в нем наберется. Узбек. Такое лицо, что сразу видно: не просто восточный человек, а именно узбек.
– Мотоцикла хороший. Бистрый, – сказал он и поскреб ногтем приклад своей трехлинейки; на Ромку он поглядывал как-то мельком, может, от избытка вежливости, а скорее от застенчивости. – Мой никогда не ездил.
– Сейчас прокачу.
Ромка глядел на свои ладони и пальцы. С внутренней стороны они были ободраны до розового; лишь в нескольких местах остались островки – давешняя корка.
– Ну и работка…
Он терпеливо ждал, пока узбек перебинтует ему руки своими индивидуальными пакетами, потом они подобрали автомат, надели для маскировки немецкие каски, подняли мотоцикл и покатили по тропкам в сторону шоссе. Потом они выехали на проселок и увидели, как немцы гонят через луг большую колонну пленных красноармейцев.
– На пулемете умеешь? – спросил Ромка.
– Это хорошая пулемет, – кивнул узбек, усаживаясь в коляске поудобней и поправляя ленту.
И они бросились в атаку.
Уже через несколько секунд Ромка опять остался один. Он в одиночку бился со всей немецкой охраной; вокруг лежали свои – и не поднимались: он кричал им, звал их – они не поднимались. Они почему-то продолжали лежать, и это длилось ужасно долго, так долго, что у кого угодно нервы бы не выдержали. Но Ромка знал: надо продержаться. И он дождался, что они поднялись, и совсем не удивился этому: люди судят других по себе, а уж Ромка-то Страшных, не раздумывая, бросался в любую драку, где были свои. Это ведь так естественно…






