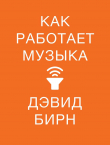Текст книги "Меж сбитых простыней"
Автор книги: Иэн Расселл Макьюэн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Дискуссия велась сдержанным шепотом и не выходила за рамки приличий. Несогласие выражалось в монологах, но иногда реплики партнеров шли внахлест, и тогда на шее женщины набухали вены, а левый кулак мужчины сжимался и разжимался. Я безмолвно поддерживал жену. Лучше всего было бы ограничиться легким учтивым рукопожатием и уйти отсюда навеки. Пойду себе домой и заберусь в постель. Пожирая меня глазами, один из младенцев подковылял ближе. Взглядом я призвал девочку вмешаться, и она после неоправданно долгой задержки угрюмо исполнила мою просьбу.
Спор закончился; подсев ко мне, хозяин наблюдал за женой, которая, склонившись к груде матрасов, готовила малышам постель. Девочка привалилась к стене и меланхолично изучала свои пальцы. Я перебирал крупинки на столе. Китаец послал мне блеклую улыбку, а дочери адресовал непрерывную фразу явно сложной конструкции, в финальной части которой тон его неуклонно взлетал, хотя лицо оставалось неподвижным. Девочка взглянула на меня и вяло перевела:
– Папа сказал, что вы с нами поужинаете.
В пояснение китаец показал на мой рот, затем на котелок и радостно произнес:
– Ты ходи!
В углу мать семейства прикрикивала на малышей, которые, сонно хныча, валетом укладывались на матрасик. Я упорно искал взгляда женщины, дабы заручиться ее согласием. Девочка вновь скучающе привалилась к стене, китаец скрестил руки на груди и тупо смотрел перед собой.
– А что говорит ваша мать? – глухо пробубнил я.
Вышло как-то искательно, что позволяло заподозрить во мне махинатора. Девочка пожала плечами, не отрывая взгляда от ногтей.
– О чем сейчас спорили ваши родители?
Девочка посмотрела на шкаф.
– Мама говорит, что отец переплатил.
Я решил уйти. Китаец стал зрителем моей пантомимы, в которой я болезненно сморщился и потыкал себя в живот в знак того, что не голоден. Однако хозяин понял ее так, что я чрезвычайно оголодал и не в силах ждать урочного часа. Он что-то быстро сказал дочери и сердито оборвал ее ответ. Та дернула плечом и направилась к очагу. Комнату наполнил жаркий звериный душок, напоминавший запах крови. Я заерзал и обратился к девочке:
– Не хочу обидеть ваших родителей, но скажите вашему папе, что я не голоден и хочу уйти.
– Уже говорила, – ответила девочка и, опорожнив черпак в большую белую миску, поставила ее передо мной, – Никто не слушает, – добавила она и вернулась на свое место у стены.
В прозрачном кипятке плавали и беззвучно сталкивались полузатонувшие шарики мышиного цвета. Физиономия китайца сморщилась в ободряющей улыбке:
– Ты ходи!
Я чувствовал на себе взгляд женщины, затихшей в углу.
– Что это? – спросил я у девочки.
– Говешки, – буркнула она, но затем, передумав, злобно прошипела: – Ссаки!
Китаец подхихикивал и потирал сухие ладошки, выражая радость от того, что его дочь мастерски владеет трудным языком. Под взглядами семейства я взял ложку. Младенцы смолкли. Я быстро закинул в рот две ложки варева и, не глотая, улыбнулся хозяевам.
– Вкусно, – наконец выговорил я, а затем обратился к девочке: – Скажите им, мол, вкусно.
По-прежнему не отрывая взгляда от ногтей, она проговорила:
– Лучше не ешьте.
Ложкой я выловил один шарик, оказавшийся удивительно тяжелым. Предугадывая ответ, вопросов о нем я не задавал.
Я заглотнул шарик и встал, протягивая китайцу руку, но ни он, ни его жена не шелохнулись.
– Да идите вы уже, – устало сказала девочка.
Я медленно обошел стол, боясь, что меня вырвет. Я уже был у двери, когда девочка произнесла что-то, вызвавшее ярость матери. Женщина закричала на мужа, тыча пальцем в миску, из которой еще обвинительно струился белый парок. Китаец равнодушно молчал. Гнев хозяйки перекинулся на дочь, но та отвернулась, не желая слушать. Казалось, отец с дочерью ждут, когда в худеньком горле женщины лопнут голосовые связки и наступит тишина. Скрытый шкафом, я тоже выжидал момента, чтобы выйти вперед и дружеским прощанием утихомирить скандал и свою совесть. Однако обитатели комнаты превратились в живую картину, и только крик был одушевленным персонажем. Я незаметно выскользнул на лестницу.
На дверном косяке еще горела лампа. Зная, как нынче трудно достать керосин, я ее погасил и вышел на темную улицу.
Кончить разом и умереть
Я не люблю показушных баб. Но она меня ошеломила. И я остановился, дабы ее разглядеть. Ноги ее были широко расставлены (обдуманное легкомыслие): правая дерзко шагнула вперед, левая чуть отстала. Пальцы правой руки, почти касавшейся стекла, напоминали лепестки прекрасного цветка. Левая рука опущена и чуть спрятана за спину, будто отгоняет игривую собачонку. Голова вскинута, губы тронула легкая улыбка, глаза прикрыты то ли в истоме, то ли в наслаждении. Не поймешь. Поза выглядела весьма нарочитой, так ведь и я не прост. Она была прекрасна. Я видел ее часто, порой два-три раза на дню. Разумеется, она принимала и другие позы, смотря по настроению. Пробегая мимо (я всегда в спешке), я бросал на нее взгляд, и казалось, она меня манит, приглашая зайти и обогреться. Порой она выглядела утомленной, охваченной унынием и вялостью, которую глупцы путают с женственностью.
Я стал обращать внимание на ее одежду. Естественно, она была модница. В известной степени, это было ее работой. Однако она ничем не напоминала те бесполые, чопорно безжизненные одежные вешалки, которые под гадкую музыку душных салонов демонстрируют haute couture.Нет, она принадлежала к иному классу. Ее существование не ограничивалось представлением стилей и модных веяний. Она была выше этого, она была далека от подобных мелочей. Одежда лишь оттеняла ее красоту. На ней и старый бумажный мешок казался бы вечерним платьем. Она презирала тряпки и ежедневно меняла их на другие. Красота ее сияла сквозь наряды… которые тем не менее были великолепны. Осень. Она в накидках насыщенного красновато-коричневого цвета, или в вихре крестьянских оранжевых и зеленых юбок, или в плотных брючных костюмах оттенка жженой охры. Весна. Она в желтых льняных юбках, белых ситцевых блузках или свободных зеленовато-лазурных и синих платьях. Да, я подмечал ее наряды, ибо она знала толк в богатых возможностях ткани (что было дано лишь великим портретистам восемнадцатого века), в изысканности складок, нюансах отворотов и каймы. В зыбких сменах позы ее тело приноравливалось к уникальным запросам каждой модели; неподвижная изящность ее идеальных линий звучала нежным контрапунктом к переменчивым причудам портняжного мастерства.
Однако я отклонился от темы, утомив вас лирическим отступлением. Шли дни. Бывало, я не видел ее вовсе, а на другой день мы встречались дважды. Незаметно эти встречи стали вехами моей жизни, а затем, я и оглянуться не успел, превратились в саму жизнь. Свидимся ли мы нынче? Вознаградятся ли минуты и часы моего ожидания? Одарят ли меня взглядом? Вспоминала ли она обо мне хоть изредка? Есть ли у нас будущее?.. Хватит ли мне духу подойти к ней? Духу! Чего стоят все мои деньги, что толку в моей мудрости, обретенной в пагубе трех супружеств? Я полюбил ее… Я хотел ею обладать. Но тогда пришлось бы ее купить.
Позвольте два слова о себе. Я богат. Среди жителей Лондона отыщется человек десять богаче меня. А может, лишь пять-шесть. Какая разница? Я богат и свое состояние сколотил по телефону. На Рождество мне стукнет сорок пять.
Я был женат трижды: каждое мое супружество длилось соответственно восемь лет, пять лет и два года. Последние три года я холост, но не празден. Заминки не случилось. Она непозволительна для сорокапятилетнего мужчины. Я всегда спешу. Каждый выплеск спермы из семенных пузырьков (или что там ее производит) на единицу уменьшает мой жизненный ресурс. У меня нет времени на разбирательство неистовых отношений, самокопание, невысказанные обвинения и молчаливую защиту. Я не желаю быть с женщинами, которым по окончании совокупления невтерпеж поболтать. Я хочу лежать в покое и просветлении. А затем надеть носки и ботинки, причесаться и заняться делами. Я предпочитаю молчуний, которые получают наслаждение с явным безразличием. Весь день я в разговорах – по телефону, на деловых обедах и встречах. В постели я хочу тишины. Повторяю, я не прост, так ведь и жизнь сложна. Но в этом отношении мои требования немудрены и вполне исполнимы. Я склонен к удовольствию, не отягощенному душевным тявканьем и скулежом.
Вернее, так было прежде… прежде чем я полюбил ее и узнал томительную радость полнейшего и бессмысленного саморазрушения. Но что мне теперь до смысла, мне, кому на Рождество исполнится сорок пять? Я часто проходил мимо магазина и смотрел на нее. Поначалу мне было довольно и взгляда, и я спешил дальше на встречу с деловым партнером или очередной любовницей… Не знаю, когда я понял, что влюблен. Жизненная веха стала самой жизнью незаметно, как в радуге красный цвет переходит в оранжевый. Вот я – человек, который походя бросает взгляд в магазинную витрину. И вот я уже влюбленный… просто влюбленный мужчина. Это произошло не быстро. Я стал задерживаться перед витриной. Другие… другие женщины, выставленные там, были мне безразличны. Мою Хелен я углядывал тотчас, куда бы ее ни помещали. Другие были просто куклами (о, любимая!), не стоящими даже презрения. Но в ней заряд красоты порождал жизнь. Изящной лепки чело, идеальный носик, улыбка, глаза, прикрытые в истоме или наслаждении (разве узнаешь?) Долгое время мне хватало того, что я вижу ее сквозь стекло, я был счастлив тем, что стою подле. В своем безумии я писал ей письма, да, вот до чего дошло, они хранятся у меня до сих пор. Я назвал ее Хелен («Дорогая Хелен, подай мне знак… Я знаю, что ты знаешь… и так далее»). Но вскоре я влюбился по уши и желал безраздельно владеть ею, познать ее, поглотить. Я хотел лежать с ней в постели и держать ее в объятьях, я мечтал, как она раздвинет ноги… Мне не знать покоя, если не окажусь меж ее белых бедер, если мой язык не раздвинет ее губы… Я понял, что скоро войду в магазин и попрошу ее продать.
Легко, скажете вы. Ты же богач. Можешь купить сам магазин, коли захочешь. И всю улицу. Конечно, я бы мог купить эту улицу и еще много других. Но послушайте меня. Речь шла не просто о сделке. Эго вам не покупка участка под застройку. В бизнесе делаешь предложения, рискуешь. Однако сейчас я не мог допустить неудачу, ибо желал свою Хелен, нуждался в ней. В глубине души я боялся, что мое безрассудство выдаст меня с головой. Я не был уверен, что в переговорах по сделке сумею сохранить твердость. Если сгоряча предложить слишком высокую цену, управляющий заинтересуется и, естественно, сделает вывод (ведь он тоже бизнесмен, не так ли?), что коль скоро товар ценен для меня, он ценен для кого-нибудь еще. В магазине Хелен уже давно. Вдруг хозяева решат убрать ее и уничтожить? Эта мысль терзала меня ежеминутно.
Я понимал, что действовать нужно быстро, но я боялся.
Я выбрал понедельник – спокойный день в любом магазине. Однако не был уверен, что спокойствие мне на руку. Может, в людную субботу лучше? Тихий день… оживленный день – мои решения противоречили друг другу, словно параллельные зеркала. Я потерял сон, стал груб с друзьями и практически бессилен с любовницами, терял деловую хватку. Надо было выбирать, и я выбрал понедельник. Стоял октябрь, сеял мелкий унылый дождик. Я дал шоферу выходной и сам приехал в магазин. Надо ли рабски следовать глупым условностям и описывать первое жилище моей ненаглядной Хелен? Оно мне неинтересно. Большой магазин, универмаг, торгующий исключительно одеждой и сопутствующими дамскими товарами. Эскалаторы, душная атмосфера скуки. Будет. Я выстроил план. И вошел внутрь.
Надо ли вдаваться в детали переговоров до того момента, когда драгоценность оказалась в моих руках? Ладно, быстро и кратко. Я обратился к продавщице. Она переговорила с другой. Обе кликнули третью, которая послала четвертую за пятой, и та оказалась младшей приказчицей, отвечающей за оформление витрин. Учуяв мои богатство и власть, но не тревогу, они роились вокруг меня, точно любопытная детвора. Я уведомил, что просьба моя необычна, и они беспокойно переминались с ноги на ногу, избегая моего взгляда. Я говорил напористо, обращаясь к пяти девушкам разом. Мол, хочу купить пальто, выставленное в витрине. Подарок жене, сказал я; еще мне угодно приобрести ботинки и шарф, представленные с пальто. Женин день рожденья, поведал я. Мне нужен и манекен (ах, моя Хелен!), дабы наряд предстал во всей красе. Я посвятил девиц в свою маленькую праздничную хитрость: изобрету какой-нибудь обычный домашний повод, чтобы заманить жену в спальню, она войдет, а там… Представляете? Я живописал эту сцену, внимательно наблюдая за девушками. Я попал. Переживая смак сюрприза, они улыбались и переглядывались. И осмелились смотреть мне в глаза. Надо же, какой муж! Каждая представила себя моей женой. Разумеется, я готов приплатить… Нет-нет, и речи быть не может, сказала приказчица. Меня просят принять это как подарок от магазина. Она повела меня к витрине. Я шел за ней сквозь кроваво – красную пелену. Ладони мои взмокли. Красноречие иссякло, язык прилип к нёбу, и я смог лишь слабо махнуть рукой в сторону Хелен. «Вон та», – прошептал я.
Некогда я был торопливым прохожим, мимоходом взглянувшим в витрину… теперь же я стал влюбленным, который под дождем нес на руках любимую к ожидавшей машине. Правда, в магазине предложили упаковать одежду, чтобы не смялась. Но покажите мне мужчину, который согласится нести свою возлюбленную голой под октябрьским дождем. От радости я что-то лепетал, пронося Хелен по улице. А она жалась ко мне и цеплялась за мои лацканы, точно новорожденная обезьянка. Я нежно уложил ее на заднее сиденье и осторожно повез домой.
Дома все было готово. Я понимал, что она сразу захочет отдохнуть. Я принес ее в спальню, снял с нее ботинки и уложил на белые хрустящие простыни. Я нежно поцеловал ее в щеку, и через мгновенье она крепко уснула. Я же пару часов поработал в библиотеке, наверстывая в де лах. Теперь я был безмятежен, меня озарял спокойный внутренний свет, позволявший глубоко сосредоточиться. Потом на цыпочках я прошел в спальню. Во сне ее лицо обрело выражение невероятной нежности и понимания. Губы ее чуть раскрылись. Я опустился на колени и поцеловал ее. Затем вернулся в библиотеку и с бокалом портвейна сел у камина, размышляя о своей жизни, супружествах и недавнем отчаянии. Все прошлые невзгоды казались необходимыми для того, чтобы свершилось нынешнее счастье. Теперь у меня была Хелен. Она спала в моем доме, в моей постели. Никто другой ей не нужен. Она моя.
Когда пробило десять часов, я скользнул к ней в постель. Я старался ее не потревожить, но знал, что она не спит. Как трогательно вспоминать о том, что мы не сразу набросились друг на друга. Нет, мы лежали рядышком (она была такая теплая!) и разговаривали. Я рассказал, как впервые увидел ее, как расцвела моя любовь, как задумал освободить ее из магазина. Поведал о трех своих супружествах, работе и любовных связях. Я решил ничего не скрывать от нее. Я рассказал обо всем, что передумал, с бокалом портвейна сидя у камина. Я говорил о будущем, нашем совместном будущем. Я признался, что люблю ее, и, кажется, говорил о том беспрестанно. Она молча слушала с напряженным вниманием, которое позже я научился в ней уважать. Она погладила мою руку и удивленно заглянула мне в глаза. Я раздел ее. Бедняжка! Под пальто она была голой; я был ее единственным на свете достоянием. Я привлек ее к себе, прижался к ее обнаженному телу, и в ее распахнутых глазах мелькнул испуг… Она была девственница. Я шептал ей на ушко, уверяя, что буду нежен, умел и сдержан. Я ласкал ее языком меж бедер, ощущая пахучее тепло ее непорочного вожделения. В ее податливые пальцы (о, как они прохладны!) я вложил свое пульсирующее естество. «Не бойся, – шептал я, – Не бойся». Я проник в нее легко, словно огромный корабль, тихо скользящий в ночную бухту. Вспышку боли, мелькнувшую в ее глазах, пригасили длинные расторопные пальцы наслаждения. Прежде мне были неведомы такой восторг и столь полная гармония… почти полная, ибо, признаюсь, в ней была неизгладимая червоточинка. Из девственницы Хелен превратилась в ненасытную любовницу. Она требовала оргазма, которого я не мог обеспечить, и не отпускала меня, не давая продыху. Ночь напролет она балансировала на краю утеса над пропастью нежнейшей смерти… в которую, несмотря на все мои усилия и старания, я не сумел ее сбросить. Наконец, часов в пять утра, я от нее отвалился, обезумевший от усталости, измученный и раздавленный собственным провалом. Вновь мы лежали рядом, но теперь в ее молчании слышался невысказанный укор. Зачем же я забрал ее из магазина, где она пребывала в относительном покое, зачем уложил ее в постель и бахвалился своим умением? Я взял ее руку. Она была жесткой и неприветливой. Возникла паническая мысль, что Хелен меня бросит. Гораздо позже этот страх еще вернется. Ее ничто не удерживаю. Она была без гроша и, в сущности, без профессии. Голая. И все равно могла уйти от меня. Существовали и другие мужчины. Она могла бы вернуться на службу в магазин. «Хелен, – настойчиво звал я, – Хелен…» Она лежала совершенно неподвижно и словно затаила дыхание. «Все придет, вот увидишь, все придет». С этими словами я вновь вошел в нее и медленно, неприметно, по шагу повел за собой. Понадобился час плавного ускорения, и, когда серый октябрьский рассвет проткнул набрякшие лондонские тучи, она кончила, покинув сей подлунный мир… в своем первом оргазме. Она вся напряглась, глаза ее невидяще уставились в пустоту, и мощная внутренняя конвульсия окатила ее океанской волной. Потом она уснула в моих объятьях.
Утром я проснулся поздно. Хелен лежала на моей руке, но я сумел выскользнуть из постели, не разбудив ее. Надев чрезвычайно яркий халат (подарок моей второй жены), я пошел на кухню сварить кофе. Я чувствовал себя другим человеком. Окружавшие меня предметы – картина Утрилло [8]8
Морис Утрилло (1883–1955) – французский живописец-пейзажист.
[Закрыть]на стене, знаменитая подделка статуэтки Родена, вчерашние газеты – излучали непривычную оригинальность. Хотелось к ним прикоснуться. Я провел рукой по отделанной под мрамор столешнице. Я получая удовольствие от того, что засыпаю в кофемолку зерна и достаю из холодильника спелый грейпфрут. Я любил весь мир, ибо нашел идеальную супругу. Я любил Хелен и знал, что любим. Я чувствовал себя свободным. Я молниеносно прочел утренние газеты, но и в конце дня помнил имена чужеземных министров и названия стран, которые они представляли. По телефону я надиктовал с полдюжины писем, побрился, принял душ и оделся. Когда я заглянул в спальню, Хелен все еще спала, изнуренная наслаждением. Потом она проснулась, но встать не захотела, ибо одеться ей было не во что. Я велел шоферу отвезти меня в Уэст-Энд и весь полдень потратил на покупку одежды. Мне неловко оглашать потраченную сумму, но позвольте заметить, что мало кто сравнится со мной по годовому доходу. Однако я не стал покупать лифчик. Я всегда презирал этот атрибут, хотя, похоже, без него способны обойтись лишь студентки и аборигенки Новой Гвинеи. К счастью, позже выяснилось, что Хелен тоже не любит лифчики.
Когда я вернулся, она не спала. Приказав шоферу отнести покупки в гостиную, я его отпустил. В спальню я принес свертки сам. Хелен была в восторге. Глаза ее лучились, она задохнулась от радости. Вместе мы выбрали, что ей надеть, – длинное бледно-голубое вечернее платье из чистого шелка. Предоставив Хелен разбираться с обновками, которых набралось более двух сотен, я поспешил на кухню готовить шикарный ужин.
Но как только выдалась свободная минутка, вернулся в спальню и помог ей одеться. Потом она замерла в абсолютно непринужденной позе, а я отступил на шаг, чтобы ею полюбоваться. Разумеется, платье подошло идеально. Скажу больше: я вновь убедился в ее таланте носить одежду; в ином существе я разглядел красоту, никем дотоле не виданную, я понял… что это художественно – полнейшее слияние формы и линии, которое подвластно одному лишь искусству. Она будто светилась. Мы молчали, глядя друг другу в глаза. Потом я спросил, не угодно ли ей осмотреть дом.
Сначала я повел ее в кухню, где продемонстрировал множество приспособлений. Показал картину Утрилло (позже выяснилось, пейзаж не особо ей понравился). Подвел к роденовской подделке и даже предложил подержать ее в руках, но она отказалась. Затем я провел ее в туалетную, где показал утопленную в пол мраморную ванну и объяснил, как регулировать краны, чтобы из пастей алебастровых львов извергалась вода. Возникло беспокойство, не показалось ли ей это слегка вульгарным. Она промолчала. Затем я препроводил ее в гостиную… где вновь изрядно утомил показом картин. В кабинете я предложил ее вниманию первый шекспировский фолио, всяческие раритеты и множество телефонов. Далее мы прошли в зал заседаний. Вообще-то показывать его было незачем. Наверное, я уже стал слегка бахвалиться. Наконец мы добрались до огромного помещения, которое я называю просто комнатой. Здесь я провожу свой досуг. Не стану забрасывать вас деталями, точно переспелыми помидорами… Комната удобна и весьма экзотична.
Я сразу почувствовал, что она ей понравилась. Опустив руки вдоль тела, Хелен стояла в дверях и осматривала мой приют отдохновения. Я усадил ее в большое мягкое кресло и налил ей сухого мартини, в чем она очень нуждалась. Затем я ее оставил, целиком посвятив следующий час приготовлению нашего ужина. Тот пролетевший вечер определенно стал самым изысканным из всех, что я когда-либо проводил с дамой, да и вообще с кем бы то ни было. Для своих приятельниц я готовил великое множество блюд. Без колебаний охарактеризую себя как отличного кулинара. Я один из самых лучших. Однако до сегодняшнего дня трапезы были испорчены всегдашней неловкостью гостьи из-за того, что я вместо нее хлопочу на кухне, подаю блюда, а затем убираю со стола. Весь вечер моя компаньонка беспрестанно удивлялась тому, что я, трижды разведенный завидный кавалер, горазд на этакие кулинарные подвиги. Но не Хелен. Она была моей гостьей, и только. Моя возлюбленная не пыталась вторгнуться в кухню и не доставала меня бесконечным воркованьем: «Может, чем-нибудь помочь?» Она откинулась в кресле, как и надлежит гостье, и позволила себя обслуживать. А беседа?! С моими прежними дамочками разговор всегда был помехой еде, забором из противоречий, споров, разногласий и тому подобного. Для меня идеальная беседа га, в которой оба участника могут свободно и полностью изложить свои мысли, не прибегая к бесконечным уточнениям, оговоркам и защите своих выводов. И даже не делать их вообще. В Хелен я нашел превосходного собеседника, я мог с ней по-настоящему разговаривать. Она сидела абсолютно неподвижно и слушала, уставив взгляд в точку перед своей тарелкой. Я рассказал ей много такого, о чем прежде никогда не говорил. О своем детстве, о предсмертных хрипах отца, о материнском ужасе перед сексом и собственном посвящении в его таинство, произошедшем со старшей кузиной. Я говорил о состоянии мира, о декадансе, либерализме, современных романах, супружестве, исступлении и недуге. Незаметно пролетели пять часов, за которые мы выпили четыре бутылки вина и полбутылки портвейна. Бедненькая моя Хелен! Мне пришлось отнести ее в постель и раздеть. Сплетясь в объятьях, мы лежали рядом, но сил наших достало лишь на то, чтобы нырнуть в глубочайший покойный сон.
Так закончился наш первый совместный день, послуживший образцом для последующих радостных месяцев. Я был счастлив. Свое время я делил между Хелен и наживанием денег. В последнем я преуспевал без всяких усилий. По правде, за это время я так разбогател, что тогдашнее правительство посчитало опасным не снабдить меня влиятельным постом. Разумеется, я принял рыцарское звание, и мы с Хелен в грандиозном стиле отметили это событие. Однако я отказался в любой должности служить правительству, поскольку государственная служба ассоциировалась у меня со второй женой, пользовавшейся громадным авторитетом среди министров. Осень обернулась зимой, а там уже вскоре зацвели миндальные деревья в моем саду и пробились первые нежные листочки на дубовой аллее. Мы с Хелен жили в полной гармонии, которую ничто не могло нарушить. Я творил деньги и любовь, я разговаривал, а Хелен слушала.
Но какой же я глупец! Ничто не вечно. Все это знают, однако никто не верит, что не бывает поблажек. С горечью сообщаю, что вестником срока стал мой шофер Брайан.
Он был идеальный водитель. Говорил, если только к нему обращались, и лишь по делу. Свое прошлое, свои амбиции и свой характер он держал в секрете, чему я был рад, поскольку не желал знать, откуда он взялся, на что нацелен и кем себя считает. Машину он водил умело и невообразимо быстро. Всегда находил, где припарковаться. В любой дорожной очереди, куда попадал крайне редко, всегда был в числе первых. В Лондоне знал все улицы и короткие пути. Был неутомим. Мог всю ночь прождать меня по указанному адресу, не отлучаясь за сигаретами или порножурналом. Машину, обувь и униформу содержал в безукоризненной чистоте. Он был бледен, худ и опрятен; возраст его колебался между восемнадцатью и тридцатью пятью.
Возможно, вы удивитесь, но я не представлял Хелен моим друзьям, хоть очень ею гордился. Я ни с кем ее не знакомил. Похоже, она не нуждалась еще в чьем-либо обществе, и я не возражал, чтобы все так и оставалось. Зачем тащить ее в скучный круг зажиточного Лондона? Вдобавок она была весьма застенчива, поначалу даже со мной. Брайан не стал исключением. Не делая особого секрета из присутствия Хелен, я не позволял шоферу входить в комнату, если там была она. Когда я хотел куда-либо поехать вместе с ней, я давал Брайану выходной (он жил над гаражом) и сам садился за руль.
Все очень просто и ясно. Но затем что-то пошло не так, и я четко помню, когда все началось. Как-то в середине мая я вернулся домой после особенно утомительного, изматывающего дня. Тогда я еще не знал (хотя догадывался), что исключительно по собственной ошибке потерял едва ли не полмиллиона фунтов. Хелен праздно сидела в своем любимом кресле, но во взгляде ее проскользнул какой-то неуловимый холодок, и я притворился, будто ничего не заметил. После пары стаканчиков виски мне стало лучше. Я подсел к Хелен и начал рассказывать о своем дне, о том, как по моей вине произошла ошибка, но я сгоряча обвинил в ней другого и потом был вынужден извиниться и так далее… Обычные заботы тяжелого дня, которыми человек вправе поделиться с собственной супругой. Но я и тридцати пяти минут не говорил, как понял, что Хелен вовсе меня не слушает. Она тупо смотрела на свои руки, лежавшие на коленях. Она была далеко-далеко. Это явилось столь ужасным открытием, что секунду я не мог ничего предпринять (меня парализовало) и продолжал говорить. Но потом я уже не мог этого терпеть. Я замолчал посреди фразы, встал и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Хелен даже не подняла взгляда. Я был взбешен, слишком взбешен, чтобы с ней говорить. Усевшись в кухне, я прихлебывал виски из бутылки, которую не забыл с собой прихватить. Потом я принял душ.
Когда я вернулся в комнату, я чувствовал себя значительно лучше. Я расслабился, слегка опьянел и был готов забыть все происшествие. Похоже, Хелен тоже смягчилась. Я уж хотел спросить ее, в чем дело, но мы вновь заговорили о моем дне и тотчас стали прежними. Казалось бессмысленным возвращаться к недоразумению, когда мы так славно ладили. Однако через час после ужина в дверь позвонили, что по вечерам бывало крайне редко. Поднимаясь со стула, я случайно заметил испуганный взгляд Хелен – такой же, как в ту ночь, когда она впервые мне отдалась. За дверью стоял Брайан. Он принес бумагу на подпись. Что-то связанное с машиной, что вполне терпело до утра. Просматривая бумагу, краем глаза я заметил, что шофер украдкой заглядывает через мое плечо в прихожую. «Что – то ищете?» – резко спросил я. «Нет, сэр», – ответил он. Я поставил подпись и закрыл дверь. Вспомнилось, что Брайан весь день провел дома, поскольку машина стояла в гараже на профилактике. В контору я ездил на такси. Когда я связал сей факт со странностью Хелен… накатила такая дурнота, что меня чуть не вырвало, и я бросился в ванную.
Однако я не сблевал. Но взглянул в зеркало. И увидел в нем мужчину, которому менее чем через семь месяцев стукнет сорок пять, у которого под глазами следы трех супружеств и от бесконечных разговоров по телефону обвисли уголки рта. Я плеснул в лицо холодной водой и пошел к Хелен. «Брайан приходил», – сказал я. Она промолчала, не смея на меня взглянуть. Голос мой звучал гнусаво и бесцветно. «Обычно по вечерам он не приходит…» И вновь она ничего не сказала. А чего я ждал? Что она вдруг надумает признаться в интрижке с моим шофером? Хелен молчунья, она легко скрывала свои чувства. Я тоже не мог признаться в своих переживаниях. Было ужасно страшно, что я окажусь прав. Я бы не вынес подтверждения догадки, от которой меня вновь чуть не стошнило. Я просто замолчал, дабы укрепить ее притворство… Я невероятно хотел, чтобы она все отрицала, хотя знал, что услышу ложь. Короче, я понял, что я полностью в ее власти.
В ту ночь мы спали порознь. Я постелил себе в гостевой комнате. Я вовсе не хотел спать один, даже мысль о том меня угнетала. Полагаю, я затеял всю эту кутерьму для того, чтобы Хелен спросила, что происходит (вот до чего я смешался). Я ждал, что она удивится: мы были так счастливы, и вдруг я, ни слова не говоря, стелю себе в другой комнате. Я хотел, чтобы она попросила меня не глупить и вернуться в постель, нашу постель. Но она ничего, ничегошеньки не сказала. Приняла как должное… что в подобной ситуации мы больше не можем делить постель. Ее молчание убийственно подтверждало мои подозрения. Но еще оставалась крохотная возможность того, что она просто осерчала на мое взбрыкивание, размышлял я на своем новом бессонном ложе, бесконечно прокручивая в голове ситуацию. Теперь я пребывал в полном смятении. Может, она в глаза не видела Брайана? Может, я все напридумал? Сказался тяжелый день… Нет, ерунда, вот же она, реальность – каждый в своей постели… А что оставалось делать? Что я должен был сказать? Я продумывал все варианты, искал верные слова, держал многозначительные паузы, сочинял короткие меткие реплики, которые сорвут тонкую пелену наваждения. А что она – тоже не спит и думает обо всем этом? Или же дрыхнет без задних ног? Как узнать, не обнаружив своей бессонницы? Что, если она бросит меня? Я у нее в кабале.
Слаб язык человеческий, чтобы передать мое состояние в последующие дни. В нем царил ужас кошмара, меня словно поджаривали на вертеле, который медленно проворачивала Хелен. Было бы неверно задним числом утверждать, будто я надумал эту ситуацию, однако теперь я отлично понимаю, что мог бы раньше закончить свои страдания. Я окончательно перебрался в гостевую комнату. Гордость не позволяла мне вернуться в нашу брачную постель. Я хотел, чтобы инициатива исходила от Хелен. В конце концов, ведь это она задолжала мне объяснения. В данном пункте, единственно определенном во всей этой угнетающей неразберихе, я был непреклонен. Мне надо было за что-то ухватиться… и, как видите, я выжил. Мы почти не разговаривали. Были холодны и разобщены. Избегали взглядов друг друга. Я заблуждался, полагая, что мое упорное молчание как-нибудь сломит ее и подвигнет на разговор, на желание объясниться. Так я и жарился. Ночью я просыпался от собственного крика в страшном сне, днем куксился, пытаясь измыслить выход из ситуации. Надо было вести дела. Часто приходилось уезжать, порой за сотни миль от дома, и я был уверен, Хелен с Брайаном празднуют мою отлучку. Иногда из отелей и аэропортов я звонил домой. Ни разу никто не ответил, однако между пульсирующими гудками мне слышалось прерывистое дыхание Хелен, в спальне подбирающейся к пику наслаждения. Я обитал в черной долине на краю слез. Девочка, играющая с песиком, отражение в реке заходящего солнца, трогательная строчка в рекламном проспекте – этого было достаточно, чтобы меня напрочь расстроить. Когда я, несчастный, истосковавшийся по дружескому участию и любви, возвращался из деловой поездки, я с первого мгновенья чувствовал, что Брайан недавно был в доме. Ничего конкретного, но что-то витало в воздухе, не так была застелена кровать, иначе пахло в ванной, на подносе был чуть сдвинут графин с виски. Хелен делала вид, что не замечает моего тоскливого рысканья по комнатам, притворялась, что не слышит, как я рыдаю в ванной. Вы спросите, почему же я не уволил шофера. Ответ прост. Я боялся, что Хелен уйдет вслед за ним. Брайану я ничем не намекнул о своих переживаниях. Мои приказы он исполнял с обычной безликой угодливостью. В его поведении я не заметил никаких перемен, хоть я не особо присматривался. Думаю, он так и не понял, что мне все известно, и я хотя бы тешил себя иллюзией власти над ним.