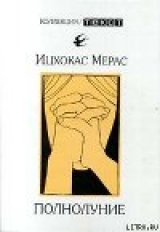
Текст книги "На чем держится мир"
Автор книги: Ицхак (Ицхокас) Мерас
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Гроб и оружие.
Возвращался Винцукас грязный, заросший, измученный.
Она уже не пряталась в избу, завидев, что он шагает по дорожке, усталый, сгорбленный. Пусть смотрит, если охота. А может, и не замечает уже от усталости? Будто ей не все равно. Будто она про это думает.
Пусть только возвращается.
Пусть всегда возвращается.
Беда, что грязный? Теплая вода в котле на печке.
Беда, что заросший? Побреется. Она бы и сама побрила, да не позволит он.
Усталый? Ничего, лишь бы дали отоспаться вволю, и ладно.
Пусть только возвращается. Пусть всегда возвращается.
И что бы ни было – ясный день на дворе или кромешная тьма вокруг, она укладывала его и тут же затворяла все ставни, запирала дверь на засов. Окраина. Не дай Бог… Если придут, если во сне застигнут. Прямо из постели… Сохрани Господь.
Детей, всех троих, загоняла на другую половину избы. Чтобы не шумели, дали наконец отдохнуть человеку. Будто мало ему, когда из дома уходит. Смотрела на него, спящего, и на винтовку, прислоненную в головах. Как же так? По плечу ли молодому тяжкая ноша? Ребенок ведь…
И однажды под вечер, затворяя ставни, увидела, что к дому подходит человек. Еще с большака огляделся, свернул на дорожку. Незнакомый человек в серой кепке, в синем пиджаке.
Она загородила собою дверь и ждала.
Человек вошел во двор, снял кепку, а она все еще смотрела, прищурившись, не могла понять: было в его походке что-то знакомое.
– Добрый вечер, – сказал он, глядя ей в лицо. – Не захлопнешь дверь перед прохожим?
Она даже вздрогнула.
И голос знакомый. Голос? Увидела знакомые серые глаза. Винцас? Винцас Ятаутас?!
– Смотри-ка… Узнала… Хоть и облысел, а все равно узнала…
Он мял в руках серую кепку.
Потом беспокойно огляделся, точно боясь кого-то.
– В избу-то впустишь? – спросил он. – Не хотелось бы на дворе… Я ненадолго.
Она попятилась, и он вошел в дом.
– Значит, здесь и живешь, – сказал, то ли спрашивая, то ли сам себе отвечая.
– Здесь… С детьми…
– Знаю… Говорили мне дома.
Сели за стол. Он – по одну сторону, она – по другую.
– Темно, – сказала она. – Хоть ставни открою. Выбежала, открыла. Стало светлей в комнате. Гораздо светлее. Увидела, какой он грязный, заросший, может, и голодный.
– Воды нагрею. Умоешься, – сказала она.
– Нет, нет! Не надо, я на минутку только.
Она все-таки пошла в кухню, поставила греть котел и присела у печи, глядя на потрескивающие сучья. Огонь, багровый, хватал ветку за веткой, в красном пламени сперва еще виднелось коричневое дерево – то чернея, то вспыхивая ало, прежде чем подернуться серым пеплом.
В этом багровом огне, в этом пламени ей хотелось увидеть себя, как в зеркале. Но видела не себя, а только обугленные сучья да потрескивающие еловые поленья.
Хотелось хоть одним глазком поглядеть на свое лицо, много ли уже морщин, совсем ли выцвели синие глаза. Осталось ли хоть немного румянца на щеках. Хоть сколько-нибудь.
Встала, поправила косу. Приколола ее покрепче.
Обжигая руки, налила горячую воду в таз, который всегда подавала Винцукасу. Еще холодной плеснула. Попробовала на ощупь – годится ли. Принесла в комнату, поставила на табуретку. А он – где оставила его, там и сидел. Как опустился на скамью, так и с места не двинулся. Как уронил руки на стол, так и лежали.
Она тихо прошла на другую половину избы, где спал ее старший, нашла бритву, мыло, осколок зеркала. И кожаный ремень – направить бритву.
– Побрейся, умойся, – сказала.
Облокотилась на стол и смотрела, как он точит бритву, как намыливает щеки, бреет щетину, отирая ее об клочок газеты, как скоблит подбородок, вот уже и ямка выступила.
– Да, не думала… – сказала она. – Не думала, что свидимся.
– И я не думал… А вот видишь…
И, немного погодя, добавил:
– Зря это я прихорашиваюсь. Не засидеться бы. Ты… не боишься, что зашел? В лесу я теперь, может, и сама догадалась…
Он отвернулся.
– Вижу, что-то не так. Грязный весь и все по сторонам озираешься.
Умывшись, он сел на прежнее место, опять несмело сложил руки на столе. Оба молчали. Легко ли говорить, когда вот так встретишься?
– Дети где? – спросил.
– Младшие носятся где-то. Как весна, так они и по лужам. А старший спит. Умаялся на работе, отдыхает.
Она вспомнила вдруг, что и в самом деле на другой половине спит ее старший, вдруг проснется, войдет и увидит, как они сидят даесь оба. Что будет? Как-то встретятся они, два Винцаса, тот, что здесь за столом, из леса, и тот, старший ее, с винтовкой, Винцас, сын Винцаса?
– Спит… – сказала она. – Он нескоро встанет.
– Конечно, – ответил он. – Поспишь… Как не отоспаться после такой работы. Большой уже, а?
– Большой.
– Видишь… Мог бы и у нас такой быть. Большой бы вырос уже.
Она не ответила.
И снова сидели они друг против друга, смотрели и думали о чем-то, каждый свое.
Потом она спохватилась, что не накормила гостя.
Принесла хлеба, шматок сала, нарезала.
– Хорошо, что дети не дома… – сказал он. – А ты прости, что зашел, помешал вам. Хотелось зайти. Повидаться. Хоть разок. Ты не сердись.
Она поставила перед ним тарелку:
– Ешь.
Он взял кусок хлеба, посмотрел ей в глаза, криво усмехнулся:
– Такое время, а?
Она смотрела, как он ест, и ждала, уже давно ждала, когда он заговорит…
– Сказка моя короткая, – сказал он. – Ездил, скитался по белу свету. Потом воевал. Был в плену, в концлагере сидел. Война закончилась, я и махнул домой. Видишь, вернулся все-таки. Тут и давай меня таскать. Раз вызвали – явился. Второй – опять явился. А как третий раз вызвали – не пошел больше. В лес подался, места себе искать. Ну что? Не короткая сказка?
Она смотрела на человека, такого дорогого когда-то, такого желанного, давным-давно потерянного и вдруг объявившегося.
Неправда!
Не может быть такого.
Самая злая несправедливость!
– Не иди к ним… Не надо… – сказала она убежденно. – Оставайся… если хочешь… Не ходи в лес… Серые глаза блеснули и потухли.
– Не могу. Найдут. Всю войну прошел, весь плен. А тут – свои. На родной земле. Дома. Придут и убьют. Не могу. Она встала из-за стола.
Пойти, что ли, на другую половину, разбудить Винцукаса? А может, и в самом деле разбудить Винцукаса?
– Не ходи никуда, – попросил он. – Ни к чему это… Я сам уйду.
– Не надо… Не надо тебе в лес.
– Сам взвалил этот крест, самому и нести теперь. Нахлобучил на голову серую кепку, застегнул свой синий пиджак.
На другой половине избы что-то стукнуло.
– Не твой ли? – спросил и заторопился. – Задержи, чтоб не увидел.
И опять она испугалась, как вначале, когда вспомнила, что Винцукас спит на другой половине. Сама открыла ему дверь, вышла во двор с оглядкой и, удерживая слезы, всем сердцем пожелала ему доброго пути, хотя не промолвила ни слова, только провела рукой по синему пиджаку.
– Мама, кто это приходил?
– Кто? – испуганно обернулась к Винцасу.
– Да вон, на большак сворачивает.
– Это так… – ответила она. – Прохожий… Напиться зашел. Вечер. Уже и ребята разгалделись:
– Мама!
– Мам!
У них свой разговор: дай поесть, значит.
Захлопотала.
Большое хозяйство дом, когда четверо детей на тебе. Надо бы овцу продать. Что с нее? Шерсти несколько горстей. Надо овцу продать да купить козу, что ли. Все стакан-другой молока, хотя бы младшие по очереди пили, да и Винцукасу тоже не помешало б. У козы молоко густое, жирное, хоть и немного его. Только разве выберешься на базар, если все время ждать надо. Жди и жди. Вернется или не вернется? – Мама…
– Что? – вздрогнула она.
– Мне пора.
– Снова?
Снова.
Беда, что грязный вернется?
Беда, что заросший?
Может, плакать, если голодный придет?
Пусть только возвращается. Пусть всегда возвращается.
Пусть сам возвращается. Ей гонцов не нужно. Хватит с нее Маричюке.
Гонцы, еще чего придумала…
Гонцы?
Вот они, тут как тут. Уже близко. Только не пешком и не один.
Двое сидят на повозке, свесив ноги, к дому катят. С большака уже свернули, по дорожке едут, лошадь кнутом нахлестывают.
Прямо к дому, вот-вот на нее наедут.
– Где?! – кричит она. – Где он? Где оставили?!
– Жив… Живой ведь… – говорят они, опустив головы.
– Живой?! Где же он? Где?
– Садитесь… Подвезем… В больнице.
И гонят теперь уже втроем.
По дорожке.
По большаку.
В больницу.
На нее натягивают халат, но она выскальзывает из белых рукавов и бежит; вбегает и видит его наконец. Видит среди марли пол-лица. Глаза, нос, губы, застывшие руки. Она берет их в ладони и дышит, дышит, чтобы согреть.
– Ничего… – говорит он. – Все равно я вернулся… Почти вернулся… Правда?
Улыбается он или ей только кажется?
– Молчи, молчи! – говорит она.
Но он не хочет. А может, и не может молчать.
Теперь он наверняка не улыбается. Просит ее, говорит ей.
Она наклоняется, чтобы лучше слышать.
– Ма… – говорит он. – Сходи на площадь. На базарную площадь, ты знаешь… Там они все… лежат… Посмотри, есть ли там один, в синем пиджаке. Как на том прохожем, что напиться заходил. Помнишь? Может, нет его там, посмотри… Он лежал за деревом с пулеметом в руках. Наши ползли по голой поляне… Он мог всех перебить. Я видел… Тут кто-то крикнул: «Винцас!» Он припал к дереву, и я выстрелил… Потом ничего не помню. Ты сходишь? Мам… Посмотришь?
Сходит ли на базарную площадь?
Сходит ли она посмотреть?
Их, убитых, всегда укладывали на базарной площади.
Сходит ли она посмотреть?
Дети не знают… Он, Винцукас, тоже…
Каждый раз, когда их укладывали на базарной площади, она приходила, надвинув платок на лоб, приходила заглянуть им в лицо. И помолиться. Она все время искала. Искала, не найдет ли Антанаса Бернотаса. Если бы нашла его, больше не ходила бы на базарную площадь. Никогда.
А теперь Винцукас просит, и она должна пойти искать человека в синем пиджаке.
Как на том прохожем?
Что напиться заходил?
Мало ли одинаковых пиджаков на свете. И коричневых, и черных, и синих.
Но она бежала на площадь и все больше спешила.
Мало ли на свете одинаковых пиджаков.
Мало ли схожих красок на свете.
В этот раз их было много. Лежали в несколько рядов. И синий пиджак разглядела сразу. Уже не стала, как обычно, рассматривать других. Подбежала, нагнулась над синим пиджаком и увидела серые глаза, которые так никто и не закрыл. Серые глаза смотрели на нее с холодным стеклянным блеском.
Ведь так много на свете красок!
Почему так мало красок на свете?
«Ты сходишь? Мам… Посмотришь?»
Ха-ха!
Смейтесь, смейтесь вместе с нею! Ее ребенок? Своими руками? Этого путника, который хотел воды напиться.
Смейтесь!
Теперь ей надо в больницу.
«Ты сходишь? Мам… Посмотришь?»
Нужно.
Всегда нужно.
И теперь было нужно.
Ее ждало забинтованное марлей лицо Винцукаса, который направил ее, который просил, и нужно было пойти и сказать ему. Нельзя отказывать человеку, да еще своему ребенку, если он просит.
Она вернулась в больницу, дала надеть на себя халат. Совала руки в белые рукава и все никак не могла попасть. Потом прошла по коридорчику, остановилась возле двери. Вот и ручку нажала, вошла. Он смотрел на нее половиной лица с прикрытыми глазами, побелевшим носом, плотно сжатым ртом.
Даже слов не требовал. Она сразу поняла его. Всей половиной лица смотрел в глаза ей и хотел сам угадать без ошибки.
Она поняла это сразу.
И улыбнулась. Еле-еле.
Снова принялась греть его руки, взяла их в ладони и дышала, дышала своим теплом.
Потом нагнулась к нему, чтобы лучше слышал. Покачала головой:
– Нет… Серых, зеленых – сколько хочешь. Синего нет. Нету синего.
– Спасибо… ма…
Улыбнулся он или ей только показалось? Теперь она могла выпрямиться. Выпрямилась, посмотрела в окно и вздрогнула. Там цвела сирень. Красная, буйная, как самой лучшей весной. Она зажмурилась.
Не могла понять, почему этой весной сирень цветет такая красная?
Потому что твой ребенок?
Сам, своими руками?
Винцаса – Винцас, сын Винцаса?
– Нет, – ответила она. – Он уже не первый.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Времени теперь было вдоволь. Ну, разве что в город, в больницу сбегать. Долго ли… Времени было вдоволь.
Продала овцу. Выбралась на базар с детьми. Они еще прижимались, гладили курчавую шерсть. Жалко. Еще бы не жалко. Привыкает человек и к собаке, и к кошке, и к жабе пучеглазой.
Все-таки продали, и, кажется, неплохому человеку. Не зарежет, видно, присматривать будет. Все про шерсть справлялся: хороша ли?
Вот и купили козу. Наконец…
Тут уж свои радости пошли.
Римукас помогал матери тянуть за веревку.
Виктукас шел, держа за рога.
А Таня то летала вокруг, то обгоняла их и скакала задом наперед, как через веревочку, хлопая в ладоши.
Теперь и молоко будет.
Молоко!
Детям, может, по полстакана.
Винцукасу – полный.
Ему поправляться надо, быстрее на ноги вставать. Козье молоко густое, жирное.
И впрямь, молодец козочка. Два с половиной стакана как отмерила. Но зато какое! Сколько жира в нем! Густое, как сметана. Только глянешь на него – слюнки текут.
Времени теперь было вдоволь.
А сколько еще будет!
Вот выйдет Винцукас из больницы, может, и винтовку сдаст. Сможет она тогда с детьми сидеть и книжки читать. А то ведь если не посидишь с ними, не присмотришь, так один – стишок не выучит, другой – домашнее задание не приготовит. Веселее им, что ли, когда вместе с ней садятся за большой стол? Теперь уже, конечно, за детьми не поспевает. Вон как далеко ушли! А раньше, когда только-только грамоте учились, и она, бывало, какую-нибудь букву схватит.
Хочешь не хочешь, а пора подумать, кем будет каждый, кем вырастет. Время-то как берега речные. Кажется, и не торопко гребешь, а берега только знай мелькают, знай мелькают.
А потом…
Потом разлетятся, поди.
Кто куда.
Кто куда…
Придет пора, и разлетятся. А что? Твое солнце – на закат, а у них – только подымается, восходит только.
Придет пора – пускай летят.
Лишь бы не раньше времени.
Это птица толкает, выбрасывает детенышей из гнезда. Человек – нет. И руками и крыльями заслоняет гнездо, не хочет, чтобы улетели его птенцы. Но заслоняй не заслоняй. Пора настанет – сами разлетятся. Не убережешь.
Ладно.
Лишь бы не раньше времени.
Так ей хочется. Очень хочется, чтобы так было.
Только не подвластны тебе ни люди, ни жизнь.
Вот стоит она, простоволосая. Стоит и платочком машет. Того, что козу на веревке тянул, проводила.
Вернулись Римантас и Бируте из далекого края. Вернулись – и прямо к ней. А как же иначе? Столько лет. Разве выдержит материнское или отцовское сердце… Раньше письма читала нехотя, все Винцукасу жаловалась. Но вернулись, и принимай гостей. Приняла. Только ребенок смотрит, будто зверек испуганный: силится понять, да невдомек ему, что туг происходит, как обернется все.
Много слов было. Слез много. Радостных.
Уж как хотелось и ей слезу смахнуть. Ой, хотелось! Да нехорошо небось. Что ни говори… Чужая она, верно? А они – родители. Кровные.
В гости приглашали. Тут же, в городе, осели. Она зайдет, а то как же…
Ну, вроде бы и провожать пора. Только все никак не встанет из-за стола, то одним, то другим гостей потчует. Трудно встать. И не диво. Видать, возраст, годы долгие гнетут, не дают подняться.
Все уже на дворе. Уходят. А она опять в избу вернулась и снова вышла, будто забыла что-то.
Потом обняла Бируте, сказала на ухо:
– Мед он любит… У нас-то редко приходилось.
Они уже шли со двора.
– Винцукаса не забудешь навестить? Ну, то-то! Знаю… Это я просто так, – шепнула Римукасу, в последний раз прижимая его к груди.
Вот стоит она, простоволосая. Стоит и платочком машет.
Может, радоваться надо? Ведь теперь на двоих младших лишних полстакана молока будет. Все на несколько глотков больше, верно? Полезное оно, жирное.
А еще? Чем бы еще себя порадовать? Неужто нечем…
Птица сама детенышей из гнезда выбрасывает, а человечьи птенцы и без того разлетаются, разбегаются, как ни заслоняй гнезда крыльями. Не убережешь.
Лишь бы не раньше времени, а?
А кто это время отмерит, кто верный срок укажет?
Вот и снова…
– Нет, – ответила она, – мне не было страшно.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Поздний вечер. Стемнело.
Прибежали Виктукас и Таня. Торопились, знали – влетит, что поздно домой вернулись.
– Мама… Знаешь, где Винцукас?
Где ему быть? Пошел гулять с приятелями.
– На вечеринке!
Ну и что. Пускай посидит с молодежью парень.
– Мама… Не сидит он. Танцует. С такой кудрявой, длинноволосой…
Что ж. Все бывает… Может, и потанцевать время пришло, ведь не мальчик уже.
– Ма… А они, знаешь, что? Она молча ждет.
– Дай на ушко скажем…
Наклоняется к детям, а сердце уже так и тукает.
– Целовались…
– На дворе…
– За кустами… – Целовались…
Она выпрямляется и кричит на детей. Кричит, как будто это они, выйдя во двор, укрылись за кустами и…
– Хорошо это? Красиво? За старшим братом, как хвост, таскаетесь…
Кричит на детей, а сердце – тук-тук.
Она не поджидает Винцаса. Разве дождешься, когда он вернется? Детей спать погнала и сама ложится. Устала, умаялась за день, поспать бы. Но веки не смыкаются, не закрьшаются. Полный месяц так и льется в окно, а она лежит, смотрит вверх и считает потолочины. Одна, две, три… восемь, девять, десять… Побурели доски, вон паутина блестит, надо будет смахнуть завтра. Одна, две, три… Римукаса увели… шесть, семь… теперь на Винцаса кто-то зарится, лапы тянет… десять, одиннадцать, двенадцать. Кажется, дом в чистоте содержит, и откуда здесь паутине взяться? Встала бы сейчас, смахнула, да так славно лежать. Век бы не вставала.
Одна, две, три…
Скрип двери. Осторожные шаги. Боится разбудить. Воротился. Уже поздно, а может, рано. Месяц отошел. Паутина не блестит уже, но потолочины хорошо видны. Восемь, девять… Могла бы встать, подсесть к нему на край кровати и спросить. Да что тут спросишь. Уже мужчина, надо полагать. С ружьем ходил, кровь проливал. А может, сам придет… придет, когда понадобится. Одиннадцать, двенадцать. Побурел потолок. А с чего бы? Вроде и дыму не напускает.
Давно затихли младшие.
Молчит Винцас.
И она ни слова. Многое хотела бы узнать – кто, да как, да почему. Но молчит.
– Здорово, кума! – еще с дорожки кричит человек, поднимая руку.
А-а… Знакомый. Старый знакомый, еще с войны. Бывшего хозяина, того учителя очкастого, двоюродный брат, Лапкаускас.
– Дай, думаю, зайду проведаю, – говорит он, шагая по двору, и руку тянет.
– Немытые у меня… – говорит она и трет ладони о передник.
И молчит.
Как-то раз повстречалась с ним, не так давно. Лапкаускас ныне в город перебрался. Дом построил и живет себе. Работа у него приличная, на лесопилке. Чего ж еще? Землю сдал. Сколько там ее было-то – семнадцать гектаров. И свою сдал, и двоюродного брата. Раз для народа – не жалко. Сразу после войны, еще и разделов никаких не было, пришел в волость и заявил – берите. Хватит с него навоз месить. Пускай другие ковыряются, кому охота. И двоюродный брат, будь он жив, не стал бы спорить. Настоящий советский человек был, царство ему небесное, немца живьем сжег и сам от немецкой пули погиб. Вот и он, Лапкаускас, пока шла война, соединил хозяйства, свое и двоюродного брата. Не бросишь ведь на Божью волю. Дом, скотина, деревья. А теперь не нужно. Слава Богу, отмаялся. Жалко, нет больше Катерины. А то бы рассказала, как они с двоюродным братом укрывали семью советского офицера, не допустили угнать в Германию, как пленного содержали, точно родного, и все такое прочее.
Да что он ей рассказывает. Будто сама не знает? Разве не ее с двумя детьми приютили, когда податься было некуда? Хвастаться здесь нечем, конечно, он и не хвастает. Просто к слову сказать…Не знал он, что ли, какого мальчонку в пастухи берет. Что ли, в кузнице не бывал до войны. Ведь вылитый отец с лица, не ошибешься.
Да. Как-то раз она уже повстречала Лапкаускаса.
Но чего он сегодня заявился – не понять.
Может, опять что-нибудь не так?
Может, в свидетели звать? Не похоже. Веселый из себя.
– Ну, как живете-можете? – спрашивает.
– Спасибо…
Полагалось бы в дом пригласить, как-никак гость…
– А мы и тут посидим, потолкуем, да пойду я, – говорит он, видно поняв ее.
Сели на лавочке под окном.
– Где же Винцас? Где зять-то? – И сам смеется, еще веселее смотрит.
А ей все невдомек – в шутку он, смехом или по правде.
– На работе. В исполкоме.
– Гляди-ка, в большие начальники выбился. А?
– Какой он там начальник…
– Ну-ну! Думаешь, завидую? На здоровье, пускай. Ведь Бог даст, и породнимся вскоре. Лаймуте наша все уши мне прожужжала: «Винцас, Винцас!»
Вот как… Вот оно что… Наконец-то уразумела.
– А что, кума? Чем плоха родня? Мы его от оккупантов, можно сказать, уберегли, немца живьем сожгли. Он за нас после войны сражался, кровь проливал. Разве не герой? Ведь прямо в лоб угодила пуля, а, слава Богу, все равно поднялся. Для кого ж, как не для них, и Советская власть?
Сидит она, смотрит на гостя и думает: до чего же верно все, до чего правильно говорит, как по писаному шпарит.
Вот и «кум» уже объявился. Чем не кум? Можно обняться, поцеловаться.
– Всяк по-своему хорош, – говорит она. – Да нам-то что… Оставим это им, детям. Как сами порешат, так и будет.
– Ну да, ну да! – на лету схватывает Лапкаускас. – Вот и потолковали. Пойду, пожалуй, а то дел по горло. Веранду пристраиваю, большую, стеклянную.
Он вроде бы встает. Только как-то нерешительно, – видно, вертится на языке еще что-то.
– А что, кума… Не важно, конечно, не это важно! А все же, как он, крещеный нет ли?
– Крещеный, – отвечает она. – А что?
– Да нет, ничего! Какая нам разница. Просто взбрело на ум, вот я и…
Теперь уж действительно встал, сует руку прощаться.
– Вот, заговорились… Так и не вымыла, что ты будешь делать, – говорит она и опять вытирает руки о передник. И опять молчит. Из избы выглядывают дети, она зовет их:
– Подите-ка сюда, подите…
Одну голову к одному плечу прижала, другую – к другому. И хочет сказать: «Женится наш Винцас, и останемся мы одни…»
Но не говорит, потому что не об этом думает. Думает о «куме», который только что был, и о Винцукасе, который все никак не придет, не расскажет, не спросит.
Тук-тук-тук.
Винцас на дворе косу отбивает. Только что с работы, сейчас пойдет в овраг травы накосить. А сама она – в огороде. Полоть надо. На минутку только привстала, услышав, что кто-то идет. Привстала, увидела девушку с распущенными волосами и сразу поняла, кто это и к кому. Снова присела на корточки, скрылась между гряд и дальше полет. Не ее гость. К кому пришла, пусть тот и принимает.
Тук-тук-тук.
Чего он там стучит, почему не отложит косу. Не видит, что ли?
Тук. Тук.
– Винцас… – слышит она.
Тук. И снова – тук.
Что же он косу не отложит? Не видит, не слышит?
– Винцас…
– Чего тебе?
– Разве не видишь, какая я…
– Не вижу.
– Посмотри… Посмотри… живот какой…
Тук-тук-тук…
А потом:
– Ну и что?
– Винцас, твой ребенок ведь…
– Откуда мне знать?
– Твой… ты знаешь…
– Не знаю. Ты… не девушка была.
Сидит она в борозде, нагнув голову, а у самой волосы дыбом. Еще коса эта. Хоть бы косу отложил. Тук. Тук. Тук. Не видит, не слышит. Чертополох застрял в ладони, колется, но она никак не может выбросить. Страшно ей, а кого боится – и сама не знает. Винцаса, «кума», эту, что пришла, или себя, сама себя.
Тук. Тук.
– Женись на мне… Отец убьет, не пожалеет.
– Не убьет. – Винцас…
Бренчит отброшенная в сторону коса, гремит, падая на косу, молоток.
– Зря пришла.
Та, видать, молчит. То ли к нему, то ли к столбу прислонившись. Потом снова:
– Убьет. Пожалей меня…
А Винцасов бас, злой, надсадный:
– Ладно, скажи… Скажи… любишь меня? Скажи!
Она подымает голову от земли.
Та, что пришла, и впрямь прижалась щекой к столбу, молчит.
– А может, Стяпонкаса? Гимназиста того, а?
Это Винцас орет, а та отрывается от столба и пятится к дороге.
– Скажи! Любишь меня?
Та все пятится, пятится. Как бы не грохнулась. Пятится, обхватив живот, и что-то шепчет. Не слыхать, но, должно, все то же:
– Женись на мне, Винцас… Женись… И убегает по дорожке на большак.
Тук.
Снова, падая, бренчит коса, гремит брошенный на косу молоток.
– Мама! – зовет Винцас. – Мама! Вот когда мать понадобилась. Поднялась от грядок, подошла.
– Что скажешь? – спросила, глядя в глаза.
– Мама… Я… видишь…
– Ладно. Молчи, – сказала она. – Сама все слышала.
– Мама… Что мне делать?
Мужчина ведь. Говорит басом, с ружьем ходил, кровь проливал. А теперь – мама. Может, мама и виновата, а?
– А ты – сам, – ответила. – Как ум и… совесть тебе велят.
Помолчали.
– Не любит она… Разве сама не видишь?
Она ничего не ответила.
Весь вечер больше не разговаривали.
Ночью, лежа с открытыми глазами, смотрела в потолок, освещенный полным месяцем. Много порыжелых досок. Одна, две, три, четыре… Хотела думать о меньших. Только о меньших. Виктукасу штаны залатать надо. И когда он только успевает. Шей не шей, весь зад как решето. Тане ленты выстирать. Эта одна теперь, как котенок. Девять, десять, одиннадцать. Паутина блестит. То ли новая, то ли так и забыла смахнуть тоща. Новая небось.
За стеной скрипел кроватью Винцас. Затихнет, и снова.
Потом сам пришел.
Приоткрыл дверь, остановился.
– Спишь?
– Нет.
Сел на край постели.
– Не сердись, мама.
– Чего мне сердиться? – Не женюсь я на ней.
– Твое дело.
– Не женюсь. Меня в кусты тащила, а сама другого любила… Она молчала. Потом сказала:
– Ладно, ладно… Ступай. Спать хочется.
И снова одна.
Смотрела на рыжий потолок, на блестящую паутину. И видела себя, как сама, еще молодая, стоит на коленях перед Антанасом, обнимает его ноги.
«Женись на мне, Антанас… Женись…»
Смотрела в потолок. Одна, две, три… До двадцати.
Кололо в левом боку, в плече, и левая рука замлела, как неживая.
– Нет, – ответила она, – это не я смотрела в глаза при фонаре.








