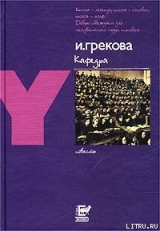
Текст книги "Кафедра"
Автор книги: И. Грекова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ Н. Н. ЗАВАЛИШИНА
После смерти Николая Николаевича наша кафедра словно осиротела. И ведь куда как мало занимался он делами последнее время, а умер – и вышло: без него как без рук. Верней, без души. Какой-то настрой от него шел – высокой духовности, что ли. И еще оглядчивости. Думать над каждым вопросом, прежде чем выразить по нему суждение. Избегать категоричности. Перед тем как судить других, спросить себя: прав ли я сам? Мне лично этой оглядчивости всегда не хватало. Впрочем, может быть, это мне теперь так казалось. При жизни Энэна мне эта его манера казалась нудной.
Место заведующего пока что было вакантно. Исполняющим обязанности (ИО), естественно, назначили Кравцова. Сначала никто не сомневался, что именно он будет заведующим, но потом поползли слухи, что его кандидатуру не хотят утверждать (не имеет, мол, докторской степени) и будто бы ректорат склоняется в пользу другого варианта. Какой-то профессор, доктор со стороны. Фамилия Флягин никому ничего не говорила; Спивак мельком видел его статейку в журнале «Проблемы кибернетики» и отзывался о ней пренебрежительно: «Нормальное изделие на микротему». Но у нас в институте, как и во многих других учреждениях, был хронический дефицит докторов – умирали быстрей, чем размножались. О Флягине рассказывали, будто бы в своем прежнем институте он не ужился по склочности характера, но осведомленность рассказывающих была под вопросом – сведения они получили из третьих рук. Словом, Флягин, был «темной лошадкой», как сказал Маркин. Кравцов был, по крайней мере, привычен, и, пожалуй, лучше бы он оставался заведующим. Сам он как-то по-детски надулся, обиделся на начальство, стал реже бывать на кафедре, делам объявил бойкот. Фактически заведовать кафедрой стала Лидия Михайловна, старавшаяся ни в чем не менять установившихся традиций, с той только разницей, что заседания кафедры проходили теперь деловито, сухо и кратко. Председательствовал кто когда. Казалось бы, чего лучше? А вот затосковали мы по тягучим заседаниям со спящим Энэном за богатырским столом, по его пробуждениям и репликам, по его смутным, загадочным речам.
В общем, неладно было на кафедре. Все еще исправно читались лекции, велись практические занятия, Петр Гаврилович воевал со студентами в лаборатории, но какой-то живой дух выветрился. Мы высыхали, как труп насекомого, – очертания те же, а жизни нет.
Впрочем, может быть, мне это так казалось, потому что первое время после смерти Энэна я оказалась в более тесном общении с ним, чем все предыдущие годы. Дело в том, что Кравцов предложил мне как ближайшей ученице покойного возглавить комиссию по научному наследию Н. Н. Завалишина, и я согласилась. Сколько раз потом я жалела, что согласилась!
Началось с того, что недели через две после похорон ко мне явился Паша Рубакин (второй и, как потом выяснилось, последний член комиссии). Он, крякнув, сгрузил с плеч по рюкзаку. Шел дождь, рюкзаки были мокрые, и от каждого из них натекла на пол маленькая лужа.
– Принес, – сказал Паша словно из глубины незримого колодца.
–Что это?
– Научное наследие профессора Завалишина. Нечто вроде рукописей майя. Я смотрел – ничего не понял. Ножи, ножи… Может быть, это вид идеографического письма? В этих ножах, несомненно, есть идея, только какая? Кстати, рукописи майя были прочтены с помощью машины. Если потребуется составить программу – я готов.
– Спасибо, Паша, – сказала я. – Посмотрю, постараюсь разобраться пока без машины.
Он тряхнул мокрыми волосами, брызгая кругом себя, как отряхивающийся пес. Тут бы ему и уйти, а он все стоял, как будто ждал чего-то. Мое отношение к Паше сложное: смесь антипатии и жалости. Сейчас преобладала жалость.
– Садитесь, Паша, – предложила я. Разговаривать с ним не входило в мои планы, но что поделаешь. Человек принес рюкзаки, трудился.
Он с готовностью сел, вытянув ноги в огромных кедах. Сразу было видно, что коротким разговором не обойдется: он явно настроился на общение. Я со страхом заметила, какие отчетливые рубчатые следы оставил он на паркете – прямо для детективного романа. Страх был перед Сайкиным. Натирание полов – его добровольная обязанность; он же присвоил себе прерогативу делать мне нагоняй за каждое нарушение чистоты…
Тут я мысленно взбунтовалась против власти Александра Григорьевича. Все женщины мне завидуют: «Ах, он вас освободил от хозяйства! Какая счастливая!» Никто не знает, что вместе с заботами я отдала свое право быть хозяйкой в собственном доме. Приглашать гостей с ногами любого размера…
Эти бунтовщицкие мысли одолевали меня, пока я озирала огромные кеды Паши Рубакина и причиненный ими ущерб. Но тут же я опомнилась. Старшенький мой, радость моя! Пусть командует сколько хочет! Должен же он что-то иметь взамен беззаботной юности, которую у него мы с мальчишками отобрали…
– Ну как дела? – спросила я Пашу Рубакина. Он только этого и ждал.
– Собственно говоря, в настоящее время я буквально нахожусь в стадии перелома. Я целиком занят вопросом об отношениях науки и искусства. Мне важно выяснить, являются ли они отношениями мирного сотрудничества, соперничества, конфликта или соподчинения. Это вопрос категориальный. Пока я его не решу, я не могу перейти к следующему.
– А каков следующий? – спросила я, симулируя интерес.
– Вопрос о приоритете морали. Мои лично предварительные мысли сводятся к тому, что гегемоном в научно-технической революции должна быть мораль. Не этика, как полагают некоторые думофилы (я тоже думофил), а именно мораль.
– Простите, не вижу разницы.
– Разница огромна и очевидна. Аморальный поступок и аэтический – разве вы не слышите разницы? Кстати, такого слова «аэтический» нет, я уже справлялся в словарях. Считайте, что я его изобрел.
Я молчала явно неодобрительно, а ему явно не хотелось уходить. Потребность излиться прямо лезла наружу из его непрозрачных глаз.
– Нина Игнатьевна, вы не поверите, но смерть Николая Николаевича была для меня личной трагедией. На кафедре стало пусто, буквально не с кем поговорить на общие темы. Все помешались на специальных. Я в этом плане надеялся на вас.
– А какие общие темы вас интересуют?
Паша оживился:
– Многие. Могу предложить на выбор целую совокупность тем. Например, в последнее время я в упор работаю над новой теорией ощущений. Понимаете, идея в том, что мы ощущаем не одним каким-то органом, а всеми сразу, а кроме того, еще и историей своего организма. В его клетках запечатлеваются воспринятые образы, формируется память тела, вроде памяти ЭВМ на магнитном барабане, или фотопамяти, которую еще предстоит разработать. Все это вместе принято называть душой. Душа резонирует в ответ на сигналы внешнего мира, возникает мысль-чувство, циркулирующая по ячейкам или регистрам памяти. Получается очень цельно. Понимаете, в моей трактовке тело становится духовным, а душа – материальной. Все споры насчет первичности того или другого отпадают – ведь они вытекали из их противопоставления. Что было раньше: курица или яйцо? В моей концепции такого вопроса возникнуть не может: яйцо есть курица, а курица есть яйцо…
Я молчала. Все это было вроде винегрета из кусочков чего-то уже читанного, заправленных майонезом собственного Пашиного мутномыслия…
– Ну что вы на это скажете? – с надеждой спросил он.
– На «это» я ничего не скажу, «этого» просто нет. Вы чего-то там начитались, толком не переварили…
Паша обиделся:
– Я никогда ничего не читаю, предпочитаю мыслить сам. Ну, я вижу, мою надежду на вас придется отставить.
– А вы рассказывали эти свои идеи Николаю Николаевичу? – спросила я.
– Рассказывал в числе многих других.
– И что он сказал?
– Очень интересно. Надо развить.
– Боюсь, он зря вас обнадежил. Простите, Паша, но ваша философия стоит на уровне самого жалкого дилетантизма. Настоящая философия – это наука, ничуть не менее сложная и разветвленная, чем наша с вами математика. Чтобы сказать что-то новое в области философии, надо прежде всего знать, что делали люди до вас, над чем они думали, к каким выводам приходили…
И так далее и так далее. Я сама понимала, что говорю слишком пространно, лекционно и, в общем, неубедительно. Мне казалось, что моими устами говорит Радий Юрьев… Страсть к самодеятельной мысли, если уж она завелась в человеке, уговорами не перебивается. Ей надо дать выкипеть или перебить чем-то равносильным. Хоть бы он влюбился, что ли…
Он смотрел на меня со скептическим неодобрением. Я не унималась:
– Давайте рассуждать по аналогии. Вообразите, что какой-то неуч, понятия не имеющий о математике, придет к нам на кафедру и предложит нам свою теорию оптимального управления. Что мы ему скажем? Пойди, батюшка, сперва поучись, почитай книжки…
Тусклые Пашины глаза зажглись красноватым огнем:
– Это вы так скажете! А я ему скажу: молодец! Только свежий ум, не испорченный образованием, может породить нечто воистину новое…
Словцо «воистину» меня покоробило. Экий пророк в джинсах! Может быть, поэтому я сказала злее, чем хотела бы:
– Вы хвалитесь, что никогда ничего не читаете, но «Отцов и детей» в школе вы поневоле прочли и теперь неудачно подражаете Базарову. Вы крохотный Базаров наших дней, кой-как научившийся программировать. И если вы в самом деле против всякой науки…
– Против! – с готовностью подтвердил Паша.
– …то зачем вы ею занимаетесь? Зачем портите свежие умы студентов образованием?
– Исключительно по слабохарактерности! – радостно сказал Паша. – Я давно говорю, что меня надо гнать из института поганой метлой!
– Погодите до конкурса, – сказала я нелюбезно, – у вас будут все возможности выступить против своей кандидатуры.
– Я уже об этом думал. Беда в том, что я, как молодой специалист, переизбранию по конкурсу не подлежу.
Он мне надоел со своими кедами, спутанными волосами и мутными мыслями ценой в грош. Я в принципе ничего не имею против длинных волос у мужчин, но только когда они чисто вымыты, а Паша мытьем головы не злоупотребляет. Пахло от него, как от мокрой собаки. А главное, толку от нашего разговора не было никакого. Для Паши характерно чувство абсолютного умственного превосходства над любым собеседником; тот ценен, только если ему поддакивает. Я замолчала, ожидая, когда он уйдет. Вместе с раздражением странным образом росла жалость…
Хлопнула входная дверь – пришел Сайкин. «Будет мне на орехи за грязный паркет», – подумала я. Против ожидания Сайкин вошел веселый, любезный, мило поздоровался с Пашей Рубакиным и остановился с выражением детской открытости, редкой теперь на его взрослом лице.
– Паша, познакомьтесь, это мой старший сын.
– Александр Григорьевич, – представился Сайкин, подавая ему руку.
– Павел Васильевич.
– Очень приятно.
– Взаимно. Кстати, Александр Григорьевич, вы не в курсе дела насчет успехов нашей сборной по шахматам?
– Само собой, в курсе.
И завел. Во всех подробностях: кто, когда, с кем, дебют, цейтнот…
В шахматах я, как большинство женщин, ничего не смыслю.
– Ну ладно, беседуйте, а я пока приготовлю вам чай.
«Странная ситуация, – думала я, надевая передник в кухне, – я готовлю Сайкину чай». Обычно не я его, а он меня кормит. Даже теперь, когда мальчики в лагере, я относительно свободна, а у него экзамены. Рассуждая по-энэновски, права ли я?
Готовя чай и делая бутерброды (они, разумеется, падали маслом вниз), я окончательно убедилась, что не права и вообще мерзавка.
Я вошла к молодым людям, катя перед собой псевдоэлегантный столик на колесах для одного-двух гостей (потуга на «красивую жизнь», недавно освоенная нашей мебельной промышленностью, цена сорок пять рублей). Столик был хром и кос, и, пока я его везла, чай выплескивался из чашек. Сайкин сидел, перекинув длинную ногу через ручку кресла. Разговор у них шел весьма оживленный, на этот раз о квазарах и пульсарах. Я поставила перед ними столик и совсем неизысканно стала сливать чай с блюдечек обратно в чашки.
– Спасибо, мать, – небрежно сказал Сайкин. «Ого!» – подумала я, оставила их разговаривать и ушла на кухню, чувствуя себя женщиной и зная свое место. Первый раз я ощутила не разумом, а чувством, что Сайкин мужчина и, возможно, скоро уйдет от меня в свою мужскую жизнь, женится, заведет семью… Хорошо будет его жене, но мне без него будет плохо…
Паша Рубакин ушел около одиннадцати, полностью очаровав Сайкина (чем?) и пообещав заходить еще, очевидно уже к нему, не ко мне.
– Маленький, ложись спать, – сказала я Сайкину, – завтра у тебя трудный день.
И в самом деле день предстоял ему трудный: экзамен по физике. Привстав на цыпочки, я поцеловала своего «маленького». Он снисходительно ответил мне поцелуем.
– Спокойной ночи, мама.
Оставшись одна, я взялась за рюкзаки. Они были слегка влажны и так тяжелы, будто набиты кирпичом или железом (интересно, что самое легкое, бумага, оборачивается самым тяжелым, когда ее много). С волнением, я стала просматривать их содержимое. Бумаги, бумаги, бумаги, – разных форматов, разного цвета и качества. Одни были собраны в папки, другие сколоты, третьи просто навалом. Ни нумерации, ни дат. Попадались среди них и тетради – школьные, клеенчатые, канцелярские. Все это пахло пылью и тленом, и все это мне предстояло разобрать, привести в порядок… У меня даже сердце заныло. Всего неприятнее показалось мне обилие рисунков, а именно ножей, прекрасно исполненных. Только подумать, кроткий Энэн, мухи не обидит – и вдруг наедине с собой ножи…
Было поздно. Я вспомнила, что утро вечера мудренее, открыла платяной шкаф и выгрузила содержимое рюкзаков на нижнюю полку. Легла я спать с ощущением чужого присутствия в комнате. Во сне я видела Энэна, который стоял возле шкафа, раскрыв дверцу и наклонясь над своим наследием. Я ему сказала: «Слава богу, теперь вы сами займетесь своими ножами». Он выпрямился, покачал головой и ушел сквозь стену.
На другой день с утра я начала разбирать бумаги. Последующие несколько месяцев я их разбирать продолжала. Работа, прямо сказать, не из легких. Иногда у меня просто опускались руки. Почерк у Энэна всегда был неразборчив и мелок, а за последние годы еще умельчился и как бы усох. Судя по почерку, все доставшиеся мне бумаги относились именно к последним годам. Но дело не в почерке.
Естественно, в первую очередь я взялась за материалы научного содержания. В наследии было много листов, сплошь покрытых формулами, со скупыми словесными вставками вроде «но учитывая (27)», «таким образом», «откуда» и т. п. Читать такие тексты мы, профессионалы, уже привыкли, но, говоря откровенно, это всегда неприятно по интенсивности умственных усилий, требующихся для их преодоления. Каждый переход как перевал. Может быть, для меня чтение математических текстов потому так неприятно, что я бездарна? Но я говорила со многими товарищами, и все они честно признаются: тяжело. Здесь нужно не просто читать, а проделывать вслед за автором все его преобразования, проверять их на бумаге, воспроизводя опущенные подробности. Особенно меня бесит, когда какой-нибудь мудреный фортель сопровождается словами «легко видеть, что…»: тут-то и просидишь иной раз целых полдня, пытаясь «увидеть». Нелегко бывает объяснить каторжность нашей работы гуманитарию. Читать научный текст в любой области нелегко, требуется усилие, но у нас нужно, так сказать, другое усилие…
В общем, взялась я за чтение энэновских материалов с естественной неохотой, преодолевая себя. К моему удивлению, читать их оказалось совсем нетрудно – все было действительно «легко видеть». Слишком легко… Читая эти листы, я, к своему огорчению, не смогла найти в них почти ничего нового. Автор, по-видимому, только перепевал, повторял самого себя. Сплошняком шли друг за другом излишне подробные скучные выкладки. Старомодная манера писать не в компактной матричной, а в скалярной, развернутой форме придавала им видимость объема при почти полном отсутствии содержания. Все это было похоже на мыльный пузырь, но без его блеска. Иногда на полях попадалось восклицание типа «боже, какая ерунда!» или «стыд и позор!», из которого видно было, что и сам автор на свой счет не очень-то обольщался…
Дни шли за днями, но ничего мало-мальски интересного мне обнаружить не удавалось. Это были, в сущности, его старые работы, иногда с ничтожными, кстати совершенно ненужными, обобщениями. Формулы, видимо, писались с той же автоматичностью, с какой рисовались ножи…
Помню, Леля рассказывала мне про известное в медицине явление фантомных болей, когда у человека остро, мучительно болит ампутированная конечность. Она это рассказывала в связи со своим отношением к бывшему мужу.
Теперь по какой-то (может быть, обратной?) ассоциации я вспомнила о фантомных болях, разбираясь в попытках Энэна творить. Ощущение творчества не забыто, но основа, где оно зарождается, отсутствует.
В конце концов, прочитав внимательно все отрывки, заметки и пробы, составлявшие «научное наследие профессора Завалишина», я пала духом. Публиковать тут, собственно, нечего.
А ведь какой был талантище! Феномен, раритет. Место ему было бы в какой-нибудь научной кунсткамере. Ни у кого я не встречала такого быстрого восприятия, такого своеобразного, яркого хода мысли. «Научный ферзь, – говорил о нем Лева Маркин, – мы все перед ним пешки». Надо было самому поломать голову над какой-нибудь упрямой проблемой, чтобы по достоинству оценить неожиданный блеск и грацию, с которой ее разрешал Энэн.
Больше всего меня в нем поражало полное отсутствие инерции, постоянная готовность включить мысль. Мы, обыкновенные люди, медлим перед умственным усилием, как купальщик, перед тем как войти в холодную воду. Энэн прыгал в мысль вниз головой.
Все мы, его сотрудники, привыкли думать, что мы – это одно, а он – совсем другое. Он, как говорил тот же Маркин, «произошел от другой обезьяны».
В свое время он дал мне тему кандидатской диссертации. Я сделала что могла, принесла ему. Он прочел, похвалил, но сказал: «Здесь можно было бы обойтись аппаратом попроще». Взял ручку и за четверть часа, играя, набросал на трех страницах то, что у меня заняло сто двадцать…
Помню ощущение раздавленности, с каким я от него ушла. Разумеется, свои сто двадцать страниц я уничтожила. Но его драгоценные три сохранила. Оказалось, что здесь он нечаянно изобрел совсем новый метод, который был применим далеко за пределами моей ограниченной темы. От нее, опостылевшей, я обратилась к другой и, пользуясь методом Энэна, за год написала работу, которая, пожалуй, тянула на диссертацию. Надо было принести ее на суд научного руководителя. Но тут как раз умерла Нина Филипповна; Николай Николаевич, сожженный горем, стал для меня недоступен, как и для всех других. Он начал заикаться, смотрел сквозь людей. На мои робкие просьбы посмотреть диссертацию он отвечал: «Да-да, как-нибудь займемся» – и даже как будто стал меня избегать.
Тем временем на факультете меня торопили с защитой (занимая должность доцента, я не имела ученой степени). Я поступила, пожалуй, правильно (хотя в какой-то мере и беспринципно), оставив Энэна в покое. Без него подобрали оппонентов, разослали автореферат, получили отзывы (сплошь положительные). Разумеется, в тексте я ссылалась на то, что метод был предложен моим научным руководителем, но все дружно превозносили меня именно за метод! Защитила я удачно, прошла единогласно, но чувство неудовлетворенности и неясной вины меня не покидало. На моей защите Энэн присутствовал, выступил и тоже меня превознес, особенно за самостоятельность. Из его выступления было ясно, что диссертации он так и не читал, а о своей идее, положенной в ее основу, начисто забыл. У меня на всю жизнь осталось сознание, что я в каком-то смысле его обокрала, а он даже не заметил – так был безмерно богат!
Не только я, все мы, его сотрудники, были уверены, что его внутренние кладовые неисчерпаемы. То, что за последние годы у него почти не было публикаций, мы объясняли тем, что он работает над какой-то сверхважной проблемой и не торопится предать гласности результаты, которые, несомненно, составят эпоху в науке. Мы – это старожилы кафедры, знавшие Энэна в эпоху его расцвета. Молодые были склонны над ним подшучивать, но, гладя на нас, проникались почтением.
Что ж оказалось? Наследия нет, как говорится, «пустое множество». Я терпеливо продолжала поиски, не теряя надежды набрать материала хоть на скромный посмертный сборник.
Однажды мое внимание привлекли как будто знакомые формулы; в других обозначениях я не сразу их узнала. Вчиталась, вдумалась и убедилась, что Энэн (разумеется, без умысла) воспроизвел в своих попытках творить какие-то фрагменты моей диссертации. Меня он тогда не слушал, отзыв написал, не читая работы, во время защиты спал… Возможно, тут было нечто вроде гипнопедии (обучения во сне)? Нет, скорее всего, к этим вещам он пришел самостоятельно, от меня независимо. Раньше меня или позже? Это установить было уже невозможно. Если раньше, то я совершила невольный плагиат.
Одна из самых грустных вещей, встречающихся в научной работе, – нечаянное пересечение результатов. Человек работает над проблемой иной раз годами, а потом оказывается, что его результаты уже кем-то получены. У нас это называется «потоптали пастбище». Тот, чье пастбище потоптали, старается держаться молодцом, берется за новую тему. В моем случае было неясно, кто чье пастбище потоптал (и к тому же только участок, а не все пастбище), но мне было тяжело и горько… Главным образом потому, что Энэн, всегда стоявший надо мной в недосягаемости, здесь оказался вровень со мной… Признаваться в моем открытии не имело смысла (это походило бы на то, как иногда студент приходит к экзаменатору с просьбой снизить оценку; такие чудаческие акции редко, но бывают). Так или иначе, публиковать найденное смысла не имело.
Итак, на посмертный сборник, как ни крути, материала не набиралось. Слава богу, на кафедре меня не торопили. Кравцову было не до меня с моей комиссией: он уже трещал крыльями, подыскивая себе другую работу. А я долгими часами все сидела и сидела над бумагами профессора Завалишина…
Дело в том, что в этих бумагах наряду с научными заметками я нашла записи совсем другого рода. Разрозненные, недатированные, неопределенные по жанру – нечто среднее между дневником и мемуарами, – они привлекли мое внимание остро и как-то болезненно. В этих записях Энэн беседовал с самим собой, размышлял, недоумевал, обращался к прошлому – особенно упорно к детству. Записи были различны по объему, тематике, интонации. Встречались более или менее связные, в несколько страниц; были и совсем небольшие отрывки, две-три строки, потонувшие в ножах; их трудно было датировать даже приблизительно. Была серия записей на темы педагогики высшей школы, образования и воспитания. Может быть, кое-что из этой серии можно будет включить в сборник?
Читать чужие интимные записи (особенно близкого человека, а Энэн был мне все-таки близок!) интересно, но и стыдно, как будто подглядываешь в замочную скважину. Все время, пока я разбирала записи (иногда с лупой – так это было слепо написано!), меня мучило чувство неловкости и вины. Хотя по своему положению я была не только вправе, но и обязана читать все. Паша Рубакин не раз предлагал мне свою помощь, но я ее с самого начала отвергла, и хорошо сделала.








