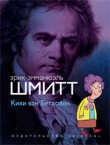Текст книги "Людвиг ван Бетховен. Его жизнь и музыкальная деятельность"
Автор книги: И. Давыдов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Когда симфония вышла из печати, на ней стояло: “Simfonia eroica composta per festeggiare il sovveniro d’un gran uomo”, то есть “Героическая симфония, сочиненная для прославления памяти великого человека”. Она была посвящена Лобковицу. О Наполеоне он не хотел более слышать; когда известие о его смерти пришло в Вену, Бетховен только саркастически заметил, что он уже давно написал подходящую музыку для этой катастрофы, именно траурный марш в Героической симфонии.
Несмотря на величайший интерес, возбужденный этой симфонией, она при ее появлении осталась непонятою не только публикой, но и ближайшими друзьями Бетховена. При первом исполнении у князя Лобковица симфония потерпела полнейшее фиаско.
Критика отнеслась недружелюбно к этой “широкой, смелой, но дикой фантазии”. Она находила в ней, несмотря на некоторые достоинства, слишком много резкостей и странностей, затрудняющих понимание сочинения и мешающих его цельности. Таково же было и мнение публики. И много прошло лет, пока было оценено и понято это первое из величайших бетховенских творений.
Тот же героический дух, который веет в третьей симфонии, вдохновлял Бетховена при создании следующего его произведения, его единственной оперы “Леонора” (или “Фиделио”). Написать оперу было его давнишним желанием. Но исполнению этого желания препятствовало, с одной стороны, отсутствие подходящего либретто, а с другой – то, что он, вынужденный зарабатывать средства к жизни своим искусством, не мог отдаться такому большому труду, не имея уверенности относительно постановки оперы на сцене. Наконец в том же году, когда окончена была “Eroica”, он получил от дирекции театра “An der Wien”[5]5
“У Вены” (нем.)
[Закрыть] предложение написать оперу; либретто скоро было найдено, и Бетховен с любовью и увлечением принялся за дело.
Содержание вдохновившего Бетховена либретто следующее:
Благородный испанский дворянин Флорестан находится во вражде с губернатором-деспотом Пицарро. Когда Флорестан хочет разоблачить перед министром злодеяния губернатора, Пицарро велит схватить его и бросить в тюрьму, где смелый испанец должен умереть голодной смертью. Жена Флорестана, Леонора, решает спасти его во что бы то ни стало. Ей, переодетой в мужской костюм, удается под именем Фиделио поступить в услужение к тюремщику Рокко и заслужить его доверие. Но Фиделио, к своему отчаянию, делается предметом страсти дочери Рокко, Марцелины, и возбуждает ревность в женихе ее, Жакино. Старый Рокко не прочь видеть в Фиделио зятя. Все это усложняет положение Леоноры. Но вдруг приходит весть, что сам министр находится в пути, чтобы лично осмотреть тюрьму. Пицарро решает немедленно, до приезда министра, умертвить своего пленника. Он велит Рокко вырыть могилу в самой тюрьме, и в этом деле Рокко помогает Фиделио, не зная, для кого предназначается могила. Получив от Рокко разрешение утолить голод и жажду несчастного перед его смертью, она приближается к Флорестану и тут узнает его. Для приведения в исполнение своего зверского намерения является Пицарро, но Леонора с оружием в руках бросается между мужем и его притеснителем. В этот момент входит министр, который освобождает Флорестана и чинит суд и расправу над Пицарро. Все кончается прославлением справедливости министра и всеобщей радостью.
На этот сюжет, увлекший его своей идеей, Бетховен написал музыку. Она была сочинена в течение весны и лета 1805 года, и в ноябре того же года опера в первый раз появилась на сцене. Это первое представление состоялось при самых неблагоприятных условиях. Незадолго перед тем французская армия вступила в Вену; большинство лиц высшего круга, в том числе многие из друзей Бетховена, покинули город; в театре присутствовали почти исключительно французские офицеры; само представление прошло неудовлетворительно – оркестр восстал против композитора из-за страшной трудности исполнения его произведения. Оперу приняли с ледяной холодностью, и после трех представлений Бетховен взял обратно свою партитуру. Можно представить себе, какое впечатление произвел на него этот окончательный провал произведения, над которым он работал с такой любовью и увлечением! Он приписывал это проискам и интригам своих врагов. Увлеченный симпатичной идеей, Бетховен не замечал неблагодарности сюжета, лишенного всякого единства и сценического движения. Нужен был поистине тот искренний жар, с которым композитор отнесся к своему детищу, чтобы растопить лед всех бессвязных арий, дуэтов и ансамблей, из которых склеено либретто.
Возвратившиеся в скором времени друзья, сумевшие оценить все музыкальные достоинства этой оперы, посмотрели на дело правильно и стали настаивать на необходимости некоторых переделок и сокращений. По этому поводу у князя Лихновского было целое заседание, в котором принимали участие, кроме самого Бетховена, княгиня, граф Лихновский, Стефан фон Брейнинг, капельмейстер и режиссер театра, а также некоторые певцы. Княгиня играла на фортепиано по партитуре, капельмейстер подыгрывал на скрипке, а певцы пели свои партии. Хотя друзья и были подготовлены к предстоящей буре, но они никогда не видели Бетховена в таком возбужденном состоянии, и без просьб и молений его “второй матери”, княгини Лихновской, из их предприятия ничего бы не вышло. Но когда наконец общими стараниями удалось заставить его пожертвовать тремя номерами и все измученные и голодные накинулись на ужин, то не было человека счастливее и веселее Бетховена.
За переделку текста взялся Брейнинг, и Бетховен с большой охотой приступил к делу, изменив и переделав многое вновь. В исправленном виде опера имела больший успех, но все же скоро была снята со сцены.
В истории развития оперной музыки “Леонора” не имеет особого значения и по направлению ничем не отличается от опер Моцарта. Но отдельные номера ее обнаруживают такую мощь выражения и такую искреннюю, сильную драматическую жизнь, что оставляют далеко за собою произведения предшественников Бетховена. На истинно недосягаемой высоте стоит увертюра к “Леоноре” (известная теперь под № 3), содержащая в себе весь внутренний пафос драмы и представляющая как бы самостоятельную симфоническую поэму на сюжет оперы. Через много лет Бетховен вновь принялся за свою любимую оперу; она опять овладела им всецело и опять, как мы увидим ниже, принесла ему только огорчение.
Здесь заканчивается период юношеской деятельности Бетховена; жизнь уже вылепила из него зрелого человека, а работа над двумя монументальными произведениями этого периода (“Eroica” и “Leonora”) позволила ему стать недосягаемым мастером в его искусстве. Эти последние годы лучше всего характеризуются выпиской, сделанной им из сочинения “Рассуждения Христиана Штурма”:
“Я восхваляю Твою благость за то, что Ты испытал все средства, чтобы поднять меня к Тебе. Ты захотел дать мне почувствовать гнев Свой и посредством тяжких испытаний смирить мое гордое сердце. Ты послал мне болезнь и печаль, чтобы заставить меня постичь грехи мои. Об одном прошу Тебя, Боже: не переставай исправлять меня согласно воле Твоей”.
Бетховен был мужчина небольшого роста, невзрачный, с некрасивым красным лицом, изрытым оспой. Его темные волосы вихрами падали на лоб; его одежда была отнюдь не изысканна. Он говорил на местном наречии, иногда употребляя простонародные выражения. Вообще он не обладал внешним лоском и скорее был грубоват в движениях и обхождении. Прежде чем войти в комнату, он обыкновенно сперва просовывал голову в дверь, чтоб убедиться, нет ли в ней кого-нибудь, кто ему не по душе.
Обыкновенно серьезный, Бетховен иногда делался неудержимо веселым, насмешливым и даже язвительным. С другой стороны, он был искренен, как дитя, и до того правдив, что нередко заходил слишком далеко. Он никогда не льстил и этим нажил себе много врагов.
В своих движениях он был неловок и неповоротлив. Редко он брал что-нибудь в руки, чтобы не уронить и не разбить. Часто ему случалось ронять чернильницу с конторки, на которой он писал, на стоящее рядом фортепиано; все было у него опрокинуто, запачкано, разбросано. “Как он ухитрялся сам бриться, – рассказывает Рис, – остается непонятным, если даже принять во внимание бесчисленные порезы на его щеках”. Он никогда не мог выучиться танцевать в такт.
В молодые годы он одевался элегантно и держался в обществе светским человеком, но с течением времени перестал заботиться о своем костюме и нередко доходил до неряшливости.
С рассвета и до полудня время Бетховена было посвящено механической письменной работе, остаток же дня уходил на размышление и приведение в порядок задуманного. После обеда он срывался с места и совершал свою обыкновенную прогулку, то есть как одержимый обегал раза два вокруг всего города. Он никогда не выходил на улицу без нотной записной книжки – это было его правилом, причем он пародировал слова Жанны д’Арк: “Я не могу явиться без моего знамени”.
В его комнате царствовал неописуемый беспорядок. Книги и ноты бывали разбросаны по углам, здесь стояла холодная закуска, там – закупоренные или пустые бутылки, на пульте были наброски нового квартета, на столе – остатки завтрака, на фортепиано – только что намеченная новая симфония, на полу – письма, деловые и от друзей; и несмотря на это великий человек любил с красноречием Цицерона прославлять при всяком удобном случае свою аккуратность и любовь к порядку. Только когда часами, днями, а иногда и неделями приходилось искать что-нибудь нужное, начинались уже совсем другие речи и все сваливалось на окружающих. “Да, да, – слышались его жалобы, – это несчастье! Ничто не может остаться на том месте, куда я положил; все без меня перекладывают, все мне делают назло, о люди, люди!” Прислуга знала добродушного ворчуна: ему давали наворчаться вдоволь, и через несколько минут все забывалось, пока снова не повторялась подобная же сцена.
Бетховен не придавал никакого значения своим рукописям: они валялись вместе с другими нотами на полу или в соседней комнате. Друзья часто приводили в порядок его ноты, но когда Бетховен что-нибудь искал, то все снова разлеталось во все стороны. “Их легко было и украсть, и выпросить у него – он не задумываясь отдал бы”, – говорит Рис.
Великий человек не имел никакого понятия о деньгах, отчего, при его врожденной подозрительности, происходили частые недоразумения и он, не задумываясь, называл людей обманщиками; с прислугой это кончалось благополучно – даванием “на водку”. Его странности и рассеянность стали скоро известны во всех посещаемых им трактирах, и его не тревожили, даже если он забывал расплачиваться.
Бетховен был до крайности вспыльчив. Раз во время обеда в трактире кельнер ошибкой дал ему не то кушанье. Бетховен сделал ему замечание – кельнер позволил себе грубо ответить, и в ту же секунду все блюдо, полное соусу, полетело кельнеру на голову, у кельнера в руках было еще несколько блюд, так что он не мог защищаться. Оба они начали кричать и браниться, между тем как окружающие не могли удержаться от смеха. Наконец сам Бетховен не выдержал и разразился громким хохотом, взглянув на кельнера, которому среди брани приходилось облизывать струившийся по всему лицу соус, причем он строил уморительные гримасы.
В дирижерстве Бетховен далеко не мог считаться образцом, и оркестр должен был постоянно находиться настороже, чтобы не сбиться, так как все внимание капельмейстера было исключительно обращено на исполняемое сочинение и он усиленно старался разными телодвижениями передать оркестру свои желания относительно характера произведения; при diminuendo он делался все меньше и меньше, а при pianissimo скрывался совершенно под пультом; во время crescendo он постепенно вырастал, как бы из-под земли, а при fortissimo весь вытягивался, делался почти великаном и так широко и мерно размахивал руками, точно хотел улететь. Он не принадлежал к числу тех упрямых композиторов, которым ни один оркестр в мире не может угодить, и иногда бывал слишком снисходителен. Когда он замечал, что оркестр проникался его идеями, одушевлялся и играл с увлечением, то лицо его просветлялось, в глазах выражалось удовольствие, губы складывались в приветливую улыбку и раздавалось громовое “браво!”. Если иногда, в особенности в скерцо его симфоний, при неожиданной перемене счета оркестр расходился, то он обнаруживал детскую радость и разражался громким хохотом. “Я это так и знал, – восклицал он. – Я уже заранее предвкушал удовольствие выбить из седла таких опытных наездников”.
Бетховен чрезвычайно неохотно фантазировал в обществе. Он часто жаловался Вегелеру, как его расстраивает такое, по его выражению, “рабское занятие”, и Вегелер сообщает, к каким хитростям ему случалось прибегать, чтоб принудить Бетховена к игре.
“Я старался успокоить его и рассеять разговором; когда я достигал этого, то умолкал и садился на стул перед письменным столом, а Бетховен принужден был, если хотел продолжать разговаривать, сесть на стул у фортепиано. Скоро он, сидя вполоборота, брал одной рукой два-три аккорда, и постепенно из них развивались чудные мелодии. О, как я жалел, что не мог их увековечить. Я ставил иногда перед ним, как бы без умысла, нотную бумагу, чтоб иметь его манускрипт; он исписывал ее, но затем складывал и прятал к себе. Про его игру я не смел ничего говорить или говорил очень мало, как бы мимоходом. Он уходил тогда совсем в другом настроении и возвращался ко мне охотно. Но его отношение к игре в обществе оставалось прежним и было нередко источником разлада с его друзьями и покровителями”.
Вот что передает ученица Бетховена, баронесса Эртман: “Когда у меня умер последний ребенок, Бетховен долгое время не мог решиться прийти к нам. Наконец однажды он позвал меня к себе; когда я вошла, он сел за фортепиано и сказал только: “Мы будем говорить с вами музыкой”, после чего стал играть. Он все мне сказал, и я ушла от него облегченная”.
Раз на одном музыкальном вечере исполнялся его квинтет с духовыми инструментами. В последнем allegro перед повторением темы встречались ферматы (остановки). Во время одной из них Бетховен начал внезапно фантазировать. Другие исполнители были в самом забавном положении; ежеминутно ожидая своих вступлений, они беспрестанно подносили инструменты к губам, затем опускали их. Наконец Бетховен был удовлетворен и снова перешел к последней части. Все общество было совершенно очаровано.
Бетховен также очень не любил упражняться, когда знал, что его слушают. Одно время он жил в доме, часть которого занимала семья венского адвоката, причем у них был общий вход. Жена адвоката часто подолгу простаивала у двери Бетховена, слушая его игру. Раз он неожиданно отпер дверь и очутился с ней лицом к лицу. С тех пор он больше не играл. Дама, узнав только теперь о его щепетильности в этом отношении, извинялась перед ним и даже устроила другой вход к себе в квартиру. Все было напрасно. Бетховен больше не играл.
Свои сочинения он исполнял очень своенравно. Иногда играл не совсем точно, прибавляя ноты и украшения; вообще в его исполнении было много жизни и выражения. Но так как у него никогда недоставало терпения разучивать, то исполнение зависело от случая и его расположения; в певучих вещах и adagio он был неподражаем.
Во время одной из прогулок с Бетховеном Рис завел речь о не дозволенном теорией музыки последовании двух чистых квинт, попадающемся в одном из его квартетов. Бетховен спросил: “Кто же их запрещает?” – “Все теоретики”, – отвечал Рис. “Ну, так я их разрешаю”, – возразил Бетховен.
Когда ему однажды сказали, что он единственный человек, не написавший ничего малозначащего или слабого, Бетховен воскликнул: “Да как же, черт возьми! Многое я взял бы охотно назад, если б мог!” Сочиняя, он часто присаживался за фортепиано и при этом пел. Голос его был ужасен. В Вене Бетховен брал уроки игры на скрипке и даже исполнял свои сонаты, причем в своем увлечении часто не замечал, когда играл фальшиво.
Интересна встреча Бетховена с известным в то время виртуозом, пианистом Штейбельтом. Штейбельт, приехав в Вену, встретился впервые с Бетховеном на одном вечере, где Бетховен играл свое трио B-dur, op. 11. Штейбельт слушал игру Бетховена небрежно и обошелся с ним свысока; затем он сыграл квинтет своего сочинения и произвел фурор разными техническими фокусами. Бетховена нельзя было заставить более играть.
Через неделю он снова встретился со Штейбельтом на музыкальном вечере. Штейбельт, после нескольких вещей, сыгранных им с успехом, начал импровизировать на тему (с вариациями) из бетховенского трио. Импровизация была, видимо, заучена и подготовлена. Это вывело Бетховена из себя. Теперь он должен был фантазировать. Он направился своей неуклюжей походкой к фортепиано, мимоходом взял ноты для виолончели из квинтета Штейбельта, поставил их перед собою вверх ногами и одним пальцем пробарабанил себе оттуда несколько нот в виде темы. Задетый за живое и возбужденный, он фантазировал так чудесно, что Штейбельт еще до конца его игры оставил залу. Больше они не встречались, и Штейбельт, когда его приглашали куда-либо, ставил даже условием, чтобы не было Бетховена.
Глава V. Пятая и Шестая (пасторальная) симфонии
Четвертая симфония. – Другие сочинения. – Материальное положение. – Письма к “бессмертной возлюбленной”. – Графиня Тереза Брунсвик. – Пятая симфония. – Шестая (Пасторальная) симфония. – “Академия”. – Приглашение короля Вестфальского. – Пожизненная рента. – Мечты о семейной жизни. – Тереза Мальфати. – Седьмая симфония. – Беттина Брентано. – Свидание с Гете. – Восьмая симфония. – Амалия Зебальд. – Настроение
Период творческой деятельности Бетховена, открывшийся Героической симфонией, поражает не только величием созданных в это время творений, но и удивительной многочисленностью их; ни напряженная работа, ни внутренняя борьба, ни житейские невзгоды не только не действовали угнетающе на его творческую силу, но, напротив, усиливали ее проявление.
После бесконечных хлопот и неприятностей с “Фиделио”, летом, во время пребывания в имении друга своего графа Брунсвика, Бетховен создал свою светлую, по выражению Шумана “гречески стройную”, четвертую симфонию, в которой он как бы отдыхает от пережитых бурь и где эти бури являются лишь далеким воспоминанием.
Здесь же была написана представляющая полный контраст с четвертой симфонией знаменитая страстно-возбужденная фортепианная соната ор. 57, известная под названием “Appassionata”, которая по выразительности и единству настроения имеет мало себе подобных. Бетховен долгое время считал ее лучшей из своих сонат. Она посвящена графу Брунсвику.
В этом же году сочинены знаменитые “квартеты Разумовского” (с русскими темами), в которых с удивительной простотой изложения соединена неизмеримая глубина содержания.
Может быть, ни одно произведение Бетховена не имело при своем появлении такого холодного приема, как эти теперь столь популярные квартеты. Когда Шупанциг в первый раз играл их, то все смеялись, думая, что это шутка. На музыкальном вечере у фельдмаршала графа Салтыкова в Москве знаменитый виолончелист Бернгардт Ромберг, схватив партию виолончели этих квартетов, бросил ее на пол и стал топтать ногами как недостойную мистификацию. Также и в Петербурге, на вечере у тайного советника Львова (отца автора русского народного гимна), исполнение квартетов вызвало только неудержимый смех у многочисленной блестящей публики. Критика отнеслась к квартетам тоже недружелюбно, как и к четвертой симфонии, про которую писали, что она может понравиться “только самым яростным, слепым поклонникам Бетховена”, таким, “которые найдут гениальным, если он разольет чернильницу на лист нотной бумаги”.
Но мы уже видели, что Бетховена не могли смутить ни нападки критики, ни холодный прием публики. Он и теперь продолжал творить с твердым сознанием своей цели. За названными сочинениями вскоре последовали энергическая увертюра к трагедии Коллина “Кориолан”, про которую современники говорили, что Бетховен изобразил в ней самого себя, первая месса (C-dur), третья увертюра к “Леоноре” (помеченная впоследствии ор. 138 и написанная для предполагавшейся, но расстроившейся постановки его оперы в Праге) и наконец пятая симфония. Все это (не считая еще нескольких более мелких вещей) было окончено в течение одного года (1807), исполненного всевозможных волнений, надежд и разочарований.
Неопределенность материального положения Бетховена, полная зависимость его в этом отношении от продажи своих сочинений были для него всегда очень тягостны. Совершенно не знавший цены деньгам, витавший всегда в высших сферах, при необузданности и непостоянстве своих желаний, он тратил гораздо больше, чем получал, и должен был подчас обращаться за помощью к друзьям. Нередко он обращался и к братьям; но у него с ними по этому поводу происходили такие безобразные сцены, что Бетховен иногда надолго прекращал с ними всякие сношения. Теперь, когда усиливающаяся глухота сделала почти невозможным преподавание, ему приходилось особенно плохо, и он стал усиленно искать какого-нибудь постоянного места или большой работы, способной поправить его дела. Неуспех оперы “Фиделио”, обманувшей его надежды и с материальной стороны, не смутил Бетховена, и мечта написать оперу не покидала его. Он все искал подходящее либретто и даже начал писать оперу “Макбет”. Воспользовавшись переменой дирекции в театре, он обратился туда с предложением принять его на службу, причем за 2400 флоринов и бенефис обязывался ежегодно представлять одну новую большую оперу, одну малую оперу и все случайные пьесы, которые понадобятся. Предложение его не было принято.
Это несколько охладило его оперный пыл, и он с удовольствием принял заказ князя Эстергази написать для него мессу (обедню). Месса была исполнена во время торжественного богослужения во дворце князя и – не понравилась. Когда после окончания исполнения Бетховен подошел к князю, то этот последний встретил его восклицанием: “Но, дорогой Бетховен, что вы такое там опять написали?” Впечатление, произведенное на композитора этими ироническими словами, усилилось насмешливой улыбкой стоявшего рядом княжеского капельмейстера, известного Гуммеля (заменившего престарелого Гайдна). Это обстоятельство послужило поводом к долголетней вражде между Бетховеном и Гуммелем. О князе Эстергази Бетховен с тех пор не хотел и слышать.
Масса договоров с издателями, приведение в порядок для печати разных мелких пьес и аранжировка некоторых сочинений прежних лет указывают на то, что Бетховен в это время заботился об обеспечении своего материального положения.
На первый взгляд такие “земные заботы” представляются совершенно несовместимыми с характером Бетховена, простого и невзыскательного во всем, что касалось потребностей его повседневной жизни. Но мы имеем объяснение этого кажущегося противоречия. Бетховен любил, был любим и надеялся на то, что всегда составляло его заветную мечту, – на семейное счастье.
После его смерти в секретном ящике его стола были найдены письма, относящиеся к этому времени и известные под названием писем “к бессмертной возлюбленной”.
“Утром 6 июля. Мой ангел, мое все, мое я, только несколько слов, и то карандашом (твоим!)... Зачем этот глухой ропот там, где говорит необходимость! Разве может существовать наша любовь иначе, как при отречении, при ограничении наших желаний? Разве ты можешь изменить то, что ты не всецело моя и я не весь твой? О Боже! Взгляни на чудную природу и успокой свой дух относительно неизбежного. Любовь требует всего и требует по праву, так и ты по отношению ко мне, и я в отношении тебя, – только ты так легко забываешь, что я должен жить для себя и тебя... Будь мы навсегда вместе, ты так же мало, как и я, чувствовала бы эту печаль. Я надеюсь, что мы скоро увидимся... И сегодня я не могу сказать, какие размышления приходили мне в голову в эти дни относительно моей жизни. Если бы мое сердце находилось возле твоего, их бы, конечно, не было. Моя душа полна желанием сказать тебе многое. Ах, бывают минуты, когда я нахожу, что слова – ничто. Ободрись, оставайся моим верным, единственным сокровищем, мое все, как я для тебя! А что нам суждено и что должно быть, то ниспошлют боги. Твой верный Людвиг.
6 июля вечером. Ты страдаешь, мое самое дорогое существо... Ах, где я – там и ты со мной! Вместе мы достигнем того, что соединимся навсегда. Что за жизнь так, без тебя!!! Меня преследуют люди своею добротою, которую я так же мало желаю заслужить, как и заслуживаю. Унижение человека перед человеком причиняет мне боль, и когда я рассматриваю себя в связи с мирозданием, – что я и что тот, которого называют Всевышним?.. Как бы ты меня ни любила – все же я люблю тебя сильнее, – не скрывайся никогда от меня, – покойной ночи. Ах Боже, так близко! Так далеко! Разве не небо – наша любовь? Но она так же незыблема, как свод небесный!
7 июля. Доброго утра! Еще в постели мои мысли несутся к тебе, моя бессмертная возлюбленная, – то радостные, то грустные в ожидании, услышит ли нас судьба. Жить я могу только с тобой – или совсем не жить. Да, я решил блуждать вдали от тебя, пока не буду в состоянии кинуться к тебе в объятия, назвать тебя совсем моею и вознестись вместе с тобою в царство духов. Да, к несчастью, это должно быть так! Ты себя сдержишь, ты знаешь мою верность тебе, – никогда не может другая овладеть моим сердцем, никогда, никогда! О Боже, почему надо бежать того, что так любишь? Но это неизбежно, – жизнь моя теперь полна забот. Твоя любовь делает меня счастливым и несчастным в одно и то же время. В мои годы я нуждаюсь в некотором однообразии, в ровности жизни; может ли это быть теперь, при наших отношениях? Будь покойна; только смотря покойно вперед, мы можем достигнуть нашей цели – быть вместе. Вчера, сегодня – как страстно, со слезами, я рвался к тебе, тебе, тебе, – моя жизнь, мое все! До свиданья! – О, люби меня, никогда не сомневайся в верном сердце твоего Л. Вечно твой, вечно моя, вечно вместе”.
Кому были написаны эти письма? Вместе с ними, в том же потайном ящике, нашли портрет сестры графа Брунсвика, Терезы, с надписью: “Редкому гению, великому художнику, хорошему человеку от Т.Б.”. Есть основание предполагать, что Тереза Брунсвик и есть “бессмертная возлюбленная” Бетховена. Рассказывают, что они очень сильно любили друг друга, были даже, с согласия брата, но тайно от всех других, обручены; однако брак их впоследствии, по неизвестным причинам, расстроился. Ей посвящена соната Fis-dur op. 78, которую Бетховен очень высоко ставил, а брату ее – “Appassionata” op. 57.
Письма к “бессмертной возлюбленной” ясно отражают душевное состояние Бетховена и подъем его духа. В этих страстных, возбужденных строках сказался весь он; вся нежность его любящей души, вся его несокрушимая мощь в борьбе с судьбою, вся его мужественная покорность перед неизбежным.
В этом состоянии его духа должны мы искать объяснение написанной им в это время пятой симфонии. Эта изумительная симфония, которая по замыслу и исполнению не имеет себе равных, является его вторым подвигом. “Так судьба стучит в дверь”, – говорил Бетховен про начало первой части, и в ней мы видим, как смело он ответил на этот “стук” судьбы и как героически вступил с нею в борьбу. “Я сам схвачу судьбу за глотку, – ясно слышится в этой первой части, – ей не удастся совсем согнуть меня”. И судьба не побеждает его, но он сам смиряется перед неизбежным (вторая часть). И это смирение пробуждает в нем новые силы, желание самому бросить вызов судьбе, идти к своей цели в ясном сознании всех страданий, которые поставит на пути это роковое “неизбежное”; начинается новая борьба, уже не с судьбою, а с самим собой, со своими страстями и эгоистическими желаниями, для которых ведь только и страшна “судьба” (третья часть)... И вот когда кажется, что он совершенно изнемог в этой ужасной борьбе, что все погибло, а жизнь глухо бьется где-то глубоко, – вдруг раздается эта неслыханная дотоле восторженная победная песнь, песнь торжества над судьбой и самим собой (финал)... Мы знаем, что первые наброски этой симфонии были сделаны в Гейлигенштадте в то время, когда Бетховен писал свое завещание. Он снова поселился в этом сделавшемся ему дорогим после перенесенной борьбы и одержанной победы месте и здесь окончил свою симфонию. Теперь он вновь, но будучи зрелым человеком, переживал то, что пережил тогда юношей. И если прежде, в избытке молодых сил, ему казалось, что он завоюет весь мир, то теперь, когда жизнь сделала его мужчиной, он стал смотреть на нее бесконечно глубже. Но его “идея”, его “мораль” осталась та же: величайшее проявление человеческого духа, находящего в отречении высшую свободу. Эта “идея” не оставляет более Бетховена; она освещает мирным, кротким сиянием тот мрак, который понемногу начинает окружать его личное существование; она вызывает к жизни его последующие – совершенно новые, как бы проникнутые этим сиянием – творения.
За пятой симфонией вскоре следует шестая, Пасторальная, написанная в том же любимом им Гейлигенштадте. Это песнь его любви к природе, которая в одинокой жизни Бетховена была ему и матерью, и сестрой, и возлюбленной. Он страстно любил ее и умел понимать ее жизнь; она давала мир его беспокойной душе в неустанной борьбе с жизнью. “Здесь, – говорил он впоследствии, гуляя с другом по Гейлигенштадту, – я сочинял мою Пасторальную симфонию, и овсянки, перепелки, соловьи и кукушки мне помогали!”[6]6
Эти “помощники” Бетховена даже означены им в партитуре симфонии (“Сцена у ручья”, в конце)
[Закрыть] Эпиграфом к этой симфонии могли бы служить его слова из письма к “бессмертной возлюбленной”: “Взгляни на чудную природу и успокой твой дух относительно неизбежного”.
В Пасторальной симфонии Бетховен единственный раз точно обозначил не только содержание целого, но и содержание каждой отдельной части. Сама симфония была сначала названа так: “Воспоминания о жизни в деревне”; отдельные части ее следующие: 1. “Радостные ощущения при приезде в деревню”; 2. “Сцена у ручья”; 3. “Веселая жизнь поселян”; 4. “Буря. Гроза”; 5. “Пастушеское пение (радостные и благодарные чувства после грозы)”. Чтобы устранить всякое сомнение в том, что эта симфония не есть описательная, так называемая программная музыка, Бетховен счел нужным пометить на партитуре: “Более выражение ощущений, чем описание”.
Эти две симфонии были исполнены впервые, вместе с другими написанными Бетховеном в это время сочинениями, в большой “академии”, данной им в театре “An der Wien”. Едва ли в музыкальной летописи найдется еще подобный концерт, составленный исключительно из новых, не игранных – и каких! – произведений одного композитора.