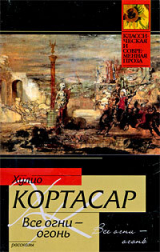
Текст книги "Все огни — огонь"
Автор книги: Хулио Кортасар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
«Прости, что я зашла в такое время, – говорит Соня. – Я увидела твою машину у дверей и не устояла перед искушением. Она позвонила тебе, да?» Ролан ищет сигарету. «Ты поступила плохо, – говорит он.
– Считается, что это мужское дело, в конце концов я был с Жанной больше двух лет, и она славная девочка». – «Да, но удовольствие, – отвечает Соня, наливая себе коньяку. – Я никогда не могла простить ей ее наивность, это просто выводило меня из себя. Представь, она начала смеяться, уверенная, что я шучу». Ролан смотрит на телефон, думает о муравье. Теперь Жанна позвонит еще раз, и будет неудобно, потому что Соня села рядом и гладит его волосы, листая литературный журнал, точно ища картинки. «Ты поступила плохо», – повторяет Ролан, привлекая Соню к себе. «Зайдя в это время?» смеется Соня, уступая рукам, которые неловко нащупывают первую застежку. Лиловое покрывало окутывает плечи Ирены, она стоит спиной к арене, пока проконсул в последний раз приветствует публику. К овациям уже примешивается шум движущейся толпы, торопливые перебежки тех, кто хочет опередить других и спуститься в нижние галереи. Ирена знает, что рабы тащат по песку трупы, и не оборачивается, ей приятно думать, что проконсул принял приглашение Ликаса поужинать у него в доме, на берегу озера, где ночной воздух поможет забыть ей запах черни и последние крики, медленное движение руки, словно ласкающей песок. Забыть нетрудно, хотя проконсул и преследует ее напоминаниями о прошлом, которое не дает ему покоя. Ничего, когда-нибудь Ирена найдет способ тоже заставить его забыть обо всем и навсегда, да так, что люди подумают, будто он просто умер. «Вот посмотришь, что выдумал наш повар, – говорит жена Ликаса. – Он вернул моему мужу аппетит, а уж ночью…» Ликас смеется и приветствует друзей, ожидая, когда проконсул двинется к выходу, после последнего приветственного жеста, но тот не торопится, словно ему приятно смотреть на арену, где подцепляют на крюки и уволакивают трупы.
«Я так счастлива», – говорит Соня, прижимаясь щекой к груди полусонного Ролана. «Не говори так, – бормочет Ролан. – Всегда думаешь, что это простая любезность». – «Ты мне не веришь?» – улыбается Соня. «Верю, но не надо говорить это сейчас. Давай лучше закурим». Он шарит по низкому столику, находит сигареты, вставляет одну в губы Сони, приближает лицо, зажигает обе одновременно. Они едва смотрят друг на друга, их уже сморил сон, и Ролан машет спичкой и кладет ее на столик, где должна быть пепельница. Соня засыпает первая, и он очень осторожно вынимает сигарету из ее рта, соединяет со своей и оставляет на столике, Соскальзывая в тепло Сониного тела, в тяжелый, без сновидений сон. Газовая косынка, медленно сворачиваясь, горит без огня на краю пепельницы и падает на ковер рядом с кучей одежды и рюмкой коньяка. Часть публики кричит и скапливается на нижних ступенях; проконсул заканчивает приветствие и делает знак страже расчистить проход. Ликас, первым поняв в чем дело, указывает ему на дальнюю часть старого матерчатого навеса, который рвется у них на глазах и дождем искр осыпает публику, суматошно толпящуюся у выходов. Выкрикнув приказ, проконсул подталкивает Ирену, неподвижно стоящую спиной к нему. «Скорее, пока они не забили нижнюю галерею», – кричит Ликас, бросаясь вперед, обгоняя жену. Ирена первая почувствовала запах кипящего масла: загорелись подземные кладовые; сзади навес падает на спины тех, кто отчаянно пытается пробиться сквозь толщу сгрудившихся людей, запрудивших слишком тесные галереи. Многие, десятки, сотни, выскакивают на арену и мечутся, ища другие выходы, но дым горящего масла застилает глаза, клочок ткани парит у границы огня и падает на проконсула, прежде чем он успевает укрыться в проходе, ведущем к императорской галерее. Ирена оборачивается на его крик и сбрасывает с него обугленную ткань, аккуратно взяв ее двумя пальцами. «Мы не сможем выйти, – говорит она. – Они столпились внизу, как животные». Тут Соня вскрикивает, стараясь высвободиться из пламенного объятия, обжигающего ее во сне, и ее первый крик смешивается с криком Ролана, который тщетно пытается подняться, задыхаясь в черном дыму. Они еще кричат, все слабее и слабее, когда пожарная машина на всем ходу влетает на улицу, забитую зеваками. «Десятый этаж, – говорит лейтенант. Будет тяжело, дует северный ветер. Ну, пошли».
Другое небо
1
Иногда я думал, что все скользит, превращается, тает, переходит само собой из одного в другое. Я говорю «думал», но, как ни глупо, надеюсь, что это еще случится со мной. И вот, хотя стыдно бродить по городу, когда у тебя семья и служба, я порой повторяю про себя, что, пожалуй, уже пора вернуться в свой квартал и забыть о бирже, где я служу, и, если немного повезет, встретить Жозиану и остаться у нее на всю ночь.
Бог знает, давно ли я это повторяю, и мне нелегко, ведь было время, когда все шло само собой и, только задень плечом невидимый угол, попадешь неожиданно в тот мир. Пойдешь пройтись, как ходят горожане, у которых есть излюбленные улицы, и оказываешься чуть не всякий раз в царстве крытых галерей – не потому ли, что галереи и проулки были мне всегда тайной родиной? Например, галерея Гуэмес, место двойное, где столько лет назад я сбросил с плеч детство, словно старый плащ. Году в двадцать восьмом она была зачарованной пещерой, где неясные проблески порока светили мне сквозь запах мятных леденцов, и вечерние газеты вопили об убийствах, и горели огни у входа в подвал, в котором шли бесконечные ленты реалистов.
Жозианы тех лет смотрели на меня насмешливо и по-матерински, а я, с двумя грошами в кармане, ходил, как взрослый, заломив шляпу, заложив руки в карманы, и курил, потому что отчим предрек мне умереть от сигарет. Лучше всего я помню запахи и звуки, и ожиданье, и жажду, и киоск, где продавали журналы с голыми женщинами и адресами мнимых маникюрш. Я уже тогда питал склонность к гипсовому небу галерей, к грязным окошкам, к искусственной ночи, не ведающей, что рядом – день и глупо светит солнце. С притворной небрежностью я заглядывал в двери, за которыми скрывались тайны тайн, и лифт возносил людей к венерологам или выше, в самый рай, к женщинам, которых газеты зовут порочными. Там ликеры, лучше бы – зеленые, в маленьких рюмках, и лиловые кимоно, и пахнет там, как пахнет из лавочек (на мой взгляд – очень шикарных), сверкающих во мгле галерей непрерывным рядом витрин, где есть и хрустальные флаконы, и розовые лебеди, и темная пудра, и щетки с прозрачными ручками.
Мне и теперь нелегко войти в галерею Гуэмес и не растрогаться чуть насмешливо, вспомнив юные годы, когда я чуть не погиб.
Прелесть былого не тускнеет, и я любил бродить без цели, зная, что вот-вот войду в мир крытых галереек, где пыльная аптека влекла меня больше, чем витрины широких, наглых улиц. Войду в Галери Вивьен или в Пассаж-де-Панорама, где столько тупичков и переулков, ведущих к лавке букиниста или к бюро путешествий, не продавшему ни билета; в маленький мир, выбравший ближнее небо, где стекла – грязны, а гипсовые статуи протягивают вам гирлянду; в Галери Вивьен, за два шага от будней улицы Реомюра или биржи (я на бирже служу). Войду в мой мир – я и не знал, а он был моим, когда на углу Гуэмес я считал студенческие гроши и прикидывал, пойти мне в бар-автомат или купить книжку или леденцов в прозрачном фунтике, и курил, моргая от дыма и трогая в глубине кармана пакетик с невинной этикеткой, приобретенный в аптеке, куда заходят одни мужчины, хотя и надеяться не мог пустить его в дело, слишком я был беден и слишком по-детски выглядел.
Моя невеста, Ирма, никак не поймет, почему я брожу в темноте по центру и по южным кварталам, а если б она знала, что особенно я люблю Гуэмес, она бы ужасно удивилась. Для нее, как и для матери, нет лучшего места, чем диван в гостиной, и лучшего занятия, чем кофе, ликер и то, что зовется беседой. Ирма – кротчайшая из женщин, я никогда не говорил ей о том, чем живу, и потому, наверное, стану хорошим мужем и хорошим отцом, чьи дети, кстати, скрасят старость моей матери. Наверное, так и узнал я Жозиану нет, не только из-за этого, мы ведь могли встретиться и на бульваре Пуассоньер или на Рю-Нотр-Дам-де-Виктуар, а на самом деле мы впервые взглянули друг на друга в самых недрах Галери Вивьен, под сенью гипсовых статуй, дрожащих в газовом свете (венки трепетали в пыльных пальцах муз), и я сразу узнал, что тут ее место, и нетрудно ее встретить, если ты бываешь в кафе и знаком с кучерами. Может быть, это случайно, но мы встретились с ней, когда в мире высокого неба, в мире без гирлянды, шел дождь, и я счел это знаком, и не подумал, что просто столкнулся со здешней девкой. Потом я узнал, что в те дни она не отходила от галереи, потому что снова пошли слухи о зверствах Лорана, и ей было страшно. Страх придал ей особую прелесть, она держалась почти робко, Но не скрывала, что я ей очень нравлюсь.
Помню, она глядела на меня и недоверчиво и пылко и расспрашивала поравнодушней, а я не верил себе, и радовался, что она живет тут же, наверху, и просил ее пойти к ней, а не в отель на улице Сантье, хотя там она многих знала и ей было бы спокойней. Потом она поверила, и мы смеялись ночью, что я мог оказаться Лораном. Мансарда была точь-в-точь как в дешевой книжке, а Жозиана – так прелестна, и так боялась убийцы, пугавшего Париж, и прижималась ко мне, когда мы говорили о его злодействах.
Мать знает всегда, если я не спал дома, и хотя ничего не скажет (это было бы глупо), дня два смотрит на меня то ли робко, то ли оскорбленно. Я понимаю прекрасно, что Ирме она не проговорится, но все ж надоело, материнский присмотр уже ни к чему, а еще досадней, что в конце концов я-то и явлюсь с цветком или с коробкой конфет, и само собой станет ясно, что ссора кончена, и сын-холостяк снова живет, как люди. Жозиана радовалась, когда я описывал ей эти сцены, и там, в нашем царстве галереек, они стали своими так же просто, как их герой. Она, Жозиана, очень чтила семейные связи, и свойство, и родство; я не люблю говорить о своем, но о чем-то говорить надо, а все, о чем поведала она, было уже переговорено, вот мы и возвращались почти неизбежно к моим холостяцким затруднениям.
И это мне было тоже на руку, Жозиана любила галерейки – потому ли, что там жила, или потому, что там было тепло и сухо (мы познакомились в начале зимы, шел ранний снег, а в галереях, у нас, было весело и его не замечали). Мы ходили вдвоем, когда оставалось время, то есть когда один человек (она не хотела называть его) был ублажен и отпускал ее поразвлечься. Мы мало говорили о нем – я спрашивал, конечно, а она, конечно, лгала о деловых отношениях, и само собой подразумевалось, что он – хозяин, достаточно тактичный, чтобы не лезть на глаза. Потом я решил, что он рад, когда я хожу с Жозианой, потому что в те дни все особенно боялись, убийца снова натворил дел на Рю-д'Абукир, и она, бедняжка, не посмела бы уйти в темноте от Галери Вивьен. В сущности, мне полагалось благодарить и Лорана, и хозяина, из-за этих страхов я бродил с Жозианой по переходам, заглядывал в кафе и все больше понимал, что становлюсь другом девушке, с которой, казалось бы, ничем и не связан. Мы говорили глупости, молчали и понемногу, постепенно убеждались в нашей нежной дружбе. Я привыкал к чистой, маленькой каморке, так вписывавшейся в галереи. Вначале я поднимался ненадолго, у меня не хватало денег на ночь, да и ее ждал другой, побогаче, и я ничего не успевал разглядеть, а позже, дома, где единственной роскошью были журналы и серебряный чайник, вспоминал, и ничего не помнил, кроме самой Жозианы, и засыпал, словно она еще в моих объятиях. Но с дружбой пришли и права; а может, Жозиана уговорила хозяина, и он разрешил ей оставлять меня на ночь, и комната стала заполнять перерывы наших, не всегда легких, бесед. Все куклы, все картинки, все безделушки поселились в моей памяти и помогали лгать, когда я возвращался домой и говорил с матерью или с Ирмой о политике и о болезнях.
Потом пришло и другое, например – смутный абрис того, кого она звала американцем, но сперва всем владел страх перед тем, кто, если верить газетам, звался Лораном-душителем. Если я решаюсь вспомнить Жозиану, я вижу, как мы входим в кафе на Рю-де-Женер, садимся на малиновый плюш, здороваемся с друзьями, и сразу всплывает Лоран, все только о нем и говорят, а я утомился за день от работы и оттого, что на бирже, в перерывах, коллеги и клиенты тоже говорили о его последнем злодействе, и я думал теперь, кончится ли этот тяжкий сон, будет ли снова так, как, по моим представлениям, было здесь прежде (хотя тогда я тут не был), или жутким забавам нет конца. А хуже всего – говорю я Жозиане, спросив грогу, который так нужен в снег, – хуже всего, что мы его не знаем и зовем Лораном, потому что одна ясновидящая узрела в своем стеклянном шаре, как убийца писал кровавыми пальцами собственное имя, а газеты не хотят перечить тому, во что верит народ. Жозиана не глупа, но никто не убедит ее, что злодея зовут иначе, и нечего спорить с ней, когда, испуганно мигая синими глазами, она смотрит как бы невзначай на молодого человека, высокого и сутулого, который вошел в кафе и, не здороваясь ни с кем, прислонился к стойке.
– Может быть… – прерывает она мое наспех придуманное утешение, – а подниматься мне одной. Если ветер задует свечу, когда я буду на лестнице… Темно, я одна…
– Ты редко идешь одна, – смеюсь я.
– Вот, тебе смешно, а бывает, особенно в снег или в дождь, идешь под утро…
Она расписывает, как он притаился на площадке или, не дай господь, в комнате (дверь он открыл всесильной отмычкой). За соседним столом вздрагивает Кики, и ее нарочитый крик отдается в зеркалах. Нас, мужчин, очень веселит этот кокетливый страх, и мы снисходительно и важно охраняем подружек. Хорошо курить трубку в кафе, когда дневная усталость растворяется в вине и в дыме, а женщины хвастают шляпами, боа и смеются пустякам; хорошо целовать Жозиану, хотя она задумчиво глядит на пришельца, почти мальчика, который стоит спиной к нам и мелкими глотками пьет абсент, опираясь на стойку. А все же удивительное дело: подумаешь о Жозиане (я всегда вспоминаю ее в кафе, снежным вечером, за разговором об убийце), и тут же в памяти явится тот, кого она звала американцем, и стоит спиною к ней, и пьет абсент. Я тоже зову его американцем или аргентинцем, она убедила меня, что он – оттуда, ей говорила Рыжая, та с ним спала еще до того, как они с Жозианой поругались, кому на каком углу стоять или когда стоять, и зря, они ведь очень дружат. Так вот, Рыжая сказала, что он ей сам признался, иначе и не угадаешь, у него совсем нет акцента. Сказал он, когда раздевался – кажется, снимал ботинки; надо же, в конце концов, о чем-то говорить.
– Вот он какой, совсем мальчишка. Правда, как из школы, только высокий? А ты бы послушал Рыжую!.. Жозиана всегда сплетала пальцы, когда рассказывала страшное, и расплетала, и сплетала снова.
Она поведала мне об его требованиях (не особенно, впрочем, странных), об отказе Рыжей и о том, как угрюмо он ушел. Я спросил, приглашал ли он ее. Нет, как можно, ведь все знают, что они с Рыжей – подруги. Он сам тут живет, про всех слышал, и, пока она говорила, я посмотрел на него снова и увидел, как он платит за абсент, бросает монетку на свинцовое блюдце, а нас (будто мы исчезли на бесконечный миг) окидывает пристальным, пустым взглядом, словно застрял в сновиденьях и не хочет проснуться. Он был молод и хорош, но от такого взгляда волей-неволей вспоминались жуткие слухи об убийствах. Я тут же сказал об этом ей.
– Кто, он? Ты спятил! Да ведь Лоран…
К несчастью, никто ничего не знал, хотя и Кики и Альбер помогали нам для потехи обсуждать разные версии. Подозрение наше рухнуло, когда хозяин, слышавший все разговоры, вспомнил, что кое-что о Лоране известно: он может задушить одной рукой. А этот сопляк… куда ему! Да и вообще поздно, пора идти, мне хотя бы, потому что Жозиану ждет в мансарде тот, другой, по праву владеющий ключом, и я провожу ее один пролет, чтоб не боялась, если погаснет свеча, и я вдруг устал, и смотрел, как она идет, и думал, что она, наверное, рада, а мне сказала неправду, и потом я вышел на скользкий тротуар, под снег, и пошел куда глаза глядят, и вышел вдруг на дорогу, и сел в трамвай, где люди читали вечерние газеты или глядели в окошко, словно хоть что-то увидишь в такой тьме, в этих кварталах.
Не всегда удавалось мне дойти до галереек или застать Жозиану свободной. Иногда я просто бродил по проулкам, разочарованно слонялся, убеждаясь понемногу, что и ночь – моя возлюбленная. В час, когда загорались газовые рожки, наше царство оживало, кафе обращалось в биржу досуга и радости, и люди жадно пили хмельную смесь заката, газет, политики, пруссаков, бегов и страшного Лорана. Я любил выпивать понемногу то там, то сям, спокойно поджидая, когда на углу галерейки или у витрины встанет знакомый силуэт. Если она была не одна, она давала мне понять (у нас был знак), когда освободится; иногда же – только улыбалась, и я уходил бродить по галереям. В такие часы я исследовал и узнал самые дальние углы Галери Сент-Фуа, к примеру, и недра Пассаж-дю-Каир, но, хотя они нравились мне больше, чем людные улицы (а были и такие – Пассаж-де-Прэнс, Пассаж-Верде), хотя они нравились мне больше, я, сам не знаю как, любым путем, приходил к Галери Вивьен не только ради Жозианы, но и ради надежных решеток, обветшалых фигур и темных закоулков галереи Пассаж-де-Пти-Пэр, ради всего этого мира, где не надо думать об Ирме и распределять время, и можно плыть по воле случая и судьбы. Мне не за что зацепиться памятью, и я не скажу, когда же именно мы снова заговорили об американце. Как-то я увидел его на углу Рю-Сен-Мар. Он был в черном плаще, модном лет за пять до того (тогда их носили с высокой широкополой шляпой), и мне захотелось спросить его, откуда он родом. Однако я представил себе, как холодно и злобно принял бы такой вопрос я сам, и не подошел.
Жозиана сказала, что зря, – наверное, он был ей интересен, она обижалась за своих и вообще страдала любопытством. Она вспомнила, что ночи две назад вроде бы видела его у Галери Вивьен, хотя он там бывал нечасто.
– Не нравится мне, как он смотрит, – говорила она. – Раньше я и внимания не обращала, но когда ты сказал про Лорана…
– Да я шутил! Мы сидели с Кики и Альбером, а он ведь шпик, сама знаешь. Он бы непременно сообщил. За голову Лорана хорошо заплатят.
– Глаза нехорошие, – твердила она. – Смотрит в сторону, а все, как есть, видит. Подойдет ко мне – убегу, истинный крест.
– Мальчишки испугалась! А может быть, по-твоему, мы, аргентинцы, вроде обезьян?
Все знают, чем кончаются такие беседы. Мы пили грог на Рю-де-Женер и, пройдясь по галереям, заглянув в театры на бульваре, поднимались к ней, а там смеялись до упаду. Были недели (нелегко мерить время, если счастлив), когда мы смеялись постоянно, даже глупость Бадэнге[29]29
Бадэнге – прозвище Наполеона III.
[Закрыть] и угроза войны смешили нас. Просто глупо, что такая гадость, как Лоран, могла унять наше веселье – но так было. Он убил еще одну женщину на Рю-Борегар, совсем рядом, – и мы в кафе приуныли, и Марта, прибежавшая, чтоб крикнуть нам новость, зашлась в истерике, и мы кое-как проглотили душивший нас клубок. В тот вечер полиция прочесала квартал, все кафе, все отели, Жозиана пошла за хозяином, и я отпустил ее, потому что тут была нужна высочайшая помощь. На самом же деле все это сильно меня огорчало – галерейки не для того, совсем не для того, – и я пил с Кики, а потом с Рыжей, которая хотела помириться через меня с Жозианой. У нас пили много, и в жарком облаке, в винном чаду, в гуле голосов мне почудилось, что ровно в полночь американец сел в угол и заказал абсент – как всегда, изящно, рассеянно и странно. Я пресек откровенности Рыжей и сказал, что сам все знаю, вкус у него неплохой, ругать не за что; она замахнулась в шутку, и мы еще смеялись, когда Кики снизошла и сообщила, что бывала у него. Пока Рыжая еще не впилась в нее ноготками вопроса, я спросил, как же он живет, какая у него комната. «Большое дело – комната!» – бросила Рыжая; но Кики снова нырнула в мансарду на Рю-Нотр-Дам-де-Виктуар и, словно плохой фокусник, извлекала из памяти серую кошку, кучи исписанной бумаги, большой рояль, и опять бумаги, и снова кошку, которая, должно быть, осталась лучшим воспоминанием.
Я не мешал ей, и глядел в тот угол, и думал, что, в сущности, очень просто подойти и сказать что-нибудь по-испански. Потом я чуть не встал (и до сих пор, как многие, не знаю, почему я не решился), но остался с девицами, и закурил новую трубку, и спросил еще вина. Не помню, что я чувствовал, когда поборол свое желание, – тут был какой-то запрет, мне казалось, что я вступлю в опасную зону. И все же я так жалею, что не пошел, словно это могло меня спасти. От чего спасти, в сущности? От этого: тогда б я не думал теперь все время, без перерыва, почему же я не встал, и знал бы другой ответ, кроме беспрерывного курения, дыма и ненужной, смутной надежды, которая идет со мной по улицам, как шелудивый пес.








