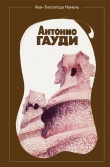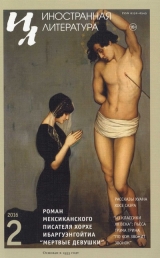
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Хуан Саэр
Жанры:
Рассказ
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Annotation
Рассказы выдающегося аргентинского писателя Хуана Хосе Саэра (1937–2005). И первый – «Прием на Бейкер-стрит» – ни что иное, как вполне «крепкая» детективная история о Шерлоке Холмсе, выдуманная одним из персонажей рассказа и поведанная им приятелям, пережидающим ненастье за стойкой бара. Или рассказ «За завтраком» – о старике еврее, беженце в Аргентину, чудом выжившем в нацистском концлагере. Изо дня в день он завтракает в одном и том же кафе и за кофе по привычке мысленно благодарит свой страшный жизненный опыт, не будь которого «оптимистические предрассудки и теперь искажали бы его восприятие действительности…» И другие рассказы Хуана Хосе Саэра в переводе с испанского Александра Казачкова.
Хуан Хосе Саэр
Прием на Бейкер-стрит
Безымянная биография
Смена места жительства
Gens nigra[6]
За завтраком
Толмач
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Хуан Хосе Саэр
Прием на Бейкер-стрит
Жану Дидье Вагнеру посвящается
Дождь льет настолько плотный, что всего за несколько минут, пока автобус на Буэнос-Айрес катит по территории вокзала, его силуэт становится нечетким, поглощенный массами сероватой воды, грохот ее заглушает даже вибрацию двигателя, ставшую неразличимой с того момента, как машина дает задний ход и отъезжает от перрона, недолго маневрирует, беря курс на юг, и удаляется на малой скорости к выезду из терминала. Нула наблюдает, как автобус исчезает в направлении Портового проспекта, тридцать-сорок метров – и его уже не видно, если не считать двух красных точек задних огней. Грозная продолжительная молния на несколько секунд выхватывает автобус из небытия зеленоватым моментальным фотоснимком: призрачный образ, помещенный в рамку призрачного фрагмента города; и почти в тот же миг нескончаемый гром – следствие этой молнии или одной из предыдущих (с такой быстротой следуют они одна за другой) – сотрясает огромные окна, перроны, весь каркас автовокзала, в котором все огни несколько мгновений мигают, но все же, словно чудом, продолжают гореть дальше. Рассчитывая, что ветер немного стихнет, а это произошло почти сразу, едва только хлынул дождь, водитель не трогался с места и выехал с десятиминутным опозданием, заставив Нулу ждать на перроне с услужливым видом, «на всякий случай», до самого отправления. И поскольку отъезд автобуса с управляющим по продажам фирмы «Друзья вина» на борту – факт свершившийся, и даже красные точки задних огней пропали в зеленовато-серых глубинах дождя, Нула поворачивается, проходит в большой холл вокзала, почти пустой в этот час (близится полночь), и неспешно направляется к главному входу.
Эти два дня выдались нелегкими, но в итоге Нула доволен. В смертельный зной, аномальный для конца марта, он поехал вчера встречать управляющего, прилетавшего утром, и, помимо того что прошлой ночью спал совсем мало, провел в обществе последнего все это время, пока не остался снова наедине с самим собой после отъезда автобуса, который теперь, скорее всего, уже катит по Портовому проспекту в направлении окружной дороги. Амбициозная программа, получившая название «Винная пора», с намеком на приход осени, хотя и оказалась несколько несвоевременной из-за столь жаркой погоды, была выполнена тщательным образом, шаг за шагом, причем штаб размещался в отеле «Игуасу», обязательном центре всех рекламных операций, проводимых в городе: рабочие встречи в первый день с представителями основных районов Литораля, завершившиеся ужином, и открытые для широкой публики мероприятия в течение прошедшего дня – семинар на тему «Вино и здоровье» плюс банкет в гостиничном салоне «Премьер» с участием видных представителей города: политиков, спортсменов, известных специалистов, звезд телевидения и т. д.; причем банкет еще не закончился, но Нуле посчастливилось уйти раньше – требовалось отвезти управляющего на автобус к половине двенадцатого, и сейчас, когда он пересекает холл под шум дождя, ему думается, что гроза, пожалуй, может послужить отличным предлогом, чтобы не возвращаться.
В жизни Нулы все происходит слишком рано, и, едва придя к обладанию чем-либо, он тотчас сознает, что ему этого уже не хочется, более того, он всегда стремился обладать чем-то, чего, по сути, не хотел. Истолкованная таким образом его короткая жизнь – ему вот-вот исполнится двадцать восемь – являет собой смесь ответственности и бегства, одинаково тягостных и тайных, создающих впечатление, будто он живет одновременно в нескольких мирах, и сюда неплохо вписывается винное маклерство, которое позволяет зарабатывать на жизнь и вместе с тем наслаждаться множеством часов свободного времени, уединения и праздности. В девятнадцать лет он начал изучать медицину; в двадцать три перешел на философский факультет, а по достижении двадцати шести, женившись, имея на руках годовалого ребенка и ожидая появления второго, вынужден был пойти работать, и в итоге семинар по введению в энологию, проведенный в том же отеле «Игуасу», куда ему, как ни крути, придется вернуться, если дождь перестанет, привел его в виноторговлю. «Исправляется парень», – рассеянно заметил Томатис, когда кто-то однажды описал его эволюцию. Однако Нула, который зарабатывает кое-какие деньги, чтобы не зависеть от жены, и дорожит имеющимся свободным временем, не пришел бы к такому заключению, попроси его кто дать беспристрастную оценку своему бытию.
Шум дождя гулко отдается в полупустом, просторном холле. Мощные, бурные массы грохочущей воды согнали дремоту с тех немногих людей, кто теперь прогуливается, то и дело приближаясь к большим окнам, чтобы поглядеть на грозу, или привстает с металлических скамеек, где они полулежали, подложив под голову тюки и чемоданы в ожидании ночных или утренних автобусов, и, когда Нула подходит к главному входу, грохот нарастает, усиленный раскатами грома и театральным эффектом серо-зеленоватых вспышек молний. Недвижное, жгучее, иссохшее лето, начавшееся в ноябре и длившееся до этой ночи конца марта, после нескольких неудачных гроз близится к завершению. Нула подходит к главным дверям вокзала и, держась на расстоянии от порога, укрываясь от вихря капель, брызжущих на плитку у входа, останавливается и глядит на улицу, понимая, что еще не скоро сможет выйти и добраться до машины, припаркованной в паре кварталов отсюда, за площадью Испании.
Плотная сероватая вода не скапливается посреди проезжей части благодаря выпуклому асфальту, но по бокам, у бордюра, сбегает потоками к водостокам и во многих местах уже заливает тротуар. Одна-две машины проезжают медленно, осторожно, сверкающие и бесшумные, словно скользят по подводному миру. На той стороне улицы бар на углу видится таким далеким, и подле железных столов и стульев, сваленных у стены поспешно и в беспорядке, подальше от ветра, под раздвижным и тоже металлическим навесом, с которого по бокам струится вода, кучка людей теснится на более-менее сухом пятачке, прячась от брызг, и смотрит на дождь, а, поскольку их наблюдательный пункт находится напротив, также и на портал вокзала, где стоит Нула. Внезапно, после минутного замешательства, словно решение принято после некоторых колебаний, три нечетких, мужских силуэта бросаются в его сторону, с разбегу перепрыгивают поток над бордюром, отталкиваясь от выпуклого асфальта, достигают противоположного тротуара, огибают бутылочные деревья, топчут их запоздалые, сбитые ветром цветы, белые, розовые, цвета слоновой кости, и, наконец, заранее радуясь, поднимаются на две-три ступеньки, ведущие к главному входу. По мере того как они приближаются, Нула замечает, что с них струится вода. Сольди, как самый молодой, влетает внутрь первым, хлопает Нулу по плечу и по инерции пробегает еще два-три метра, а затем возвращается, запыхавшись, давясь от смеха. Второй, блондинистый тип, заметно лысеющий, одет в белые брюки и желтую рубашку, его Нула видит впервые в жизни, и наконец, тяжело дыша, со значительным отставанием, – Карлос Томатис, он уже смирился с тем, что промок до нитки, и последние метры преодолевает шагом.
– Гадство гадское! – восклицает он, едва переступив порог. – Смотрите, во что превратилась моя сигара.
Но, вероятно, по причине бега, ставшего маленьким приключением в его малоподвижной жизни, а может, из-за того, что вымок и несколько взбодрился после возлияний, которые, наверное, позволил себе в одном из окрестных ресторанов, он выглядит скорее довольным, чем раздосадованным. В левой руке, между указательным и средним пальцем, он держит половину потухшей толстой сигары, почерневшей, рыхлой и такой раскисшей от воды, что на месте некогда горевшего кончика болтаются водянистые клочья листа. И, показывая Нуле махрящиеся остатки былой табачной роскоши, поясняет:
– «Ромео и Джульетта», мне ее подарил Пичон. Вы не знакомы? Турок Нула, Пичон Гарай: один продает мне вино, другой его выпивает.
Вновь представленные обмениваются рукопожатием, и Нула, чувствуя в своей руке влажную, липкую ладонь, замечает:
– В «Друзьях вина» мы продаем и сигары. Мы не можем допустить, чтобы на столе нувориша чего-то недоставало. Это правда была «Ромео и Джульетта»?
– Правда, – подтверждает Томатис. И, медленно стряхивая остатки сигары, принимает задумчивый вид и вслух рассуждает: – Так, наверное, обвисло у Ромео после свадебной ночи.
– Это была их единственная ночь, но они выжали из нее все соки, – говорит Сольди.
А Пичон добавляет:
– Бедные дети! Можно квалифицировать случай как гомерический и шекспировский одновременно, ведь именно так определяют Лаэрта в кроссвордах.
Качая головой и посмеиваясь, давая понять, что приходится терпеливо слушать всю эту чепуху, Нула произносит:
– Не в обиду господину, – он кивает на Пичона, – будет сказано, но должен вам сообщить, если вы еще не заметили: вид у вас, будто вы прямо с карнавала.
– Сам при галстуке, а нам пеняет, – говорит Сольди.
– Производственная необходимость, – поясняет Нула, понимая, что оправдываться необязательно, ведь Сольди, которого он знает со школьной скамьи и с которым время от времени встречается за чашкой кофе, полностью в курсе дела.
– Галстук и короткие рукавчики, – произносит Сольди, ласково и с притворным восхищением теребя белую кромку рукава, заканчивающегося чуть выше локтя.
Мужчины замолкают, слушая шум дождя, нескончаемые раскаты грома вновь сотрясают весь город. Вдали, хотя, возможно, в толще дождя только создается впечатление отдаленности, но звук доносится с тротуара напротив или из некоей дальней точки внутри самого терминала, кто-то приветствует грохот радостным воплем, протяжным индейским гиканьем «сапукай», выражающим восторг, восхищение, воодушевление. После минутного созерцания оглушительно гремящего потопа Сольди предлагает переместиться в бар вокзала – переждать, пока ливень не прекратится. Станционные сооружения еще сохраняют тепло, накопившееся за прошедший день и даже, можно сказать, за все лето, и поэтому атмосфера в баре, в котором из-за дождя и ветра приходится держать окна закрытыми, кажется Нуле удушливой, но три его спутника, вошедшие с улицы насквозь промокшими – черная борода Сольди размякла и пропитана влагой, словно ее обладатель только что из душа, а синяя рубашка Томатиса прилипла к его массивному торсу, – по-видимому, довольны температурой. По правде говоря, доволен и Нула, но по другой причине: давно смирившись с тем, что придется посвятить два полных дня «Друзьям вина», он, благодаря грозе и случайной встрече с Сольди и двумя его спутниками у входа в вокзал, предчувствует перспективу завершить вечер весьма приятно и уже не опасается, что после банкета ему придется идти выпивать с группой продавцов и клиентов в какой-нибудь бар с девочками в центре или на окраине. Так что, едва они рассаживаются, как он решительно объявляет:
– Плачу́ я, – и делает знак официанту, который, сидя за столом у двери в надежде воспользоваться иллюзорным сквозняком, читает затасканный экземпляр газеты «Ла Рехион».
Пока они ждут заказ – три пива и кофе для Сольди, – Сольди рассказывает, что он и два его спутника провели день на реке, сходили на катере до Ринкона-Норте, чтобы навестить дочь Вашингтона Норьеги, устроили пикник на острове в обеденное время и вернулись к вечеру; и что они доедали закуску в пивном дворике в соседнем квартале, когда грянула гроза; что они бросились бежать в направлении машины, но ливень оказался слишком сильным, чтобы добраться до нее, так что им не оставалось иного выхода, кроме как укрыться от дождя вместе с другими людьми, которые собрались по схожим причинам под металлическим навесом бара; и поскольку он, Сольди, благодаря вмешательству божественного провидения, как он дословно выразился, увидел Нулу, который ждал у входа в вокзал, он предложил своим спутникам вопреки разбушевавшейся стихии перебраться на другую сторону улицы. Нула кивает с намеренно преувеличенным выражением благодарности, хотя, по правде говоря, он уже слегка отвлекся от рассказа Сольди, пытаясь прислушаться к диалогу, который ведут Томатис и человек в желтой рубашке.
– А почему бы и нет? – вопрошает Томатис, отвергая, по-видимому, возражение собеседника, которого Нула не слышал. – Для типа, способного вставить пробку в бутылку шампанского так, как будто ее никто и не открывал, легче легкого войти в квартиру, от которой у него нет ключа. И не следует забывать, что он уже проник неизвестно каким образом еще в двадцать семь других квартир.
Пичон одобрительно смеется и, поскольку Нула не понимает, о чем идет речь, Сольди сообщает:
– Достоверный случай с серийным убийцей, происшедший несколько лет назад в Париже.
– Я планирую написать о подобном деле, имевшем место пятьдесят лет назад в Англии, – говорит Томатис, – отравление медсестры и шестнадцати младенцев. И если я напишу об этом, детективом будет не кто иной, как Шерлок Холмс, – я не могу снижать планку и не использовать для моего рассказа лучшие образчики, рожденные жанром. Причем по причине преклонного возраста Холмса это будет его последнее дело. Если я решусь взяться за это, то стану писать объемную повествовательную поэму, верлибром, с отдельными ритмическими пассажами и определенными финалами строф в форме регулярного, возможно александрийского, стиха и консонантными рифмами. Таким образом, произведение займет в истории литературы место рядом с «Царем Эдипом», поскольку мы с Софоклом окажемся единственными двумя авторами, обратившимися в стихах к детективной тайне. Зато в том, что касается моего серийного убийцы, заявляю право на эксклюзивность: это будет, если я на днях возьмусь писать, единственное в мире повествование, в котором убийца устраняет одновременно семнадцать жертв.
– Есть еще случай Гарри Трумэна, который 6 августа 1945 года около восьми часов утра уничтожил за несколько секунд сто сорок тысяч человек в Хиросиме, – говорит Пичон.
– Попрошу не перебивать, – произносит Томатис. И после паузы, бросив притворно суровый взгляд, ни к кому конкретно не обращенный, продолжает: – История будет происходить в Лондоне, незадолго до Второй мировой войны. Холмс и Ватсон, постаревшие, давно отошли от дел, им, вероятно, уже за восемьдесят. Они ужинают в квартире Холмса на Бейкер-стрит, № 221-б, в компании инспектора Лестрейда, ушедшего из Скотланд-Ярда на пенсию не менее пятнадцати лет назад, и молодого инспектора, племянника Лестрейда, который состоит в штате полиции и уже давно уговаривает своего дядю познакомить его с легендарным сыщиком. Ко времени ужина прошло уже более пятидесяти лет с того дня, как врач, недавно приехавший из Афганистана, отправился выпить в бар «Критерион» и встретил там бывшего фельдшера Стэмфорда; тот, узнав, что Ватсон хотел бы снять удобные комнаты с кем-нибудь на пару, предложил познакомить его с Шерлоком Холмсом, который как раз искал себе компаньона для проживания в квартире на Бейкер-стрит, № 221-б; и, хотя некоторое время спустя, по причине женитьбы, Ватсон переехал в собственный дом и они порой подолгу не виделись, его с Холмсом связывала, что называется, крепкая дружба. С возрастом их встречи стали происходить реже, но телефон помогал поддерживать общение. Примерно за пятьдесят лет до того вечера, о котором я напишу, если возьмусь когда-либо за мое повествование, в предвечерний час 20 марта 1888 года, чтобы быть точным, какое-то время спустя после того, как он потерял Холмса из виду по причине своей женитьбы, Ватсон случайно проходил по Бейкер-стрит, не подозревая, пожалуй, что благодаря новой встрече они станут навеки неразлучны не в повседневной реальности, а в стилизованных сферах мифа, и решил нанести визит своему богемному другу, который, по его собственным словам, «плохо адаптировался в любом обществе и, погребенный среди своих старых книг, то предавался собственным амбициям, то нюхал кокаин». В моем рассказе в стихах обязательно будут присутствовать эти явные и неявные константы повествовательного цикла – падучие звезды событийности на недвижном небосводе легенды.
Идея в том, что после нескольких попыток представить своего племянника, который еще с прошлой недели предлагал нанести визит именно в этот вечер, у Лестрейда в это же утро зазвонит телефон и Холмс подтвердит запланированную встречу, но поставит загадочное условие – пусть гость прихватит с собой пару наручников и табельный пистолет. В первую минуту можно подумать, что речь идет о старческой причуде Холмса, но Лестрейд, поразмыслив немного, придет к заключению, что у Холмса, видимо, имеются для этого какие-то основания. Ватсон, в свою очередь, и два других гостя должны прибыть ровно в семь часов на Бейкер-стрит, встретиться у входа и подняться по лестнице в сопровождении миссис Хадсон, консьержки-экономки-кухарки Холмса на протяжении нескольких десятков лет, которая, по причине того, что, например, ее внук служит в римском филиале одного английского банка, с некоторых пор взялась экспериментировать с итальянской кухней, снискав самое твердое неодобрение Холмса и Ватсона, каковые, однако, никоим образом не смеют этого показать. К этим возможным вторжениям старушки в область международной кухни мне хотелось бы также добавить описание погрешностей и путаницы, которые она могла допускать в силу преклонного возраста, ошибаясь в различных ингредиентах, пропорциях продуктов и времени приготовления, и так далее, и так далее. Только лишь напитки – single malt[1], порту, арманьяк, шабли в категории белых и шамболь-мюзиньи в разряде красных – будут безупречны, видимо благодаря тому, что Холмс заказывает их у одного и того же поставщика вин и спиртного, как минимум, последние тридцать пять лет. Я намерен проработать следующую ситуацию: хотелось бы сопоставить реакцию героев на блюда, ибо Лестрейд и его племянник будут восторгаться и вителло тоннато[2], и пенне арабьятта[3], и инволтини[4], горгонзолой, копченым сыром провола и тирамису, выражая Холмсу свое восхищение практически с каждым новым кусочком и поздравляя его с возможностью наслаждаться услугами столь чудесной кухарки, тогда как Холмс с Ватсоном будут пытаться скрыть, в какое отчаяние повергают их кулинарные фантазии и технические просчеты пожилой женщины, которая заботится о своем квартиранте уже пятьдесят один год и не готова выслушивать ни малейших советов и тем более минимальной критики или замечаний о том, как ей осуществлять на практике свои функции. Но я пока не решил, включать ли данную ситуацию в текст, возможно, мне не удастся подобрать для нее соответствующие стихи, и потом, я уже наблюдал подобное в некоторых фильмах и думаю, что это комическое отступление сопряжено для меня с риском чересчур отклониться от главной истории.
Как раз к десерту или когда они перейдут в гостиную выкурить по трубке – молодой инспектор мог бы, вероятно, курить сигареты со светлым табаком, так, пожалуй, будет правдоподобнее, – и посмаковать single malt или арманьяк прошлого века, профессиональные навыки возобладают, и четыре расследователя или, если хотите, три расследователя и биограф смогут припомнить кое-какие из недавних криминальных дел, а затем перейти к обсуждению ужасного преступления, которое несколько дней назад взволновало не только Англию, но и, как выражаются те, кто допускает злоупотребление языком, весь цивилизованный мир: медсестра родильного дома, расположенного к западу, или к югу, или к северу от Лондона – в общем, в немногих часах езды от столицы по железной дороге, – отравила, видимо в приступе безумия, шестнадцать новорожденных младенцев и покончила с собой. Радио и газеты только об этом и говорят; в мировых анналах преступлений против частных лиц никогда не наблюдалось более чудовищного злодеяния. Правительство и даже королевский дом, как поговаривают, могут вмешаться в это дело.
Здесь появится ключевой персонаж всей истории, один из представителей высшей английской знати, принадлежащий к тем немногим старинным родам, что могут, помимо Виндзоров, претендовать на трон. В этой точке повествования, подчиняясь требованиям интриги и тирании правдоподобия, я буду вынужден ввести некоторое количество информации по самой неинтересной и бессодержательной теме, к каковой, в силу тягостной обязанности, может обратиться писатель: английская аристократия. Перспектива эта настолько неутешительна, что могла бы заставить меня отказаться от замысла, но, думаю, мне удастся справиться с повествованием, не вдаваясь особенно во всякие детали, кроме одной – существеннейшей, ибо она явится основополагающим элементом интриги: два сына-подростка некоего лорда W. (назовем его так) могли бы с полным правом претендовать на английский престол. Все эти подробности, в случае если мой рассказ в стихах будет написан, станут всплывать в ходе застольной беседы в гостиной на Бейкер-стрит.
Полагаю, что Холмс в течение какого-то времени будет сидеть в молчании, с чуть отсутствующим видом, с полузакрытыми глазами, словно не слушая беседы.
Или словно – и это надо бы выразить поизящнее, акцентируя ритм стиха к финалу строфы и подыскивая соответствующие слова, чтобы подчеркнуть поэтическую мысль, не нарушая чрезмерным лирическим порывом плавности повествования, – из привычной дремоты, какой является жизнь человека, Холмс, погружаясь в старость, впал в глубочайшее оцепенение. Если когда-нибудь я решусь написать этот злополучный рассказ, задуманный, сказать по правде, довольно-таки давно, то постараюсь, чтобы в течение некоторого времени главные события сюжета прошествовали перед невозмутимым лицом Шерлока Холмса – тонкие поджатые губы, орлиный нос, чей острый изгиб сделается к старости заметнее, взлохмаченные, скорее серые, чем белые, волосы, весьма обильные, несмотря на минувшие годы, гладкая кожа, испещренная едва приметными, но многочисленными морщинками, придающими ей вид несколько увядший, но еще не старческий. Потухшая трубка застынет на ладони левой руки, а в правой уютно поместится бокал ар-маньяка, согреваемый прильнувшими к стеклу пальцами. Через какое-то время его прищуренные веки разомкнутся, и взгляд, отвлекшийся от всего внешнего из-за глубокой погруженности в себя, столь знакомой доктору Ватсону, вновь обратившись к вещам мира сего, встретится с глазами молодого инспектора, и Холмс, вспомнив некую деталь последнего момента, извлечет часы из верхнего кармана домашнего халата темно-зеленого бархата и озабоченно, с некоторым затруднением посмотрит, который час, прежде чем заговорит.
– Инспектор, – скажет он значительно, – вам, считающему, вероятно не без основания, что ваш талант не был в достаточной мере оценен Скотланд-Ярдом, а ваше повышение несправедливо откладывалось в сравнении с многими из ваших коллег, этой ночью, может быть, представится возможность вновь продемонстрировать, чего вы действительно стоите, и получить достойное вознаграждение за ваши заслуги.
Услышав эти слова, молодой инспектор широко раскроет глаза от удивления, но немедленно, с осуждающим видом, в порыве негодования бросит полный упрека взгляд на Лестрейда, а тот, приподнявшись со своего места за счет ничтожных остатков проворства, на которые еще способны его старые суставы, примется бормотать путаные и бессвязные возражения.
– Прошу вас, инспектор, не смущайтесь, – скажет Холмс с улыбкой примирения. – Наш старый друг Лестрейд не совершил никакой бестактности, и, поверьте, хотя мои способности угасают день ото дня, я еще владею некоторыми ресурсами в дедуктивном плане и, хоть мое зрение неуклонно слабеет, я еще не совсем утратил способности к наблюдению. Первая деталь, обусловившая мои рассуждения, основана на следующем обстоятельстве: в вашем возрасте вам полагалось бы подняться намного выше в иерархии того учреждения, в котором вы состоите на службе, что, разумеется, могло бы объясняться нехваткой таланта или профессиональных способностей. Тем не менее сами дела, которые мы обсуждали за ужином и по которым вы работали, решив их блестящим образом, и за перипетиями некоторых из них я имел возможность следить в свое время по газетам, где ни разу не упоминалось ваше имя, доказывают, что ваше повышение по службе неоднократно откладывалось не в силу вашей некомпетентности, а из-за привычной несправедливости бюрократических решений. И именно ваш любезный визит в этот вечер еще более наводит меня на мысль о вашем обоснованном недовольстве сей недопустимой волокитой. В первую очередь, ваш интерес к знакомству с доктором Ватсоном и со мной и то обстоятельство, что мужчина в полном расцвете умственных и физических сил выразил желание провести тихий вечер со стариками, свидетельствует, с психологической точки зрения, о безучастности к делам настоящего и идеализации прошлого, что нередко присуще людям, не вполне удовлетворенным своей судьбой или положением. Не отрицаю, что подобная склонность может быть вызвана факторами, ничего общего не имеющими с профессиональной жизнью, но вторая деталь, гораздо более решающая, убедила меня в обратном. На этой неделе все газеты поместили объявление о том, что сегодня вечером – а именно в эти минуты – в одном из отелей в центре города проходит ежегодный бал Скотланд-Ярда, о факте и о дате проведения которого вы не могли не быть осведомлены. Обращаю ваше внимание на то, что к моменту, когда вы предложили, чтобы планируемый нами ужин состоялся сегодня вечером, дата проведения бала уже была определена и объявлена во всеуслышание, и это позволяет мне заключить, что вы сознательно предпочли запереться среди этих старых стен с тремя стариками, вместо того чтобы разделить блистательное празднество с цветом лондонской полиции. Это предпочтение с вашей стороны утвердило меня в мысли, что в связи с вашим профессиональным положением вы ощущаете некоторую горечь, мешающую вам чувствовать себя комфортно среди коллег.
– Славное деяние должно ознаменоваться разнообразнейшим выражением восхищения со стороны присутствующих, – говорит Томатис с довольной и в то же время слегка скептической улыбкой в отношении подлинной ценности такого триумфа дедукции. И затем, обращаясь к слушателям с нарочито ученым видом, продолжает: – Легендарного героя следует представить не через психологические детали его истинной личности, в случайных обстоятельствах, а в формальном наборе сложившихся черт, позволяющем тотчас его распознать и принять в нем любой способ мысли и действия, каким бы неправдоподобным он ни казался, при условии, что он вписывается в схему такого распознавания. Но в то же время – сами увидите, если мне удастся перенести это на бумагу, – мой Шерлок Холмс восприимчив и к случайному стечению обстоятельств.
Собеседники улыбаются, но все по-разному. Лицо упомянутого Пичона Гарая озаряет блуждающая улыбка, будто слова Томатиса вызвали у него не непосредственные эмоции, а смутные воспоминания. Сольди же, напротив, помешивает кофе, видимо, ожидая, пока тот слегка остынет, поднимает голову, и его внимательный, усмехающийся взгляд мгновенно встречается с ироническим взором Томатиса; а у самого Нулы, не упустившего ни единого слова из рассказа, на лице едва ли уже не играет рассеянная улыбка, которая так и не проявится четко, поскольку последнюю минуту, даже не понимая зачем, он наблюдает за официантом: принеся заказ, тот вновь садится у входной двери и продолжает чтение вечерней газеты. В силу некого беспредметного любопытства, каким, с другой стороны, любопытство почти всегда и бывает, Нула пытается угадать, с какого раздела официант возобновил чтение, и прикидывает, что по количеству страниц, зажатых в левой руке, – их больше, чем оставшихся в правой, на которые обращен взор склонившего голову человека, – речь, скорее всего, идет о новостях спорта. Официант слишком очевидно принадлежит к типу «старого креола», чтобы страницы светской хроники или культурной афиши, рассчитанные скорее на представителей среднего класса и буржуазии и непосредственно предшествующие спортивному разделу в макете газеты, неизменном с незапамятных времен, могли привлечь его внимание, хотя Нула и не исключает, что больше всего он, возможно, интересуется некрологами, а потом – телепрограммой на завтра, как наиболее подходящей его возможностям досуга. Что касается погоды, то благодаря продолжающему лить плотному и шумному дождю, который сопровождается продолжительными молниями и нескончаемым громом, нетрудно проверить, оказался ли прогноз газеты «Ла Рехион», устаревший уже несколько часов назад, точным или ошибочным. Исходя из сдержанного вида и явного безразличия официанта к гремящей грозе, Нула отклоняет мысль о подобном археологическом любопытстве и выбирает спортивную страницу. И именно в эту минуту некое впечатление, занятное, хотя и хорошо знакомое от частого повторения, поглощает его полностью, как это уже не раз происходило за последнее время в самые различные моменты и в самых неожиданных местах – он может находиться дома или на улице, в городе или в поездке, один или в компании, в дневное время или ночное, утром или вечером, зимой или летом, в приятных или неприятных, серьезных или забавных обстоятельствах, – яркое, живое присутствие всего окружающего, словно выпуклость и плотность материи вдруг возросла, или будто каждая вещь, включенная в настоящее, внезапно обрела дополнительную долю реальности, явственно овладевает его чувствами и в силу некоего ассоциативного автоматизма вызывает в нем аналогичное подобие мысли, невербальное убеждение, каковое, если попытаться перевести его в слова, может быть сформулировано таким образом: Мир есть это и ничто иное, он не кажется ни враждебным, ни радушным, скорее нейтральным. И теперешнее впечатление, без всякого внематериального дополнения или продолжения – это действительно и есть я. Пока длится этот мир чистой материи, извергнувший из себя всякую легенду, мир ни дружественный, ни враждебный, а скорее ясный и сияющий для чувств, я защищен от времени, от боли, от смерти, хотя мне и пришлось отдать взамен привычное, радость, упоение. Но это начинает проходить, проходит. Уже прошло. За несколько секунд, пока длилась его отвлеченность, охватившая в плане явлений последние слова из отступления Томатиса, какие-то движения ложечки Сольди в чашке с кофе и легкое, задумчивое покачивание головы официанта, вызванное некой очевидностью чтения, переживание проявилось и вновь ушло, и улыбка Нулы, едва наметившись на губах, становится откровеннее и шире – чуть ли не избыточной, – когда его взгляд обращается к Томатису, который после взвешенной и чисто риторической паузы решает продолжить.