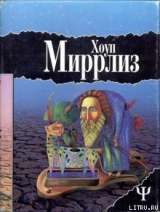
Текст книги "Луд-Туманный"
Автор книги: Хоуп Миррлиз (Мирлис)
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
Таковы были люди, в чьих руках находилось благоденствие страны. Следует признать, что они очень мало знали о жизни простых людей, а еще меньше ими интересовались, хотя и издавали для них законы.
Например, они не подозревали, что в стране все еще живет память о герцоге Обри. И дело было не только в том, что внебрачных детей называли «отродье герцога Обри», что старухи, увидев падающую звезду, говорили: «Герцог Обри подстрелил косулю» и что в годовщину его изгнания из страны девушки бросали в Пеструю на счастье венки, сплетенные из двух растений – плюща и морского лука, – украшавших герб герцога. Для обитателей страны герцог Обри был настолько живой реальностью, что при обнаружении поутру течи в бочонке или взмыленного коня, некоторым плутоватым работникам фермы часто удавалось избежать наказания, убедив хозяина, что виновник – герцог Обри. Не было фермы или деревни, где бы не нашелся хоть один человек, клятвенно уверявший, что видел Меднокудрого герцога летом, в канун Иванова дня, или в ночь зимнего солнцестояния, несущегося галопом во главе волшебной кавалькады охотников с развевающимися под звон бесчисленных колокольчиков разноцветными лентами. Но о Стране Фей и ее обитателях сельские жители знали не больше, чем купцы Луда-Туманного. Страны разделялись Горами Раздора, а их предгорья под названием Эльфские Пределы, по утверждению молвы, были чреваты всевозможными опасностями, как физическими, так и моральными. Никто на людской памяти не переходил Гор Раздора, и считалось, что это равносильно смерти.
Глава 3
Начало беды
Светская жизнь в Луде-Туманном начиналась весной и длилась до осени. Зимой горожане предпочитали не покидать своих домов. У них было безотчетное нежелание выходить на улицу с наступлением ночи, объяснявшееся скорей привычкой, чем страхом. Хотя, возможно, эта привычка возникла из-за какой-то забытой опасности, давным-давно научившей их предков остерегаться темноты.
Поэтому приход весны жители города всегда встречали с облегчением и радостью, едва ли отдавая себе отчет в том, что это реальность, а не просто оптический обман. Конечно, газон был зеленым, а лиственницы и кустарник – просто пугающе зелеными, и миндаль – в розовых соцветиях, но поля и деревья в туманной дали за пределами их усадеб все еще были серыми и черными. Да, эти цвета в их садах, должно быть, появились только благодаря игре света, падавшего именно так по прихоти какого-то щедрого случая, но когда свет изменится, цвета исчезнут.
Повсюду незаметно, но неотвратимо, деревья меняли зимнюю листву, состоящую из белого неба и аметистово-серых сумерек, на зеленую и золотистую.
Все люди, как и мы с вами, очень внимательно следят за деревьями весной, с восторгом наблюдают, как черное кружево из тонких ветвей шершавого вяза покрывается крохотными красновато-коричневыми цветочками, словно жучками, запутавшимися в паутине; как малюсенькие лимонно-желтые бутончики покрывают ветви кустарников. Что же касается длинных червонно-золотых почек каштанов, то они взрываются прямо на глазах. А вот и у березы появились крохотные листочки совершенной формы, и у всех прочих деревьев, у каждого – в свою очередь.
Сначала мы восторгаемся разнообразием цветов и форм, замечаем, что у березы листочки похожи на рой зеленых пчел, а у липы – просто невероятно яркие, и тень от верхних листьев черными пятнами ложится на нижние, что листья вяза чертят на небе чудеснейший узор и растут очень медленно.
Постепенно мы перестаем различать их особенности, и до осени они сливаются в плотный занавес, на фоне которого выделяется что-то более яркое и броское. Нет ничего незаметней, чем дерево с распустившейся кроной.
Первые серьезные заботы обрушились на мастера Натаниэля Шантиклера в его пятидесятую весну. Они касались его единственного сына Ранульфа, мальчика двенадцати лет.
В тот год мастера Натаниэля избрали на самую высокую должность в стране – он стал мэром Луда-Туманного и Верховным Сенешалем Доримара.
Ex officio он был президентом сената и главным судьей. Согласно конституции, сочиненной революционерами, он отвечал за безопасность и оборону страны в случае нападения на нее с моря или суши; он должен был следить за тем, чтобы с правосудием и доходами страны обращались должным образом; а все остальное его время, как считалось, находилось в распоряжении самых незаметных граждан, обращавшихся к нему с жалобами.
В действительности же, помимо председательства в суде, его работа сводилась к совсем необременительному исполнению обязанностей способного и достойного председателя клуба избранных, ибо к тому времени сенат фактически превратился именно в такой клуб. Несмотря на то, что вопрос о реальной пользе официальных обязанностей мастера Натаниэля был отнюдь не праздным, дел у него было невпроворот. Они занимали все его время, и поэтому он не замечал подводных течений, подмывающих основание его дома.
Ранульф всегда был мечтательным, довольно хрупким ребенком с запоздалым развитием. Лет до семи он очень раздражал свою матушку привычкой, играя в саду, выкрикивать разные замечания воображаемому товарищу. Он обожал болтать чепуху (в понимании Луда-Туманного – довольно неприличную чепуху) о золотых кубках, белоснежных дамах, доивших лазурных коров, и звоне уздечки в полночь. Но дети всего мира капризничают и упрямятся, и подобного рода разговоры были совсем нередки среди детей Луда-Туманного, а так как они почти всегда вырастают на такой чепухе, то ей и не придавали особого значения.
Однажды, когда мальчик стал постарше, его так потрясла внезапная смерть молодой посудомойки, что он два дня не притрагивался к пище. Время от времени вздрагивая, с испуганными глазами, как только что пойманная птица, он несколько дней не покидал постели. Когда встревоженная мать (отец в то время уехал в морской порт по делам), пытаясь утешить Ранульфа, напоминала, что он никогда особенно не обращал внимания на эту посудомойку, пока та была жива, он с раздражением отвечал:
– Да нет же, дело не в ней… дело в том, что случилось с ней!
Но все это происходило еще тогда, когда он был совсем маленьким. С возрастом он становился более сдержанным.
В ту весну учитель пришёл к госпоже Златораде, чтобы пожаловаться на невнимательность мальчика на уроках и внезапные беспричинные вспышки ярости.
– По правде говоря, сударыня, мне кажется, малыш нездоров, – сказал учитель.
Госпожа Златорада тут же послала за семейным врачом, который заверил ее, что ничего серьезного нет, такое часто случается весной, и прописал побеги огуречника аптечного в виде «лучшего стимулирующего средства для ленивых школяров». Подмигнув и ущипнув Ранульфа за ухо, он прибавил, что в июне для завершения лечения мальчику следует попринимать отвар из лепестков дамасских роз.
Однако побеги огуречника аптечного в вине не сделали Ранульфа сколько-нибудь внимательнее на уроках, а госпожа Златорада уже и без намеков наставника поняла, что ее мальчик не в себе. Больше всего ее волновало то, что ему явно приходилось совершать над собой невероятное усилие, чтобы хоть как-то отреагировать на окружающий мир. Например, когда за обедом она предлагала ему добавку, он сжимал кулаки и на лбу у него выступали капли пота – так велико было усилие, которое он делал, чтобы ответить «да» или «нет».
Между Ранульфом и матерью никогда не существовало особой любви (ее любимицей была дочь Черносливка), и она знала, что даже спроси она о его состоянии, он не ответит. Поэтому она решила обратиться не к Ранульфу, а к давнему другу и доверенному лицу, старой кормилице мастера Натаниэля Полли Коноплин.
Конопелька, как они ее прозвали, служила в семействе Шантиклеров почти пятьдесят лет, фактически с того дня, когда родился мастер Натаниэль. Теперь ее называли экономкой, хотя обязанности ее были наипростейшие и сводились главным образом к хранению ключей от кладовой и починке белья.
Это была еще крепкая старая деревенская женщина, обладающая удивительным даром ладить с детьми. Она не только знала все смешные истории Доримара (больше всего Ранульфу нравилась история про очки, которые мечтали поездить верхом на носу лунянина и в тщетной попытке достичь цели постоянно спрыгивали с носа несчастного владельца), но также была незаменимым товарищем по играм и, не покидая кресла, руководила с неослабевающим, как казалось, интересом маневрами оловянных солдатиков и действиями марионеток. Ранульфу чудилось, что ее уютная комната под самой крышей обладает удивительной способностью превращать любой предмет в игрушку. Страусиное яйцо, подвешенное к потолку на лиловом шнурке, маленькие разукрашенные восковые изображения бабушки и дедушки на каминной полке, старая прялка, даже пустые катушки, из которых получались отличные деревянные солдатики, и горшочки с вареньем, выстроившиеся рядами в ожидании наклеек с названиями сортов, – все они словно предлагали поиграть с ними; и огонь у Конопельки в камине потрескивал с большей радостью, чем где бы то ни было еще, и тем чудесней и пленительней оказывались образы, возникавшие в его алом пылающем сердце.
Так вот, очень робко (так как Конопелька была остра на язык и до сих пор смотрела на свою хозяйку, как на юную глупую девушку, вмешивающуюся в чужие дела) госпожа Златорада сказала ей о том, что ее немного волнует Ранульф. Конопелька бросила на нее колючий взгляд поверх очков и, поджав губы, сухо ответила:
– Много же времени вам понадобилось, чтобы заметить это.
Но когда госпожа Златорада попыталась выяснить, что же, по ее мнению, с ним случилось, старуха только таинственно покачала головой и пробормотала, что слезами горю не поможешь, и добавила: «Меньше говорить – меньше согрешить».
Когда совершенно обескураженная госпожа Златорада уже собралась уходить, старуха вдруг пронзительно закричала:
– И запомните, сударыня, ни слова об этом хозяину! Он из тех людей, которые терпеть не могут волноваться. В этом он похож на своего отца. Моя хозяйка часто говорила мне: «Мы не скажем об этом хозяину, Полли. Он терпеть не может волноваться. Да, все Шантиклеры очень чувствительны». – И неожиданно, в противовес своему утверждению, добавила: – С другой стороны, все Виджилы толстокожие, как буйволы.
Но госпожа Златорада, урожденная Виджил, и не намеревалась говорить об этом мастеру Натаниэлю. Было ли это из-за крайней чувствительности Шантиклеров или по какой другой причине, но она сама много раз убеждалась, что малейшее беспокойство вызывало у него сильное раздражение.
Пока он ничего не замечал за сыном, это очевидно. Большую часть дня он проводил в сенате и своей конторе, кроме того, его интерес к жизни окружающих не распространялся на членов семьи.
Что касается его чувств к Ранульфу, то следует признать, что он смотрел на него скорее как на фамильную вещь, чем как на сына. Дело в том, что бессознательно он относил его к той же категории вещей, что и хрустальный кубок, которым отец герцога Обри благословил первый корабль Шантиклеров, или меч, с помощью которого его предок внес свою лепту в свержение герцога Обри с престола, – предметы, на которые он редко смотрел или о них думал, но, потеряв, сошел бы с ума от ярости и горя.
Но вот однажды вечером в начале апреля сын неожиданно привлек внимание отца самым странным образом.
К тому времени во всем мире уже наступила весна, и жители Луда-Туманного стали готовиться к лету: в кладовой начищали до блеска медную посуду для варки варенья, убирали и выметали беседки в саду, подвергали тщательному осмотру рыболовные снасти. Воспользовавшись тем, что дни стали длиннее, приглашали друзей на ужин.
Во всем Доримаре никто так не любил гостей, как мастер Натаниэль. Они приносили ему временное облегчение. Казалось, его жизнь внезапно начинала звучать в другой, более веселой тональности. Хотя на самом деле ничего не менялось: те же стулья стояли на тех же местах, на них сидели люди, с которыми он встречался каждый день. Оставалась даже привычная легкая ноющая зубная боль, однако острота другой его боли таяла в этой суете. Поэтому он с большой радостью рассылал приглашения всем своим приятелям, зазывая их «на встречу с Лунотравным сыром», и делал он это в апреле каждого года вот уже двадцать пять лет.
Лунотравье – это деревня, известная во всем Доримаре своими сырами, и совершенно заслуженно. Они радовали глаз уже одним своим видом, так как были похожи на паросский мрамор с прожилками нефрита и имели аромат, свойственный всем хорошим сырам, – аромат лугов, к букету которого примешивался специфический запах парного молока и хлева.
В семь часов гостиная Шантиклеров уже наполнялась толпой солидных, полных, розовощеких, нарядно одетых гостей, которые болтали и смеялись, словно попугаи. Только Ранульф был молчалив, но для двенадцатилетнего мальчика в присутствии взрослых это было вполне естественно. И все же ему не следовало забиваться в угол и так угрюмо отвечать на шутливые замечания гостей.
Мастер Натаниэль, разумеется, имел отличный погреб, и вечер начался с дегустации превосходного чабрецового джина, которым хозяин очень гордился. Он был также совладельцем общего погреба, коллективной собственности привилегированного класса – погреба со старыми сочными шутками, которые, в отличие от вина, никогда не иссякают. Все, что было забавного и милого в каждом госте, перегонялось в одну из этих шуток. В этих старых шутках раздражение, неизбежное при близком контакте, возгонялось и превращалось в сладость, подобно тому, как это происходило с виноградным соком, превращавшимся в искристое вино, и конденсировалось в чувство дружбы и сердечности.
Ведь любой юмор – это разновидность тотема, служащего одновременно для объединения и разграничения. Его приверженцы объединяются в сплоченное братство, но резко выделяются из всего остального мира. Возможно, главной причиной отсутствия особой любви между правителями и поданными Доримара было именно то, что в понимании смешного они принадлежали к разным группам.
Однако все присутствующие на этом вечере принадлежали к одному тотему, и каждый был героем одной из старых шуток. У мастера Натаниэля спрашивали, были ли его лиловые бархатные штаны исчерна-лиловыми. Дело в том, что много лет назад он забыл надеть траур по своему тестю, и деликатный намек госпожи Златорады на его промах вызвал сердитый ответ:
– А я в трауре!
Когда же она, от удивления подняв брови, посмотрела на его купленные накануне канареечно-желтые чулки, он, смущаясь, добавил:
– Видишь ли, они исчерна-канареечные.
Немногие вина могут похвастаться таким букетом, как эта шутка мастера Натаниэля. В ней была и его рассеянность, и его способность видеть вещи такими, какими ему хотелось их видеть (он искренне верил в то, что был в трауре) и, наконец, в этом «исчерна-канареечном» цвете сказывалась его способность, возможно унаследованная от предков, верить в то, что человек может играть с реальностью и придавать ей любую придуманную им форму.
У мастера Амброзия Жимолости спросили, считает ли он сыры Лунотравья сырами. Дело в том, что у мастера Амброзия было гипертрофированное чувство превосходства над всеми, и однажды, когда в суде встал вопрос, считать ли драконов птицами или рептилиями (несколько безобидных выродившихся дракончиков все еще пряталось в пещерах отдаленных районов Доримара), он сказал с видом, не терпящим возражений:
– Род Жимолостей всегда считал их рептилиями.
А его жену, госпожу Жасмин, спросили, хочет ли она, чтобы ужин ей подали «на бумаге», потому что она имела привычку ловить своего мужа на слове, услышав от него какое-нибудь необдуманное обещание, например, купить новое ландо. В таких случаях она говорила:
– Я хочу видеть твое обещание на бумаге, Амброзий.
Здесь также были брат госпожи Златорады, мастер Полидор Виджил с женой, госпожой Сладкосон, и старый Мэт Пайпаудер со своей нелепой болтливой супругой, и Сапсан Лакерс, и Гозелина Флэкс, и чета Гиацинтов Храброштанных – фактически все сливки общества Луда-Туманного, и для каждого или каждой находилась своя особая шутка. Старые шутки ходили по кругу, словно бутылка портвейна, и с каждым кругом компания становилась все веселей.
Археолог Винкельманн мог бы обнаружить еще одно подтверждение своей теории в кулинарных названиях Доримара, ибо меню, которое госпожа Златорада приготовила для своих гостей, звучало, как венок сонетов. Первое блюдо называлось «Горько-сладкая тайна» – это был суп из трав, приготовлением которого славились хозяйки Луда-Туманного. За ним следовала «Лотерея сновидений», состоявшая из таких деликатесов, как перепела, утки, печень цыпленка, яйца ржанки, сердце павлина, и все это скрывалось под горой риса. Далее следовала «Разбитая истинная любовь» – голуби, приготовленные по особому рецепту, и наконец «Фиалки смерти» – жестокое испытание для желудка – пудинг, украшенный засахаренными фиалками.
– А теперь, – радостно закричал мастер Натаниэль, – пришла очередь нашего старого друга! Наполним бокалы и выпьем за короля сыров Лунотравья!
– За короля сыров Лунотравья! – эхом отозвались гости, топая ногами и стуча кулаками по столу. Но когда мастер Натаниэль, схватив нож, собрался было вонзить его в великолепный сыр, к нему внезапно бросился Ранульф и со слезами на глазах, дрожащим от ужаса голосом стал умолять не резать его. Гости, приняв это за шутку, одобрительно заулыбались, а мастер Натаниэль, в течение нескольких секунд с удивлением глядевший на сына, раздраженно спросил:
– Что такое случилось с мальчишкой? Руки прочь, Ранульф, говорю тебе! Ты что, с ума сошел?
Но глаза Ранульфа уже сверкали от ярости, и, повиснув на руке отца, он пронзительно завизжал:
– Нет! Ты не сделаешь этого! Не сделаешь! Не сделаешь! Я не позволю тебе сделать это!
– Молодец, Ранульф! – засмеялся кто-то из гостей – Ты достойный сын своего отца!
– Клянусь Млечным Путем! Златорада! – взревел мастер Натаниэль, начиная выходить из себя. – Что случилось с этим мальчишкой, я спрашиваю?
Госпожа Златорада была явно взволнована.
– Ранульф! Ранульф! – закричала она. – Сядь на место и не зли отца!
– Нет! Нет! Нет! – еще пронзительнее визжал Ранульф. – Он не убьет Луну… Он не убьет ее, говорю вам. Если он сделает это, все цветы в Стране Фей завянут!..
Как мне описать впечатление, произведенное его словами на собравшихся? Вообразите ваши собственные чувства, когда сынишка человека, у которого вы находитесь в гостях, при всей честной компании внезапно разражается потоком грязной брани, – а слова Ранульфа не только шокировали хороший вкус, они также будили какой-то суеверный ужас, вызванный категоричностью запрета.
Все дамы вспыхнули, лица мужчин приняли суровое выражение, а мастер Натаниэль, ставший пунцовым, заорал громоподобным голосом:
– Отправляйся в постель сию же минуту, а я приду и разберусь с тобой позже!
И Ранульф, внезапно потерявший всякий интерес к судьбе сыра, послушно вышел из комнаты.
В тот вечер больше никто не шутил, почти на всех тарелках сыр остался нетронутым и, несмотря на старания некоторых гостей, все раз говоры сразу обрывались, так что вечер закончился раньше девяти.
Оставшись наедине с госпожой Златорадой, мастер Натаниэль сурово потребовал объяснений по поводу поведения Ранульфа. Но она, устало пожав плечами, сказала, что мальчик, должно быть, сошел с ума, и поведала ему, что вот уже несколько недель она замечает, что тот не в себе.
– Почему же мне не сказали об этом? Почему мне ничего не сказали? – бушевал мастер Натаниэль.
И снова госпожа Златорада пожала плечами, но при взгляде на мужа в ее глазах под тяжелыми веками засветилось легкое насмешливое презрение. Глаза госпожи Златорады вы назвали бы мечтательными и томными, если бы не саркастическое выражение лица, как у старого судьи, и капризные складочки в уголках губ, из-за которых ее глаза казались насмешливыми, особенно когда она смотрела на мастера Натаниэля. По-своему она была от него без ума. Но в ее отношении к нему просматривалась снисходительность хозяйки к дрессированному, но своенравному псу.
Сжав кулаки, мастер Натаниэль принялся мерить шагами комнату, бормоча проклятия по поводу легкомысленных жен и жалуясь на тяжелую участь главы семьи. Обычно, испытывая необходимость найти жертву, удобную для выплескивания желчи, он злился на госпожу Златораду за то, что она вышла за него замуж, чем и вовлекла его во всю эту суету и заботы. Его туманные страхи были в этот момент как никогда сильными.
В эту минуту госпоже Златораде показалось, что он похож на майского жука, который только что влетел в комнату через открытое окно и с тихим глухим звуком бился о свою собственную тень на потолке, похожую на большого черного бархатистого мотылька. Именно его неуклюжесть и неловкая жужжащая беспомощность напоминали ей мастера Натаниэля, а совсем не тот факт, что он бьется о собственную тень.
Взад и вперед ходил мастер Натаниэль, вправо и влево бился майский жук, туда и сюда носилась его мягкая изящная тень. Вдруг майский жук упал на пол, словно мертвый, и в ту же минуту мастер Натаниэль, бросив через плечо: «Я должен поговорить с мальчишкой», – ринулся вон из комнаты.
Он застал Ранульфа безудержно рыдавшим в постели и, посмотрев на его жалкую хрупкую фигурку, почувствовал, что весь гнев улетучился. Он положил руку мальчику на лоб и не без теплоты сказал:
– Ну-ну, сынок, слезами горю не поможешь, завтра ты напишешь извинение кузену Амброзию, дядюшке Полидору и всем остальным гостям, и тогда… Ну что же, мы постараемся забыть об этом. Все мы не совсем отвечаем за то, что говорим, когда не в себе… А я узнал от матери, что ты не совсем хорошо себя чувствовал последние недели.
– Что-то заставило меня сказать это! – рыдал Ранульф.
– Конечно, так можно объяснить все, что угодно, – сказал мастер Натаниэль более сурово. – Нет, нет, Ранульф, такому поведению не может быть никаких оправданий, абсолютно никаких. Клянусь Урожаем Душ! – В его голосе появилось возмущение. – Где ты набрался таких мыслей и таких выражений?
– Но это правда! Это правда! – кричал Ранульф.
– Я не собираюсь выяснять, правда это или нет. Я знаю только, что о подобных вещах не говорят в присутствии порядочных дам и господ. Никогда подобные выражения не произносились под крышей моего дома, и, я надеюсь, никогда больше их не услышу… Понятно?
Ранульф застонал, а мастер Натаниэль добавил уже помягче:
– Ну что ж, больше ни слова об этом. А теперь объясни мне, о чем это говорит твоя мама? Ты что, нездоров, а?
Но Ранульф зарыдал еще громче.
– Я хочу уехать от всего этого! Уехать! – стонал он.
– Уехать? От чего «всего этого»? – В тоне мастера Натаниэля чувствовалось раздражение.
– От… от того, что случается! – рыдал Ранульф.
Сердце мастера Натаниэля бешено забилось, но он изо всех сил старался держать себя в руках.
– Того, что случается? – попытался он повторить шутливо – Да разве в Луде случается что-нибудь?
– Все случается, – стонал Ранульф, – лето и зима, дни и ночи. Все случается!
Внезапно мастер Натаниэль увидел Луд и его окрестности, молчаливые и неподвижные, такими, какими они выглядят с Полей Греммери.
Возможно ли, чтобы Ранульф чувствовал то же, что и он сам? Он думал, что только он один способен на подобное. В этот момент мастер Натаниэль испытал удивление, восторг, нежность и одновременно тревогу.
Ранульф перестал плакать и теперь лежал неподвижно.
– Кажется, что я весь нахожусь в голове, и она болит. Так все собирается в больном зубе, – сказал мальчик устало.
Мастер Натаниэль посмотрел на него внимательнее. Сосредоточенный взгляд, слегка приоткрытые губы, напряженная неподвижная поза – все это указывало на подлинную боль, несовместимую с притворством. Как хорошо он знал состояние ума, выражавшееся в подобных проявлениях!
Теперь ему не нужно было требовать от сына никаких объяснений. Он очень хорошо знал и это ощущение пустоты, и то, как обостряются все чувства, когда физический мир полностью исчезает, а ты сам внезапно раздуваешься, что бы заполнить собой образовавшуюся пустоту, и одновременно с этим все твое существо сосредоточивается в одной миллионной частице своего бывшего объема, превращаясь в сплошную боль; знал он и другую фазу, когда бежишь от дней и месяцев, как олень от преследующих его охотников, как беглецы от Луны на старинном гобелене.
Но если так страдаешь не ты, а кто-то другой, то, невзирая на испытываемую к нему жалость, в твоих глазах все это выглядит тривиально. Ведь ты уверен, что способен унять чужую боль уговором и убеждениями!
Положив руку на плечо Ранульфа, он сказал:
– Брось, сынок, так не годится! – И, подмигнул, добавил: – Гони этих черных грачей с пшеничного поля.
Ранульф, резко засмеявшись, вскричал:
– Там нет черных грачей; все птицы – золотые!
Мастер Натаниэль нахмурился: он терпеть не мог такого рода вещей. Но он решил это проигнорировать и продолжать разговор в том на правлении, которое действительно вызывало у него сочувствие.
– Брось, сынок, – продолжал он с мягкой иронией в голосе, – скажи себе, что завтра все пройдет. Ты же не думаешь, что ты один такой, ведь правда? Временами мы все переживаем подобное, но не позволяем этому одержать верх над собой, не позволяем себе хандрить и тосковать и не вешаем нос. Мы приклеиваем на лицо улыбку и идем по своим делам.
Эти слова переполнили мастера Натаниэля самодовольством. Раньше он никогда не задумывался над этим, но, оказывается, как благородно и молча страдал он все эти годы!
Ранульф сел на постели и смотрел на него с какой-то странной улыбкой.
– Со мной совсем не то, что с тобой, отец, – сказал он спокойно. Но вдруг разрыдался еще горше и рвущим душу голосом крикнул: – Я отведал волшебных фруктов!
При этих словах у мастера Натаниэля от ужаса комната поплыла перед глазами, и он окончательно потерял голову. Громко призывая госпожу Златораду, он бросился на лестницу.
– Златорада! Златорада! Златорада!
С испуганным криком госпожа Златорада заспешила вверх по лестнице:
– Что случилось, Нат? О, дорогой! Что случилось?
– Поторапливайся, клянусь Урожаем Душ! Поторапливайся! Мальчишка говорит, что ел… ну, то, что мы не называем. Проклятье! Я с ума сойду!
Госпожа Златорада заметалась вокруг Ранульфа, как квочка. Однако в ее голосе совсем не было прежней нежности, когда она закричала:
– Ах, Ранульф! Негодный мальчишка! О Господи, это же чудовищно! Нат! Нат! Что же нам делать?
Ранульф отпрянул от нее и бросил умоляющий взгляд на отца. Мастер Натаниэль решительно взял жену за плечи и, вытолкнув из комнаты, воскликнул:
– Если это все, что ты можешь сказать, лучше предоставь мальчишку мне!
Спускаясь по лестнице, госпожа Златорада была преисполнена ужаса и высокомерия; с болью в сердце, каждой своей клеточкой ощущая себя урожденной Виджил, она сердито бормотала себе под нос:
– Ох уж эти Шантиклеры!..
Итак, Шантиклеров постиг самый большой позор, какой только мог выпасть на долю порядочного семейства в Доримаре. Но мастер Натаниэль больше не сердился на Ранульфа. Что толку сердиться? Кроме того, еще и эта неожиданная нежность, переполнявшая его сердце, – у него не было сил противиться ей.
Постепенно он вытянул из мальчика всю историю. Оказалось, что несколько месяцев назад один скверный парень по имени Вилли Висп, некоторое время работавший на конюшне у мастера Натаниэля, дал Ранульфу ломтик какого-то незнакомого фрукта. Когда Ранульф съел его, Вилли Висп, разразившись издевательским смехом, выкрикнул:
– Ах, хозяин, то, что вы сейчас съели, было волшебным фруктом, и вы уже никогда не буде те таким, как раньше… Хо-хо-хох!
От этих слов Ранульфа охватил ужас и стыд!
– Но теперь я уже забыл о чувстве стыда, – сказал он отцу. – Единственное, что имеет для меня сейчас значение, – это уехать отсюда… туда, где тень и покой… и где я смогу раздобыть… еще фруктов.
Мастер Натаниэль тяжело вздохнул, но ничего не сказал, а только поглаживал маленькую горячую руку, которую держал в своей.
– Однажды, – продолжал сидевший в постели Ранульф, чьи щеки пылали, а глаза горели лихорадочным блеском, – средь бела дня я видел, как они танцевали в саду, я имею в виду Молчальников. Их предводитель, человек в зеленых одеждах, крикнул мне: «Эй, юный Шантиклер! Однажды я пришлю за тобой своего дудочника, и ты последуешь за ним!» Я часто вижу их тени у нас в саду, но их тени не похожи на наши, они как яркий свет, играющий на лужайке. И я уйду, уйду, уйду. Я уйду когда-нибудь, я знаю! – И в голосе его звучал не только испуг, но и торжество.
– Успокойся, сынок! – сказал мастер Натаниэль примирительно. – Я думаю, мы не позволим тебе уйти.
Но сердце его налилось свинцом.
– И с тех пор… с тех пор, как я попробовал волшебные фрукты, – продолжал Ранульф, – все пугает меня… наверное, не только с тех пор, потому что мне было страшно и раньше, но сейчас это намного хуже. Как с этим сыром сегодня вечером… Все, что угодно, может внезапно оказаться странным и ужасным. Но с той поры, как я попробовал фруктов, мне иногда кажется, что я понимаю, почему все это так ужасно. Вот как сегодня с этим сыром: я так испугался, что просто не мог больше выдержать ни минуты.
Мастер Натаниэль застонал. Он тоже испытывал страх из-за вполне обычных вещей.
– Отец, – сказал вдруг Ранульф. – Что ты слышишь в крике петуха?
Мастер Натаниэль вздрогнул. У него было такое ощущение, словно с ним заговорила его собственная душа.
– Что я в нем слышу?
Он замешкался. Никогда и ни с кем он не говорил о том, что происходило в его душе.
Он заговорил, и из-за огромного душевного усилия голос его слегка дрожал.
– Я слышу в нем, Ранульф, я слышу… что прошлого не вернуть, но мы должны помнить, что прошлое соткано из настоящего, а настоящее – оно всегда рядом. И еще: мертвые жаждут вернуться обратно на Землю, и…
– Нет! Нет! – раздраженно закричал Ранульф. – Я слышу в нем совсем другое. Он говорит мне, что я должен убежать… убежать от реальности… этой пронзительной реальности. Вот что он говорит мне!
– Нет, сынок, нет, – твердо сказал мастер Натаниэль. – Он совсем не говорит этого. Ты неправильно его понял.
И снова мальчик зарыдал.
– Ах, отец! – всхлипывал он. – Они преследуют меня все эти дни и ночи! Обними меня! Ну обними же меня!
С какой-то страстной нежностью (он никогда не подозревал, что способен на это чувство) мастер Натаниэль лег рядом и обнял хрупкое дрожащее тельце, бормоча слова любви и утешения.
Постепенно Ранульф перестал плакать и не заметно погрузился в сон.





