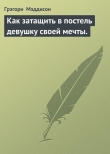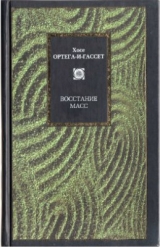
Текст книги "Восстание масс (сборник)"
Автор книги: Хосе Ортега-и-Гассет
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Такова жестокая реальность, увиденная во всей ее жестокости. И кроме того, невиданная прежде. Никогда еще наша цивилизация не переживала ничего похожего. Какое-то подобие можно найти только вне нашей истории, погружаясь в иную жизненную среду, во всем отличную от нашей, – в античный мир накануне упадка. История Римской империи тоже была историей ниспровержения, господства массы, которая поглотила правящее меньшинство, встала на его место. Возник феномен такой же стадности и скученности. Поэтому, как тонко подметил Шпенглер, здания стали гигантскими, наподобие наших. Эпоха масс – эпоха гигантомании [1]1
Трагично то, что с ростом этой скученности пустели села, и результатом было общее снижение численности имперского населения. – Примеч. автора.
[Закрыть].
Мы живем под жестокой властью масс. Итак, я уже дважды назвал ее жестокой, отдал дань риторике, и теперь, расплатившись, можно с билетом в руке и с легким сердцем вторгаться в сюжет и видеть действие изнутри. Да и мог ли бы я довольствоваться такой прописью, пусть и верной, но беглой, лишь одной стороной медали, где настоящее искажено обратной перспективой? Застрянь я на этом в ущерб моему исследованию, читатель решил бы – и с полным основанием, – что небывалое извержение масс на поверхность истории вдохновило меня лишь на пару враждебных и высокомерных фраз, частью брезгливых, частью возмущенных, – меня, известного своим сугубо аристократическим толкованием истории [2]2
См.: Espana invertebrada, 1920. – Примеч. автора.
[Закрыть].
Подчеркиваю, что я никогда не призывал общество стать аристократичным. Я утверждал нечто большее и продолжаю твердить, день ото дня убежденней, что человеческое общество всегда, хочет оно того или нет, аристократично по самой своей сути, чем оно аристократичней, тем в большей степени оно общество, как и наоборот. Само собой, я говорю об обществе, а не о государстве. В немыслимом водовороте масс никого не обманет и не сойдет за аристократизм легкая гримаска версальского щеголя. Версаль – речь именно о таком, жеманном Версале – это не аристократия, а полный ее антипод: это смерть и разложение прославленного аристократизма. Оттого-то единственно аристократическим у этих господ было то пленительное достоинство, с которым они склоняли голову перед гильотиной – они смирялись с ней, как смиряется опухоль с ланцетом. Нет, того, кто ощутил исконное призвание аристократа, зрелище масс будит и воспламеняет, как девственный мрамор – скульптора. У такой аристократии нет ничего общего с тем узким и замкнутым кланом, который называет себя всеобъемлющим словом «общество», присвоив его как имя, и живет единственной заботой – быть или не быть туда принятым. У этого «изысканного мирка» есть и свои сподвижники в мире внешнем, есть у него, как у всего на свете, и свои достоинства, и свое назначение, но назначение второстепенное и несопоставимое с титаническим призванием подлинной аристократии. Я не считаю предосудительным говорить о смысле этой изысканной жизни, отнюдь не бессмысленной, но сейчас предмет разговора у нас иной и совсем иных масштабов. Да, кстати, и само это «избранное общество» следует духу времени. Я невольно задумался, когда одна юная и сверхсовременная дама, звезда первой величины в светском небе Мадрида, призналась мне: «Я не терплю балов, где меньше восьмисот приглашенных». Эта фраза удостоверила меня, что массовый вкус торжествует во всех сферах жизни и утверждается даже в таких ее заповедных углах, которые предназначены, казалось бы, для happy few [3]3
немногих счастливцев (англ.).
[Закрыть].
В общем, я отвергаю и такой взгляд на современность, когда в господстве масс не видят ни единого доброго знака, и противоположный, когда блаженно потирают руки, умудряясь не вздрагивать от страха. Судьба всегда драматична, и в ее глубинах вечно зреет трагедия. Кто не испытывал озноба перед угрозой времени, тот не проникал никогда в глубь судьбы и лишь касался ее нежной оболочки. Что же до нас, то эту тень угрозы несет нам сокрушительный и свирепый бунт массовой морали, неотвратимый, неодолимый и темный, как сама судьба. Куда он заведет? На беду он или на благо? Вот он, огромный, изначально двойственный, нависший над веком, как гигантский, космический вопросительный знак, в котором действительно что-то есть от гильотины или виселицы, но и что-то еще, готовое стать триумфальной аркой!
В том процессе, который предстоит анализировать, можно выделить два момента: во-первых, сегодня массы достигли жизненного уровня, подобного тому, который прежде казался предназначенным лишь для немногих; во-вторых, массы вышли из повиновения, не подчиняются никакому меньшинству, не следуют за ним и не только не считаются с ним, но и вытесняют его и сами его замещают.
Начнем с первого утверждения. В нем говорится, что массы наслаждаются теми благами и пользуются теми достижениями, которые созданы избранным меньшинством и прежде принадлежали только ему. Стали массовыми те запросы и потребности, которые прежде считались утонченными, поскольку были достоянием немногих. Простой пример – в 1820 году в Париже не насчитывалось и десяти ванных комнат (см. мемуары графини де Буань). Больше того, сегодня массы довольно успешно овладевают и пользуются техникой, которая прежде требовала специалистов. И техникой, что особенно важно, не только материальной, но также юридической и социальной.
В XVIII веке определенные узкие круги открыли, что каждому человеку, без каких-либо оценок, один уже факт его появления на свет дает основные политические права, названные правами человека и гражданина, и что в действительности лишь эти всеобщие права и существуют. Все иные права, связанные с личными заслугами, осуждались как привилегии. Вначале это было идеей немногих и чистой теорией, но вскоре эти немногие, лучшие из немногих, стали воплощать свою идею в жизнь, утверждать и отстаивать ее. Однако в течение всего XIX века масса, вдохновляясь идеей всеобщих прав как идеалом, за собой этих прав не чувствовала, не пользовалась и не дорожила ими, а продолжала жить и ощущать себя в условиях демократии так же, как и до нее. «Народ» – так теперь в духе времени именовали массу, – «народ» уже знал, что он властитель, но сам в это не верил. Лишь сегодня идеал осуществился – и не в законодательстве, в этом поверхностном чертеже общественной жизни, а в сердце каждого человека независимо от убеждений, включая убежденных реакционеров; другими словами – включая тех, кто крушит и вдребезги разносит устои, обеспечившие ему всеобщие права. Этот моральный настрой массы крайне любопытен, и, по-моему, не разобравшись в нем, нельзя понять происходящего. Приоритет человека вообще, без примет и отличий, человека как такового, превратился из общей идеи или правового идеала в массовое мироощущение, во всеобщую психологическую установку. Заметим, что идеал, осуществляясь, перестает быть идеалом. Притягательность и магическая власть над человеком, присущие идеалу, исчезают. Уравнительные права, рожденные благородным демократическим порывом, из надежд и чаяний превращаются в вожделения и бессознательные домогательства.
Все так, но ведь смысл равноправия в том и состоял, чтобы вызволить человеческие души из внутреннего рабства и уверить их в собственном достоинстве и могуществе. Чего добивались? Чтобы простой человек ощутил себя господином своей судьбы? Цель достигнута. На что же так сетуют уже третье десятилетие либералы, демократы, прогрессисты? Или они, как дети, любят резвиться и не любят ушибаться? Хотелось, чтобы рядовой человек стал господином? Нечего тогда удивляться, что он живет для себя и в свое удовольствие, что он твердо навязывает свою волю, что он не терпит подчинения и не подчиняется никому, что он поглощен собой и своим досугом, что он кичится своей экипировкой. Все это исконно господские черты. Сегодня мы распознаем их в рядовом человеке, в массе.
Итак, в жизнь рядового человека вошло все то, что прежде отличало лишь самые верхи общества. Но рядовой человек и есть та поверхность, над которой зыблется история каждой эпохи; в истории он – то же самое, что уровень моря в географии. И если сегодня средний уровень достиг отметки, которой прежде касались лишь аристократы, надо честно признать, что уровень истории внезапно поднялся – подземный процесс был долгим, но итог его стремительный, не дольше жизни одного поколения. Человеческая жизнь, вся разом, пошла в гору. У рядовых современности много, так сказать, командирского; человеческое войско сегодня – сплошь офицеры. Достаточно видеть, как решительно, ловко и лихо каждый из них добивается успеха, срывает удовольствия и гнет свое.
Все блага и все беды настоящего и ближайшего будущего берут истоки в этом общем подъеме исторического уровня.
Невольно напрашивается одна мысль. То, что средний уровень жизни – уровень некогда элитарный, ново для Европы, но исконно для Америки. Чтобы ясней понять меня, обратитесь к осознанию своего равноправия. То психологическое состояние, когда человек сам себе хозяин и равен любому другому, в Европе обретали немногие и лишь особо выдающиеся натуры, но в Америке оно бытовало с XVIII века – по сути, изначально. И любопытное совпадение! Едва этот психологический настрой появился у рядового европейца, едва вырос общий его жизненный уровень, как тут же стиль и облик европейской жизни повсеместно приобрели черты, заставившие многих говорить: «Европа американизируется». Говорившие так не придавали переменам особого значения – они думали, что дело сводится к легкому подражанию чужим модам и нравам, и, обманутые внешним сходством, приписывали это бог весть какому американскому влиянию. И, на мой взгляд, упрощали проблему, которая гораздо глубже, тоньше и неординарней.
Из вежливости я мог бы сказать заокеанским гостям, что Европа действительно американизировалась и что причиной тому американское влияние. Но вежливость, увы, сталкивается с истиной и должна уступить. Европа не американизировалась. И даже не испытала заметного влияния Америки. То и другое, возможно, происходит сегодня, но отсутствовало в недавнем прошлом, из которого это «сегодня» возникло. Досадный груз ложных представлений мешает нам разглядеть и американцев, и европейцев. Торжеством масс и последующим сказочным подъемом жизненного уровня Европа обязана двухвековому внутреннему процессу – материальному обогащению общества, воспитанного прогрессистами. Но результат совпал с первостепенной чертой американского развития, и лишь по той причине, что моральное самочувствие рядового европейца совпало с американским, европейцу впервые стал понятен американский образ жизни, прежде для него темный и загадочный. Суть, таким образом, не в постороннем влиянии, не в чем-то отраженном, а гораздо неожиданней – суть в уравнивании.
Европейцы всегда смутно чувствовали, что средний уровень жизни в Америке выше, чем у них. Чувство, не слишком отчетливое, но очевидное, приводило к мысли, общепринятой и не подлежащей сомнению, что Америка – это будущее. Понятно, что столь расхожее и упорное мнение не занесено ветром, подобно орхидее, способной, по слухам, расти без корней. Его укрепляло именно это чувство превосходства среднего уровня заокеанской жизни, особенно ощутимое при большей состоятельности европейской элиты сравнительно с американской. Но история, как земледелие, зависит от долин, а не от пиков, от средних отметок общественной жизни, а не от перепада высот.
Мы живем в эпоху уравнивания – уравниваются богатства, уравнивается культура, уравнивается слабый и сильный пол. И точно так же уравниваются континенты. А поскольку европеец жизненно обретался ниже, от этой нивелировки он только выиграл. Под таким углом зрения нашествие масс выглядит как небывалый прилив жизненных сил и возможностей – вопреки всему, что твердят нам о закате Европы. Само это выражение темно и топорно, да и неясно, что имеется в виду – европейские государства, европейская культура или то, что подспудней и бесконечно важней, а именно – европейская жизненная сила. Что до государственности и культуры, о них еще зайдет речь – и, возможно, упомянутое выражение вполне пригодится, – но что касается жизненной энергии, то налицо грубейшая ошибка. Быть может, изложенное иначе, мое утверждение покажется более убедительным или хотя бы менее неправдоподобным: я утверждаю, что сегодня рядовой итальянец, рядовой испанец, рядовой немец по своему жизненному тонусу меньше отличаются от янки или аргентинца, чем тридцать лет назад. И американцам не следует забывать это обстоятельство.
III. Высота времениИтак, у господства масс есть и лицевая сторона медали, которая знаменует собой всеобщий пода>ем исторического уровня и означает, что обыденная жизнь сегодня выше вчерашней отметки. Это заставляет признать, что у жизни бывают разные высотные отметки, и вспомнить выражение, которое от бессмысленного употребления отнюдь не утратило смысла. Остановимся на нем, поскольку это поможет выявить одну неожиданную черту нашей эпохи.
Нередко, например, приходится слышать, что то или другое явление не на высоте своего времени. В самом деле, не абстрактное хронологическое время, линейное и ровное, а время живое, насущное, о котором каждое поколение говорит «наше время», всегда достигает какой-то высоты, сегодня превышает вчерашнюю, или удерживается на ней, или падает еще ниже. Ощущением этого и рожден образ падения – упадок. Точно так же каждый в отдельности с большей или меньшей остротой ощущает, насколько его жизнь соотносится с высотой выпавшего на его долю времени. И есть те, кто в современном мире чувствует себя утопающим, бессильным выбраться на поверхность. Быстрота, с которой все меняется, энергия и напор, с которыми все совершается, угнетают людей архаического склада, и степень угнетенности – это мера разлада их жизненного ритма с ритмом эпохи. С другой стороны, в сознании тех, кто охотно и полно живет настоящим, высота своего времени как-то соотносится с прежними временами. Как именно?
Неправда, что прошлое ниже настоящего лишь оттого, что оно прошло. Вспомним, что для Хорхе Манрике, как ему «мнилось»,
Всегда времена былые
Лучше, чем наши.
Но и это неправда. Не всегда настоящее ставилось ниже старины, и не всегда оно представлялось выше всего, что прошло и запомнилось. Высота, достигнутая жизнью, каждой эпохой ощущалась по-своему, и странно, что историки и философы прошли мимо столь очевидного и важного факта.
То чувство, которое выразил Манрике, явно преобладало, по крайней мере если брать его grosso modo [4]4
в общих чертах, в целом (ит.).
[Закрыть]. Чаше всего свое время не казалось лучшим. Наоборот, лучшими временами, пределом жизненной полноты представлялась человеку смутная древность: «золотой век», как говорим мы, вскормленные античностью; «аль-черинга», как говорят австралийские аборигены. Это свидетельствовало, что людям пульс их жизни казался вялым, недостаточно сильным и упругим, чтобы наполнить вены. Оттого они чтили старину, «славное» прошлое, когда жизнь – не в пример их собственной – была обильной, полной, бурной и прекрасной. Глядя вспять и воображая те счастливые времена, они смотрели на них не свысока, а, напротив, – снизу вверх, как смотрел бы температурный столбик, обладай он сознанием, на градус, которого недобрал, потому что не хватило калорий. Ощущение, что жизнь опускается, мельчает, съеживается, что пульс ее слабеет, с середины II века после Рождества Христова стало охватывать Римскую империю. Еще Гораций восклицал: «Наши отцы, недостойные дедов, еще худших отцов породили для недостойнейшего потомства» (Оды, книга III, б).
Aetas parentum peior avis tulit
nos nequiores, mox daturos
progeniem vitiosorem.
Два века спустя в империи уже не хватало достаточно храбрых италиков, чтобы занять места центурионов, и для этого пришлось нанимать далматов, а затем дунайских и рейнских варваров. Женщины тем временем обесплодели, а Италия обезлюдела.
Есть, однако, эпохи иного и, казалось бы, совершенно противоположного склада, опьяненные своим жизнеощущением. Речь идет о любопытном феномене, который крайне важно уяснить. Когда лет тридцать назад политики витийствовали перед толпой, они обычно клеймили очередной промах или произвол правительства словами: «Это недостойно нашего времени». Любопытно, что Траян в знаменитом письме Плинию, предписывая не преследовать христиан по анонимным доносам, употребил ту же самую фразу: «Nee nostri saeculi est». Следовательно, есть эпохи, которые чувствуют себя вознесенными на абсолютную и предельную высоту, времена, которые представляются исходом, исполнением надежд и свершением вековых устремлений. Это – «совершенное время», окончательная зрелость исторического бытия. Действительно, тридцать лет назад европейцы верили, что жизнь человечества становится наконец такой, какой она должна стать, какой мечтали ее видеть многие поколения и какой она останется навсегда. Совершенное время ощущает себя зенитом, вершиной стольких эпох несовершенных, предварительных, пробных, ступенька за ступенькой ведущих к этой зрелой полноте. С вершины кажется, что все предшествующее жило единственно лишь бесплотной мечтой и несбыточной надеждой, что это были времена неутоленной жажды, пламенных упований, вечного «доколе» и жестокого разлада мечты с явью. Таким виделось XIX веку Средневековье. И вот настает День, когда вековые, иногда тысячелетние чаяния, похоже, исполняются – жизнь вобрала их в себя и следует их воле. Мы на желанной вершине, у заветной цели, в зените времени! Вечное «доколе» преобразилось в «наконец-то».
Таким было жизнеощущение наших отцов и всего их века. Нельзя это забывать, ибо время миновало зенит. И у всех, кто душою там, в столь недавней полноте прошлого, наше время при взгляде на него с высокой колокольни должно неизбежно рождать иллюзию заката и упадка.
Но тому, кто искушен в истории, трезво вслушивается в ее пульс и не ослеплен воображаемой полнотой, обман зрения не грозит.
Как уже было сказано, самое существенное для «совершенного времени» – это удовлетворение давних нужд, тяжко и горестно длившихся веками и наконец-то утоленных. В результате такие времена испытывают чувство удовлетворенности, они довольны собой, а порой даже, как XIX век, слишком самодовольны [5]5
Перечтите удивительные страницы Гегеля о временах довольства в его «Философии истории». – Примеч. автора.
[Закрыть].
Но теперь-то мы видим, что эти времена, такие довольные, такие успешные, внутренне мертвы. Не в довольстве, не в успехе, не в достигнутой гавани истинная полнота жизни. Еще Сервантес говорил: «Дорога всегда лучше привала». Время, утолившее свою жажду, свою мечту, не ждет больше ничего, потому что истоки его стремлений иссякли. Иными словами, пресловутая полнота – это в действительности развязка. Есть эпохи, которые бессильны обновить свои запросы и умирают от удовлетворенности, как умирает после брачного полета довольный трутень [6]6
Надписи на монетах, отчеканенных при Алриане, единодушны: «Italia felix Saeculum aureum. Tellus stabilita. Temporum felicltas» («Счастливая Италия. Золотой век. Прочный мир. Счастливые времена»). Кроме большого нумизматического каталога Коэна, отдельные монеты воспроизведены у Ростовцева в «The social and economic history of the Roman Empire» (1926, табл. LII и с 588. прим. 6.). – Примеч. автора.
[Закрыть].
Надо ли удивляться, что времена упомянутой полноты неизменно таят на дне характерный осадок особой, присущей им унылости.
Мечтой, так долго остававшейся подспудной и лишь в XIX веке как будто бы воплощенной, было то, что емко само себя окрестило «современной культурой». Определение настораживает. Время именует себя «современностью», то есть окончательной и полной завершенностью, для которой все иные времена – прошедшие, все они лишь подступы и порывы к ней! Жалкие, вслепую пущенные стрелы [7]7
Исходное значение слова «современность», которым нарекло себя время, предельно выражает обрисованное мною ощущение «зенита». Современно то, что соответствует времени, воспринятому как совершенно новое, как такое настоящее, которое идет вразрез со всем устоявшимся, традиционным и оставленным далеко позади. Слово «современный», таким образом, заключает в себе понятие новой жизни, превосходящей прежнюю, и требование быть на высоте времени. Не быть «современным» равносильно падению, утрате исторического уровня. – Примеч. автора.
[Закрыть]!
Не здесь ли пролегает граница между нашим и таким недавним, но уже вчерашним днем? В самом деле, наше время не чувствует себя окончательным – напротив, в основе его лежит ощущение, что времен окончательных, надежных, раз навсегда установленных не бывает, а притязания жизненного уклада, именуемого «современной культурой», на окончательность нам кажутся непонятным ослеплением и крайней узостью кругозора. И мы облегченно чувствуем, что вырвались из тесного и безвыходного загона в бескрайний звездный мир, настоящий, грозный, непредсказуемый и неистощимый, где возможно все – от наилучшего до наихудшего.
Вера в современную культуру была унылой: безрадостно знать, что завтрашний день в основном повторит сегодняшний, что прогресс – это шаг за шагом по дороге, неотличимой от уже пройденной. Такая дорога больше смахивает на тюрьму, которая растягивается, как резина, не выпуская на волю.
Когда в молодой еще империи какой-нибудь одаренный провинциал – скажем, Лукан или Сенека – попадал в Рим и видел величественные имперские сооружения, сердце его сжималось. Ничего нового не могло уже произойти в мире. Рим был вечен. И если есть уныние руин, нависшее над ними, как туман над болотом, то чуткий провинциал ощущал такой же тяжкий гнет, но с обратным знаком – уныние вечных стен.
Сравнительно с этим не выглядит ли наше мироощущение шумной радостью детей, сбежавших из школы? Одному Богу известно, что будет завтра, и это тайно радует нас, потому что лишь в открытой дали, где все нежданно, все возможно, и есть настоящая жизнь, подлинная полнота жизни.
Такая картина – разумеется, половинчатая – расходится с теми слезливыми жалобами на упадок, которыми изводят нас писания современников. Дело тут в обмане зрения, у которого много причин. О них поговорим позже, а сейчас упомяну лишь самую явную. Следуя идеологии, на мой взгляд рискованной, в истории видят только политику или культуру, не замечая, что это лишь поверхность, а глубинная реальность истории – прежде всего биологическая мощь, нечто от энергии космической: чистейшая жизненная сила, если не тождественная, то родственная той, что движет моря, плодит земную тварь, раскрывает цветы и зажигает звезды.
Предлагаю диагностам упадка следующие соображения.
Упадок, бесспорно, понятие сравнительное. Падают сверху вниз, из высшего состояния в низшее. А сравнивать можно с разных и каких угодно точек зрения. Для изготовителя янтарных мундштуков мир явно в упадке, поскольку мундштуками уже не пользуются. Возможны точки зрения поосновательней, но оттого они не становятся менее частными, произвольными и сторонними той жизни, чье достоинство придирчиво оценивают. Есть лишь одна оправданная и естественная точка зрения – окунуться в жизнь и, увидев ее изнутри, судить, ощущает ли она себя упадочной, то есть немощной, пресной и скудной.
Но как распознать, даже при взгляде изнутри, ощущает себя жизнь упадочной или нет? Решающий признак для меня бесспорен: ту жизнь, которая не завидует никакой другой и, следовательно, из всех, когда-либо бывших, предпочитает себя, никоим образом нельзя всерьез называть упадочной. К этому и вели мои рассуждения о «высоте своего времени». Ибо именно нашему выпало жизнеощущение редкостное и, насколько могу судить, небывалое в истории.
В салонах прошлого века неминуемо наступала минута, когда дамы и дамские поэты задавали друг другу фатальный вопрос: «В какие времена вам хотелось бы жить?» И вот каждый, взвалив на плечи муляж собственной жизни, пускался мысленно бродить по дорогам истории в поисках эпохи, где данный слепок пришелся бы как нельзя кстати. А это значит, что пресловутый девятнадцатый век, при всем сознании своего совершенства – а может быть, в силу такого сознания, – был неотделим от прошлого, чьи плечи ощущал под собой; по сути, он видел в себе осуществленное прошлое. Отсюда его вера в образцовые, пусть и с оговорками, времена – век Перикла, Ренессанс – те, что готовили ему почву. И отсюда наша недоверчивость к эпохам свершений: полуобернутые вспять, они движутся с оглядкой на прошлое, которое осуществляют.
А теперь задайте упомянутый вопрос человеку вполне современному. Готов поручиться, что прошлые века, все без исключения, показались бы ему тесным загоном, где трудно дышать. Значит, сегодняшний человек ощущает в себе больше жизни, чем ощущали встарь, или, другими словами, все прошлое целиком, от начала до конца, слишком мало для современного человечества. Такое жизнеощущение сводит на нет все рассуждения об упадке.
Прежде всего наша жизнь чувствует себя огромней любой другой. Какой же тут упадок? Наоборот, чувство превосходства лишает ее уважения и даже внимания к былому. Впервые в истории возникает эпоха без эталонов, которая не видит позади ничего образцового, ничего приемлемого для себя, – прямая наследница стольких веков, она тем не менее похожа на вступление, на рассвет, на детство. Мы озираемся, и прославленный Ренессанс нам кажется провинциальным, узким, кичливым и – что греха таить – вульгарным.
Все это мне уже довелось подытожить так: «Жестокий разрыв настоящего с прошлым – главный признак нашей эпохи, и похоже, что он-то и вносит смятение в сегодняшнюю жизнь. Мы чувствуем, что внезапно стали одинокими, что мертвые умерли всерьез, навсегда и больше не могут нам помочь. Следы духовной традиции стерлись. Все примеры, образцы, эталоны бесполезны. Все проблемы, будь то в искусстве, науке или политике, мы должны решать только в настоящем, без участия прошлого. Лишенный своих бессмертных мертвых, европеец одинок; подобно Петеру Шлемилю, он утратил тень. Именно это случается в полдень» [8]8
См. мою работу «Дегуманизация искусства» – Примеч. автора.
[Закрыть].
Какова же в итоге высота нашего времени?
Это не зенит, и тем не менее такого ощущения высоты не было никогда. Нелегко определить, какой видит себя наша эпоха: она и убеждена, что выше всех, и одновременно чувствует себя началом, и не уверена, что это не начало конца. Как бы это выразить? Может быть, так: она выше любой другой и ниже самой себя. Она могуча и не уверена в себе. Горда и напугана собственной мощью.