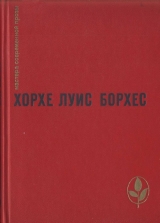
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Хорхе Луис Борхес
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
ТЕМА ПРЕДАТЕЛЯ И ГЕРОЯ **
© Перевод Е. Лысенко
So the Platonic Year
Whirls out new right and wrong,
Whirls in the old instead;
All men are dancers and their tread
Goes to the barbarous clangour of a gong.
Под явным влиянием Честертона (изобретателя и разгадчика изящных тайн) и надворного советника Лейбница (придумавшего предустановленную гармонию) я вообразил себе нижеследующий сюжет, который, возможно, разовью в свободные вечера, но который и в этом виде в какой-то мере оправдывает мое намерение. Мне недостает деталей, уточнений, проверок; целые зоны этой истории от меня еще скрыты; сегодня, 3 января 1944 года, она видится мне так.
Действие происходит в некоей угнетаемой и упрямой стране: Польше, Ирландии, Венецианской республике, каком-нибудь южноамериканском или балканском государстве… Вернее сказать, происходило, ибо, хотя рассказчик наш современник, сама-то история произошла в начале или во второй четверти XIX века. Возьмем (ради удобства изложения) Ирландию; возьмем год 1824-й. Рассказчика зовут Райен, он правнук юного, героического, красивого, застреленного Фергюса Килпатрика, чья могила подверглась загадочному ограблению, чье имя украшает стихи Браунинга и Гюго, чья статуя высится на сером холме посреди рыжих болот.
Килпатрик был заговорщиком, тайным и славным вождем заговорщиков; подобно Моисею, который с земли моавитской видел вдали землю обетованную, но не смог ступить на нее, Килпатрик погиб накануне победоносного восстания, плода его дум и мечтаний. Близится дата первого столетия со дня его гибели; обстоятельства убийства загадочны; Райен, посвятивший себя созданию биографии героя, обнаруживает, что загадка убийства выходит за пределы чисто уголовного дела. Килпатрика застрелили в театре; британская полиция убийцу так и не нашла; историки заявляют, что эта неудача отнюдь не омрачает ее славу, так как убийство, возможно, было делом рук самой полиции. Райена смущают и другие грани загадки. Они отмечены элементами цикличности: в них словно бы повторяются или комбинируются факты из разных отдаленных регионов, отдаленных эпох. Так, всем известно, что сбиры, произведшие осмотр трупа героя, нашли невскрытое письмо, предупреждавшее об опасности появления в театре в этот вечер; также Юлий Цезарь, направляясь туда, где его ждали кинжалы друзей, получил донесение с именами предателей, которое не успел прочитать. Жена Цезаря Кальпурния видела во сне, что разрушена башня, которой Цезаря почтил сенат; ложные анонимные слухи накануне гибели Килпатрика разнесли по всей стране весть о пожаре в круглой башне в Килгарване, что могло показаться предзнаменованием, ибо Килпатрик родился в Килгарване. Эти аналогии (и другие) между историей Цезаря и историей ирландского заговорщика приводят Райена к предположению об особой, нам неведомой форме времени, об узоре, линии которого повторяются. Ему приходит на ум децимальная схема, изобретенная Кондорсе; также морфологии истории, предложенные Гегелем, Шпенглером и Вико; человечество Гесиода, вырождающееся в движении от золотого века к железному. Ему приходит на ум учение о переселении душ, которое окружало ужасом кельтские письмена и которое сам Цезарь приписывал британским друидам; он думает, что Фергюс Килпатрик, прежде чем быть Фергюсом Килпатриком, был Юлием Цезарем. Из этого циклического лабиринта выводит Райена одно любопытное совпадение, но такое совпадение, которое тотчас заводит его в другие лабиринты, еще более запутанные и разнородные; слова какого-то нищего, заговорившего с Фергюсом Килпатриком в день его смерти, были предсказаны Шекспиром в трагедии «Макбет». Чтобы история подражала истории, одно это достаточно поразительно; но чтобы история подражала литературе, это и вовсе непостижимо… Райен обнаружил, что в 1814 году Джеймс Алегзандер Нолан, самый старый друг героя, перевел на гаэльский главные драмы Шекспира, и среди них «Юлия Цезаря». Он также нашел в архивах рукопись статьи Нолана о швейцарских «Festspiele»[94]94
«Праздничные действа» (нем.).
[Закрыть], многочасовых кочующих театральных представлениях, которые требуют тысяч актеров и повторяют исторические эпизоды в тех же городах и горах, где они происходили. Другой неизданный документ открывает ему, что Килпатрик, за несколько дней до кончины, председательствуя на своем последнем заседании, подписал смертный приговор предателю, чье имя было зачеркнуто. Такой приговор никак не согласуется с милосердным нравом Килпатрика. Райен исследует дело (его исследования – один из пробелов в сюжете), и ему удается разгадать тайну.
Килпатрика прикончили в театре, но театром был также весь город, и актеров там был легион, и драма, увенчавшаяся его смертью, охватила много дней и много ночей. Вот что произошло:
2 августа 1824 года состоялась встреча заговорщиков. Страна созрела для восстания, однако что-то все же не ладилось: среди заговорщиков был предатель. Фергюс Килпатрик поручил Джеймсу Нолану найти предателя. Нолан поручение исполнил: при всех собравшихся он заявил, что предатель – сам Килпатрик. Неопровержимыми уликами он доказал истинность обвинения; заговорщики присудили своего вождя к смерти. Он сам подписал свой приговор, но просил, чтобы его казнь не повредила родине.
Тогда у Нолана возник необычный замысел. Ирландия преклонялась перед Килпатриком; малейшее подозрение в измене поставило бы под угрозу восстание; по плану Нолана казнь предателя должна была способствовать освобождению родины. Он предложил, чтобы осужденный погиб от руки неизвестного убийцы при нарочито драматических обстоятельствах, которые врежутся в память народную и ускорят восстание. Килпатрик дал клятву участвовать в этом замысле, который предоставлял ему возможность искупить вину и будет подкреплен его гибелью.
Времени оставалось мало, и Нолан не успел сам изобрести все обстоятельства сложного представления: пришлось совершить плагиат у другого драматурга, у врага-англичанина Уильяма Шекспира. Он повторил сцены «Макбета», «Юлия Цезаря». Публичное и тайное представление заняло несколько дней. Осужденный приехал в Дублин, беседовал с людьми, действовал, молился, негодовал, произносил патетические слова, и каждый из его поступков, которые затем подхватит слава, был предусмотрен Ноланом. Сотни актеров помогали игре протагониста; у некоторых роль была сложной, у других – мимолетной. Их слова и дела запечатлены в исторических книгах, в пылкой памяти Ирландии. Килпатрик, увлеченный этой тщательно разработанной ролью, которая его и обеляла, и губила, не однажды обогащал текст своего судьи импровизированными поступками и словами. Так развертывалась во времени эта многолюдная драма вплоть до 6 августа 1824 года, когда в ложе с траурными портьерами, предвещавшей ложу Линкольна, долгожданная пуля пробила грудь предателя и героя, который, захлебываясь кровью, хлынувшей из горла, едва успел произнести несколько предписанных ролью слов.
В произведении Нолана пассажи, подражающие Шекспиру, оказались менее драматичны; Райен подозревает, что автор вставил их, дабы в будущем кто-нибудь угадал правду. Райен понимает, что и он также является частью замысла Нолана… После долгих раздумий он решает о своем открытии умолчать. Он издает книгу, прославляющую героя: возможно, и это было предусмотрено.
СМЕРТЬ И БУССОЛЬ **
© Перевод Е. Лысенко
Посвящается Мандие Молина Ведиа
Из многих задач, изощрявших дерзкую проницательность Лённрота, не было ни одной столь необычной – даже вызывающе необычной, – как ряд однотипных кровавых происшествий, достигших кульминации на вилле «Трист-ле-Руа» среди неизбывного аромата эвкалиптов. Правда, последнее преступление Эрику Лённроту не удалось предотвратить, но несомненно, что он его предвидел. Также не сумел он идентифицировать личность злосчастного убийцы Ярмолинского, зато угадал таинственную систему преступного цикла и участие Реда Шарлаха, имевшего кличку Шарлах Денди. Этот преступник (как многие другие) поклялся честью, что убьет Лённрота, но тот никогда не давал себя запугать. Лённрот считал себя чистым мыслителем, неким Огюстом Дюпеном, но была в нем и жилка авантюриста, азартного игрока.
Первое преступление произошло в «Отель дю Нор» – высоченной призме, господствующей над устьем реки, воды которой имеют цвет пустыни. В эту башню (так откровенно сочетающую отвратительную белизну санатория, нумерованное однообразие тюремных клеток и общий отталкивающий вид) третьего декабря прибыл делегат из Подольска на Третий конгресс талмудистов, доктор Марк Ярмолинский, человек с серой бородой и серыми глазами. Мы никогда не узнаем, понравился ли ему «Отель дю Нор»; он принял отель безропотно, с присущей ему покорностью, которая помогла ему перенести три года войны в Карпатах и три тысячи лет угнетения и погромов. Ему дали однокомнатный номер на этаже R, напротив suite[95]95
Номер из нескольких комнат (франц.).
[Закрыть], который не без шика занимал тетрарх Галилеи. Ярмолинский поужинал, отложил на следующий день осмотр незнакомого города, поместил в placard[96]96
Стенной шкаф (франц.).
[Закрыть] большое количество своих книг и весьма мало одежды и еще до полуночи погасил свет. (Таково свидетельство шофера тетрарха, спавшего в соседнем номере.) Четвертого декабря в 11 часов 3 минуты утра ему позвонил по телефону редактор «Идише цайтунг»; доктор Ярмолинский не ответил; его нашли в номере со слегка уже потемневшим лицом, почти голого под широким старомодным халатом. Он лежал недалеко от двери, выходившей в коридор, его грудь была глубоко рассечена ударом ножа. Несколько часов спустя в том же номере среди газетчиков, фотографов и жандармов комиссар Тревиранус и Лённрот невозмутимо обсуждали загадочное убийство.
– Нечего тут мудрить и строить догадки, – говорил Тревиранус, величественно потрясая сигарой. – Всем нам известно, что у тетрарха Галилеи лучшие в мире сапфиры. Чтобы их украсть, кто-то наверно по ошибке забрался сюда. Ярмолинский проснулся, вор был вынужден его убить. Как вы считаете?
– Это правдоподобно, но это не интересно, – ответил Лённрот. – Вы мне возразите, что действительность не обязана быть интересной. А я вам скажу, что действительность, возможно, и не обязана, но не гипотезы. В вашей импровизированной гипотезе слишком большую роль играет случайность. Перед нами мертвый раввин, и я предпочел бы чисто раввинское объяснение, а не воображаемые неудачи воображаемого грабителя.
Тревиранус с досадой ответил:
– Меня не интересуют раввинские объяснения, меня интересует поимка человека, который заколол другого, никому не известного.
– Не такого уж неизвестного, – поправил Лённрот. – Вот полное собрание его сочинений. – Он указал на полку стенного шкафа, где стояли высокие тома: «Защита Каббалы», «Обзор философии Роберта Фладда», буквальный перевод «Сефер Йецира»[97]97
«Книга творения» (древн. евр.).
[Закрыть], «Биография Баал-Шема», «История секты хасидов», монография (на немецком) о Тетраграмматоне[98]98
«Четырехбуквие» (греч.).
[Закрыть] и другая монография – о наименованиях Бога в Пятикнижии. Комиссар взглянул на них со страхом, чуть не с отвращением. Потом рассмеялся.
– Я всего лишь жалкий христианин, – сказал он. – Берите себе весь этот хлам, если хотите. У меня нет времени разбираться в еврейских суевериях.
– Возможно, что это преступление относится как раз к истории еврейских суеверий, – пробормотал Лённрот.
– Как и христианство, – осмелился дополнить редактор «Идише цайтунг». Он был близорук, очень робок и не верил в Бога. Один из полицейских обнаружил на маленькой пишущей машинке лист бумаги с бессмысленной фразой:
«Произнесена первая буква Имени».
Лённрот и не подумал улыбнуться. Внезапно став библиофилом, гебраистом, он приказал, чтобы книги убитого упаковали, и унес их в свой кабинет. Отстранясь от ведения следствия, он углубился в их изучение. Одна из книг (большой ин-октаво) ознакомила его с учением Исраэля Баал-Шем-Това, основателя секты благочестивых; другая – с могуществом и грозным действием Тетраграмматона, каковым является непроизносимое Имя Бога; еще одна – с тезисом, что у Бога есть тайное имя, в котором заключен (как в стеклянном шарике, принадлежавшем, по сказаниям персов, Александру Македонскому) его девятый атрибут, вечность – то есть полное знание всего, что будет, что есть и что было в мире. Традиция насчитывает девяносто девять имен Бога, гебраисты приписывают несовершенство этого числа магическому страху перед четными числами, хасиды же делают отсюда вывод, что этот пробел указывает на существование сотого имени – Абсолютного Имени.
От этих ученых штудий Лённрота через несколько дней отвлекло появление редактора «Идише цайтунг». Редактор хотел поговорить об убийстве, Лённрот предпочел порассуждать об именах Бога; затем редактор в трех колонках сообщил, что следователь Эрик Лённрот занялся изучением имен Бога, чтобы таким путем найти имя убийцы. Лённрот, привыкший к газетным упрощениям, не возмутился. Один из тех коммерсантов, которые открыли, что любого человека можно заставить купить любую книгу, опубликовал популярное издание «Истории секты хасидов».
Второе преступление произошло ночью третьего января в самом заброшенном и голом из пустынных западных предместий столицы. Перед рассветом один из конных жандармов, объезжающих эти пустыри, увидел на пороге старой красильни человека в пончо. Затвердевшее лицо было, как маской, покрыто кровью; грудь глубоко рассечена ударом ножа. На стене, над желтыми и красными ромбами, было написано мелом несколько слов. Жандарм их разобрал… Под вечер Тревиранус и Лённрот направились на это отдаленное место преступления. Слева и справа от их машины город постепенно сходил на нет: все огромней становился небосвод, и дома все меньше привлекали внимание, зато взгляд задерживался на какой-нибудь сложенной из кирпича печке или стройном тополе. Наконец они прибыли по скорбному адресу: окраинная улочка посреди розоватых глиняных оград, которые словно отражали чудовищно яркий заход солнца. Труп уже был опознан. Это был Симон Асеведо, человек, пользовавшийся некоторой известностью в старых северных кварталах, – сначала возчик, потом наемный драчун в предвыборных кампаниях, он опустился до ремесла вора и даже доносчика. (Особый стиль убийства показался обоим следователям вполне адекватным. Асеведо был последним представителем того поколения бандитов, которое охотнее орудовало ножом, чем револьвером.) Мелом были написаны следующие слова:
«Произнесена вторая буква Имени».
Третье преступление произошло в ночь на третье февраля. Около часа ночи в кабинете комиссара Тревирануса зазвонил телефон. Гортанный мужской голос, в котором корысть прикрывалась таинственностью, сказал, что зовут его Гинзберг (или Гинзбург) и что он готов, за должное вознаграждение, сообщить факты, касающиеся обоих убийств – Асеведо и Ярмолинского. Беспорядочные свистки и звуки рожков заглушили голос доносчика. Потом связь прервалась. Не исключая возможности, что это шутка (как-никак была пора карнавала), Тревиранус установил, что с ним говорили из «Ливерпуль-хауз», таверны на Рю-де-Тулон, злачной улице, где сосуществуют косморама и молочная, публичный дом и продавцы Библии. Тревиранус позвонил хозяину таверны. Хозяин (Блэк Финнеген, ирландец и бывший преступник), огорченный и удрученный тревогой за свою репутацию, сказал, что последний, кто пользовался телефоном таверны, был его постоялец, некий Грифиус, и что он только недавно вышел с приятелями. Тревиранус немедля отправился в «Ливерпуль-хауз». Хозяин сообщил следующее: неделю тому назад Грифиус снял комнату над баром; у него тонкие черты, тусклая седая борода, одет бедно, в черное; Финнеген (предназначавший это помещение для других целей, о чем Тревиранус догадался), запросил явно чрезмерную плату; Грифиус немедленно уплатил требуемую сумму. Он почти не выходит, ужинает и обедает у себя в комнате, в баре его вряд ли знают в лицо. Вечером он спустился вниз, чтобы позвонить из конторы Финнегена, в это время возле таверны остановился закрытый двухместный экипаж. Возчик не сошел с облучка, но кое-кто из посетителей заметил, что он был в маске медведя. Из экипажа вышли два арлекина – оба невысокого роста, и всякий бы сказал, что они здорово выпили. Под вой рожков они ввалились в контору Финнегена, кинулись обнимать Грифиуса, который как будто их узнал, но отвечал им холодно; они обменялись несколькими словами на идиш – он низким, гортанным голосом, они фальшивыми, высокими голосами – и все трое поднялись в его комнату. Через четверть часа спустились, очень веселые. Грифиус шатался и был с виду так же пьян, как те двое. Высокий, покачивающийся, он шел между двумя арлекинами в масках. (Женщина из бара вспомнила желтые, красные и зеленые ромбы на их одежде.) Грифиус дважды споткнулся. Оба раза арлекины его подхватили. Все трое сели в экипаж и поехали в направлении близлежащей гавани, имеющей прямоугольную форму. Уже стоя на подножке экипажа, поднявшийся последним арлекин нацарапал мелом на одном из столбов подъезда непристойный рисунок и какую-то фразу.
Тревиранус прочел написанное. Как можно было предвидеть, надпись гласила:
«Произнесена последняя буква Имени».
Затем он осмотрел комнатку Грифиуса-Гинзберга. На полу звездой расплылось пятно крови, в углах валялись окурки сигарет венгерской марки, в шкафу стояла книга на латинском языке «Philologus hebraeograecus»[99]99
«Еврейско-греческий филолог» (лат.).
[Закрыть] (1739) Лейсдена с несколькими от руки сделанными пометками. Тревиранус негодующе поглядел на нее и послал за Лённротом. Тот, даже не сняв шляпы, принялся листать книгу, пока комиссар допрашивал противоречивших друг другу свидетелей предполагаемого похищения. В четыре часа оба вышли. На извилистой Рю-де-Тулон, ступая по неубранному с утра серпантину, Тревиранус сказал:
– А если происшествие нынешней ночи – просто симуляция?
Эрик Лённрот усмехнулся и с полной серьезностью прочитал вслух пассаж (им подчеркнутый) из тридцать третьего рассуждения «Philologus»:
– Dies Judaeorum incipit ad solis occasu usque ad solis occasum diei sequentis. Это значит, – добавил он, – у евреев день начинается с заката солнца и длится до заката солнца следующего дня.
Его спутник попытался съязвить.
– И это самые ценные сведения, которые вы нынче вечером раздобыли?
– Нет. Более ценно одно слово, сказанное Гинзбергом.
Вечерние газеты не обошли молчанием эти периодически повторявшиеся убийства. «Крест на Мече» противопоставил им великолепную дисциплину и порядок на последнем Конгрессе отшельников; Эрнст Паласт в «Мученике» осудил «недопустимую медлительность подпольного, жалкого погрома, которому понадобилось три месяца для ликвидации трех евреев»; «Идише цайтунг» отвергла ужасающую гипотезу об антисемитском заговоре, «хотя многие проницательные умы не видят другого объяснения этой тройной тайны»; самый знаменитый из наемных убийц Юга, Денди Ред Шарлах, поклялся, что убийства такого рода в его районе никогда не совершались, и обвинил комиссара Франца Тревирануса в преступной халатности.
Вечером первого марта комиссар получил запечатанный конверт. Комиссар вскрыл его: в нем было письмо с подписью «Барух Спиноза» и подробный план города, явно выдранный из какого-то путеводителя. В письме предсказывалось, что третьего марта четвертое убийство не совершится, ибо красильня на востоке города, таверна на Рю-де-Тулон и «Отель дю Нор» были «идеальными вершинами мистического равностороннего треугольника»; красными чернилами на плане была показана правильность этого треугольника. Тревиранус безропотно прочитал это доказательство de more geometrico[100]100
Геометрическим способом (лат.).
[Закрыть] и отослал письмо и план Лённроту домой – такую белиберду только ему и разбирать.
Эрик Лённрот внимательно изучил присланное. Три указанные точки действительно находились на равных расстояниях. Симметрия во времени (3 декабря, 3 января, 3 февраля), симметрия в пространстве. Вдруг он почувствовал, что сейчас разгадает тайну. Это интуитивное озарение дополнили компас и буссоль. Он усмехнулся, произнес слово «Тетраграмматон» (недавно усвоенное) и позвонил комиссару.
– Благодарю, – сказал он, – за равносторонний треугольник, который вы мне вчера прислали. Он помог мне решить задачу. Завтра же, в пятницу, преступники будут за решеткой. Мы с вами можем спокойно спать.
– Стало быть, они четвертое убийство не замышляют?
– Именно потому, что они замышляют четвертое убийство, мы можем быть вполне спокойны. – И Лённрот повесил трубку.
Час спустя он ехал в поезде Южных железных дорог по направлению к заброшенной вилле «Трист-ле-Руа». На южной окраине города, о котором идет речь, протекает грязный ручей с мутной, глинистой водой, полной отбросов и мусора. За ручьем находится фабричное предместье, где под крылышком своего главаря-барселонца процветают наемные убийцы. Лённрот усмехнулся при мысли, что самый знаменитый из них – Ред Шарлах – все бы отдал, чтобы узнать о его тайной поездке. Асеведо был дружком Шарлаха. Лённрот предположил возможность того, что четвертой жертвой будет Шарлах. Затем он ее отверг… В принципе он задачу решил; конкретные обстоятельства, факты (имена, аресты, физиономии, судебные и тюремные подробности) его теперь почти не интересовали. Ему хотелось погулять, хотелось отдохнуть после трех месяцев, проведенных за столом в изучении дела. Он рассудил, что объяснение убийств содержится в анонимно присланном треугольнике и в одном пылью древности покрытом греческом слове. Тайна была для него ясна, как кристалл, он даже покраснел, что ухлопал на нее сто дней.
Поезд остановился на тихой товарной станции. Лённрот вышел из вагона. Стоял один из тех безлюдных мирных вечеров, которые напоминают утро. Воздух на затуманенной равнине был сырой и холодный. Лённрот зашагал по дороге. Он увидел собак, увидел стоявший в тупике товарный вагон, увидел горизонт, увидел серебристую лошадь, которая пила из лужи вонючую воду. Уже темнело, когда вдали показался четырехугольный бельведер виллы «Трист-ле-Руа», почти такой же высокий, как окружавшие его эвкалипты. Лённрот подумал, что всего лишь один рассвет и один закат (извечная заря на востоке и другая заря на западе) отделяют его от часа, желанного для искателей Имени.
Неровный периметр усадьбы очерчивала заржавевшая железная ограда. Главные ворота были заперты. Не слишком надеясь на то, что удастся войти, Лённрот обогнул всю усадьбу. Очутившись опять перед неприступными воротами, он почти машинально просунул руку меж прутьями и наткнулся на засов. Скрип железа был для него неожиданностью. Медленно, натужно поддались его усилиям и ворота.
Лённрот пошел по аллее между эвкалиптами, топча многие поколения жестких красных листьев. Вблизи вилла «Трист-ле-Руа» поражала бессмысленной симметрией и маниакальной повторяемостью украшений: ледяной Диане в одной мрачной нише соответствовала в другой нише другая Диана; одному балкону как бы служил отражением другой балкон; два марша парадной лестницы поднимались с двух сторон к двум балюстрадам. Отбрасывал огромную тень Гермес с двумя лицами. Лённрот обошел кругом весь дом, как прежде – усадьбу. Он осмотрел все, и под высокой террасой заметил узкую штору.
Лённрот отвел штору: за нею было несколько мраморных ступеней, ведших в подвал. Уже догадываясь о вкусах архитектора, Лённрот предположил, что в противоположной стене подвала будут такие же ступени. Он и впрямь их нашел, поднялся и, упершись руками в потолок, открыл крышку люка и вышел.
Слабое сияние привело его к окну. Он распахнул окно: желтая круглая луна четко освещала запущенный сад с двумя недействующими фонтанами. Лённрот обследовал дом. Через прихожие и галереи он выходил в одинаковые патио и несколько раз оказывался в одном и том же патио. По пыльным лестницам он поднимался в круглые передние, бесконечно отражался в противостоящих зеркалах, без конца открывал или приоткрывал окна, за которыми с разной высоты и под разным углом видел все тот же унылый сад; мебель в комнатах покрывали желтые чехлы, и их тарлатан обволакивала паутина. В одной из спален он задержался, в этой спальне в узкой фаянсовой вазе стоял один-единственный цветок; при первом прикосновении сухие лепестки рассыпались пылью. На третьем и последнем этаже дом показался Лённроту беспредельным и все разрастающимся. «Дом не так уж велик, – подумал он. – Это только кажется из-за темноты, симметричности, зеркал, запущенности, непривычной обстановки, пустынности».
По винтовой лестнице он поднялся на бельведер. Вечерняя луна светила сквозь ромбы окон – они были желтые, красные и зеленые. Лённрот остановился, пораженный странным, ошеломляющим воспоминанием.
Двое мужчин невысокого роста, но коренастых и свирепых набросились на него и обезоружили; третий, очень высокий, церемонно поклонился и сказал:
– Вы весьма любезны. Вы сберегли нам одну ночь и один день.
Это был Ред Шарлах. Те двое связали Лённроту руки. Он наконец обрел дар речи.
– Неужто, Шарлах, это вы ищете Тайное Имя?
Шарлах стоял, не отвечая. Он не участвовал в короткой схватке, только протянул руку, чтобы взять револьвер Лённрота. Но вот он заговорил; Лённрот услышал в его голосе усталую удовлетворенность победой, ненависть, безмерную как мир, и печаль, не менее огромную, чем ненависть.
– Нет, – сказал Шарлах. – Я ищу нечто более бренное и хрупкое, я ищу Эрика Лённрота. Три года тому назад в притоне на Рю-де-Тулон вы лично арестовали и засадили в тюрьму моего брата. Мои парни увезли меня после перестрелки с полицейской пулей в животе. Девять дней и девять ночей я умирал в этой безлюдной симметрической вилле; меня сжигала лихорадка, ненавистный двулобый Янус, который глядит на закаты и восходы, нагонял на меня ужас во сне и наяву. Я возненавидел свое тело, мне чудилось, что два глаза, две руки, два легких – это так же чудовищно, как два лица. Один ирландец пытался обратить меня в веру Христову, он твердил мне изречение «гоим»[101]101
Неевреев (иврит).
[Закрыть]: «все дороги ведут в Рим». Ночью я бредил этой метафорой, я чувствовал, что мир – это лабиринт, из которого невозможно бежать, потому что все пути – пусть кажется, что они идут на север или на юг, – в самом деле ведут в Рим, а Рим был заодно и квадратной камерой, где умирал мой брат, и виллой «Трист-ле-Руа». В эти ночи я поклялся богом, который видит двумя лицами, и всеми богами лихорадки и зеркал, что сооружу лабиринт вокруг человека, засадившего в тюрьму моего брата. Вот я и устроил его, и слажен он крепко: материалом послужили убитый ересиолог, буссоль, секта XVIII века, одно греческое слово, один нож, ромбы на стене красильни.
Первый элемент ряда был мне подброшен случаем. С несколькими товарищами (среди них был Даниэль Асеведо) я задумал украсть сапфиры тетрарха. Асеведо нас предал: на деньги, которые он получил вперед, он напился и на день раньше отправился грабить один. В огромном отеле он заблудился; около двух ночи забрел в номер Ярмолинского. Тот, мучимый бессонницей, сидел и писал. Вероятно, он готовил какую-то заметку или статью об Имени Бога; он как раз написал слова: «Произнесена первая буква Имени». Асеведо приказал ему молчать; Ярмолинский потянулся рукой к звонку, который разбудил бы всех в отеле; Асеведо нанес ему только один удар ножом – в грудь. Это было почти инстинктивным движением; пятьдесят лет насилия научили его, что самое легкое и надежное – это убить… Через десять дней «Идише цайтунг» сообщила, что в писаниях Ярмолинского вы ищете ключ к гибели Ярмолинского. Я прочитал «Историю секты хасидов» и узнал, что благоговейный страх, мешающий произнести Имя Бога, породил учение, что Имя это всесильно и облечено тайной. Я узнал также, что некоторые хасиды в поисках этого Тайного Имени доходили до убийств… Я понял, что, по вашему предположению, раввина убили хасиды, и занялся подкреплением этой догадки.
Марк Ярмолинский был убит ночью третьего декабря; для второго «жертвоприношения» я выбрал ночь третьего января. Он погиб в северной части города; для второго «жертвоприношения» надо было найти место в восточной. Требовавшейся мне жертвой стал Даниэль Асеведо. Он заслуживал смерти: он был необуздан, он был предатель, его арест мог погубить весь мой план. Его заколол один из наших; чтобы создать связь между его трупом и предыдущим, я написал над ромбами красильни: «Произнесена вторая буква Имени».
Третье «преступление» произошло третьего февраля. Как и угадал Тревиранус, это была чистая симуляция. Грифиус-Гинзберг-Гинзбург – это я; я провел бесконечную неделю (приклеив редкую фальшивую бородку) в этом развратном вертепе на Рю-де-Тулон, пока меня не похитили мои друзья. Стоя на подножке экипажа, один из них написал на столбе «Произнесена последняя буква Имени». Эта фраза указывала на то, что задуманных преступлений было три. Так и поняли все в городе; но я несколько раз намекнул для вас, мыслитель Эрик Лённрот, что их должно быть четыре. Одно чудо на севере, два других на востоке и на западе требуют для полноты четвертого на юге; в Тетраграмматоне, Имени Бога, J Н V Н – это ведь четыре буквы; арлекины и вывеска красильщика внушали мысль о четырех элементах. Я подчеркнул в труде Лейсдена одно место: в этом абзаце говорится, что день у евреев считается от заката до заката; эта фраза подсказывает, что убийства происходили четвертого числа каждого из трех месяцев. Я послал Тревиранусу равносторонний треугольник. Я предчувствовал, что вы добавите недостающую точку. Точку, которая завершит правильный ромб, точку, которая установит место, где вас будет ждать верная смерть. Я все обдумал, Эрик Лённрот, чтобы заманить вас в безлюдную «Трист-ле-Руа».
Лённрот отвел глаза от взгляда Шарлаха. Он посмотрел на деревья и на небо, расчерченные на мутно-желтые, зеленые и красные ромбы. Ему стало зябко и грустно, грусть была какая-то безличная, отчужденная. Уже стемнело, из пыльного сада донесся бессмысленный, ненужный крик птицы. Лённрот в последний раз подумал о загадке симметричных и периодических смертей.
– В вашем лабиринте три лишних линии, – сказал он наконец. – Мне известен греческий лабиринт, состоящий из одной-единственной прямой линии. На этой линии заблудилось столько философов, что не мудрено было запутаться простому детективу. Шарлах, когда в следующей аватаре вы будете охотиться за мной, симулируйте (или совершите) одно убийство в пункте А, затем второе убийства в пункте В, в 8 километрах от А, затем третье убийство в пункте С, в четырех километрах от А и В, на середине расстояния между ними. Потом ждите меня в пункте D в двух километрах от пункта А и пункта С, опять же на середине пути. Убейте меня в пункте D, как сейчас убьете в «Трист-ле-Руа».
– Когда я буду убивать вас в следующий раз, – ответил Шарлах, – я вам обещаю такой лабиринт, который состоит из одной-единственной прямой линии, лабиринт невидимый и непрерывный.








