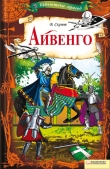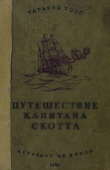Текст книги "Вальтер Скотт"
Автор книги: Хескет Пирсон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
Глава 9
«Лев» с берегов Твида
Скотт руководил издательством, готовил к печати сочинения других авторов, исполнял обязанности шерифа, проводил по полгода на сессиях Высшего суда, был секретарем Судебной комиссии, писал поэмы и при этом еще умудрялся следить за фермой и принимать в Ашестиле бесконечный поток гостей. В лучшем случае в доме могло разместиться человек десять, но как-то раз пришлось приютить сразу тридцать двух, и места хватило. Гости наезжали без предупреждения, и Шарлотта была вынуждена их как-то принимать. Однажды заказанные в Эдинбурге припасы не были доставлены вовремя, и ей пришлось обратиться за мясом на все окрестные фермы, так что на стол подали сразу четыре бараньих ноги. Разлив Твида причинял им массу неудобств. Выходя из берегов, река нередко лишала их картофеля, зерна и сена, отрезала от городов, где можно было достать все необходимое. В те времена немало зависело от погоды. Например, в конце апреля 1808 года на горах все еще лежал снег, реки порыжели от дождей и стояли январские холода. «Все это очень грустно, – писал Скотт, – но хуже другое: конюх твердит, что нет корма для лошадей, скотница жалуется, что коровам нечего есть, ягнята гибнут целыми дюжинами, едва появившись на свет, – и свиньи – и птица – и собаки – наконец, даже дети – все оказались под угрозой самого настоящего голода».
Один из многочисленных гостей 1808 года, Дж. Б. С. Моррит, посетивший Ашестил с женою, стал другом Скотта до конца жизни. Ученый, идеалист, сельский джентльмен и член парламента – тогда подобное сочетание было еще возможным, – Моррит много ездил по свету и основал «Клуб Путешественников». Как ученый он занимался Гомером, а как любитель древностей положил много сил и энергии на разыскание местоположения Трои, но труды его сгинули втуне, когда было доказано, что Троя находилась именно там, где согласно его тщательным выкладкам ее никак не могло быть. Он был хорошим человеком, хотя и неверующим, что приводило в расстройство достойных обывателей, убежденных, что вера – первейшее качество хорошего человека. Моррит владел роскошным имением в Рокби, графство Йоркшир, где собрал цепную коллекцию произведений искусства. Он нравился Скотту, однако, не из-за учености или любви к прекрасному, а потому, что был добряком и жизнерадостным товарищем. Отправляясь на юг Англии, Скотт частенько заезжал погостить в Рокби. Обнаружив, что в этом краю меньше легенд и сказаний, чем у него на родине, Скотт решил их выдумать и написал поэму «Рокби», которая появилась в январе 1813 года, однако не возымела такого успеха, как ранее опубликованные произведения.
Все эти годы в Ашестиле он пребывал в отменном здоровье и прекрасном расположении духа, самозабвенно отдаваясь работе и развлечениям. Вспоминая впоследствии об этом времени, он сказал: «Что и говорить, я разрывался на части, но как восхитительно радостно мне жилось! Кровь бурлила в жилах – у меня было чувство, будто на свете нет ничего такого, что оказалось бы мне не по силам. Почти все мои начинания тех лет позволяли выручить из беды какого-нибудь несчастного собрата по перу. Всегда имелись груды материалов – их требовалось разобрать, обработать и разнести по указателям; тома выписок – их следовало упорядочить; всегда возникала нужда съездить куда-то, чтобы уточнить разные мелкие подробности и даты. Одним словом, я обычно мог обеспечить сносное существование полудюжине из рядов оборванного воинства Парнаса». С головой уйдя во все это, он, однако же, мог сообщить в письме и такое: «Днем я гоняюсь за зайцами, ночью бью острогой лосося, так что у меня нет ровным счетом никакой охоты утруждаться на ниве поэзии или прозы. Мне стоит только начать, и дальше все идет как по маслу, но первые усилия до чрезвычайности тягостны».
писал он в «Деве озера», и, когда в Эдинбурге на него наваливалась куча обязанностей, он с легкой завистью вспоминал о счастливых денечках в Ашестиле. В 1809 году Скотт прибавил себе трудов, взявшись за организацию постановки пьесы Джоанны Бейли «Семейное предание» в Эдинбургском театре, попечителем и пайщиком которого состоял. Он уговорил Генри Сиддонса, сына Сары Сиддонс, возглавить театр, и пьеса Джоанны в его постановке стала первым новым спектаклем репертуара. Скотт так рьяно погрузился в театральные хлопоты, словно других забот у него не было: ходил на все репетиции, написал пролог, и даже костюмы шились по его указаниям.
Спектакль имел успех и шел целых две недели. «Слезы разрывали нам сердце, а аплодисменты обжигали ладони», – подытожил Скотт. Актер Дэниел Терри, занятый в спектакле, стал его близким другом и впоследствии проводил много времени в его обществе. Терри был хорошим имитатором; он часто забавлял друзей, очень похоже изображая серьезную мину и интонации Ширры. Скотт любил находиться среди артистов, его гостями бывали Чарльз Мэтьюз, Джон Филип Кембл и его сестра, великая Сара Сиддонс. Брат с сестрой и в жизни держали себя как на сцене, нередко изъясняясь в застольной беседе белым стихом. Как-то раз, обедая в Ашестиле, Сара навела ужас на мальчишку-слугу, воскликнув голосом трагедийной королевы: «Дитя, ты воду мне принес, забыв про пиво». Скотт считал ее глуповатой тщеславной женщиной, падкой на лесть, почти лишенной здравого смысла и начисто – вкуса. «Однако же, если взять ее в целом, где еще мы увидим – я не говорю: равную ей, – но хотя бы слабое ее подобие, какой была она в зените своей славы?»
Наезжая в Лондон, он каждый раз сталкивался в чужих гостиных с актерами и, проявляя к ним подчеркнутое внимание, пытался тем самым отвлечь любопытные взгляды от собственной персоны. Охоту за собой как за знаменитостью он воспринимал с неизменным добродушием, хотя признавался: «Я всегда предпочитал оставаться одиноким медведем и тихо сосать свою лапу, чем быть „львом“ и ходить на задних лапах на потеху другим». Он знал, что писателям вредно состоять у общества в баловнях. «Отдаться этому ветру, может быть, и приятно, но он никого еще не привел в такую гавань, где бы мне захотелось бросить якорь», – говаривал он, обходя стороной модные салоны и позволяя себе выступать в роли «льва» исключительно ради друзей, у которых останавливался или обедал. Явившись в дом, он обычно спрашивал хозяина или хозяйку: «Ну как, играть мне сего» дня «льва»? Если угодно, я буду рыкать, сколько понадобится». А после разъезда гостей со смехом цитировал Шекспира:
Иногда он попадал в настоящую клетку со львами, где поэты вещали стихи, почитатели возносили им хвалу и все усиленно кого-то из себя строили. На одном из таких сборищ присутствовал Колридж. Он читал свои стихи под шумное одобрение приверженцев – те надеялись, что буйные их восторги укажут такому всего лишь известному писателю, как Скотт, его место. Стремясь продемонстрировать, насколько Скотт-поэт уступает Колриджу, они попросили Скотта почитать что-нибудь свое. Он скромно отказался от предложенной чести, однако сказал, что прочтет несколько строф, которые недавно попались ему на глаза в провинциальной газете и которые, по его мнению, едва ли хуже только что ими прослушанных. Стихи приняли холодно, а потом и вовсе разругали. Скотт пытался взять их под защиту, и тогда кто-то назвал одну из строк совершенной бессмыслицей. Тут Колридж не выдержал: «Ради бога, оставьте вы мистера Скотта в покое – это мои стихи». Воцарилось молчание.
Скотт и в самом деле предпочитал тихий вечер в кругу друзей любому светскому сборищу. Он всегда наслаждался часами, проведенными с Джоанной Бейли у нее дома, где его не заставляли блистать талантами рассказчика или поэта. Между прочим, никогда он не ощущал себя менее похожим на «льва», чем одним темным вечером, когда возвращался от нее из Хэмпстеда: тогда, по его словам, он пережил «самые страшные минуты в своей жизни». Чтобы срезать дорогу, он пошел полем и в том месте, где тропинка бежала вдоль высокой живой изгороди, повстречал зловещего вида субъекта – то ли грабителя, то ли убийцу, то ли обоих в одном лице, – который повел себя крайне подозрительно. «Как человеку, встретившему Дьявола, мне нечего было ему сказать, коль скоро и он не знал, с чем ко мне обратиться». Миновав незнакомца, Скотт, однако, заметил, как тот скользнул через дырку в изгороди, словно хотел очутиться по другую ее сторону. Именно этого он и хотел, в чем Скотт убедился, подсмотрев сквозь просветы в кустах. «Я продолжал идти в сторону перелаза, за которым начиналось открытое поле, и на каждом шагу ожидал, что негодяй вот-вот набросится на меня из укрытия; уверяю вас, того, что я натерпелся за эти пять минут, я не пожелаю и злейшему своему врагу». У Скотта имелись крепкая палка и внушительных размеров нож, он был готов дать хороший отпор и все же чувствовал себя «далеко не героем. То есть настолько мерзко, что, перебираясь через перелаз, загнал под ноготь занозу в сантиметр длиной и не только не ощутил боли, но вообще ничего не заметил».
Что до светской жизни, то здесь шотландская столица ничем не отличалась от английской. В Эдинбурге, говорил Скотт, «мы во всем подражаем Лондону: рассиживаемся так же допоздна и с той же непонятной стремительностью срываемся с одного места, чтобы помчаться в другое и найти там компанию, которой у нас никогда не хватает времени насладиться». Впрочем, и сам он не был из числа ревностных домоседов. В начале лета 1810 года он отправился на Гебриды, прихватив с собой кое-кого из семьи и нескольких друзей. Они побывали на Стаффе, Айоне, Малле и других островах, где он проникался «местным колоритом» для своей последней значительной поэмы «Владыка островов» и изучал свойства человеческой натуры с той благожелательной, но и острой проницательностью, без которой комические персонажи его будущих книг не смогли бы обрести плоть и кровь.
Его непоседливость еще раз о себе заявила вскоре после возвращения с Гебрид. Если Роберт Дандес, которому предстояло наследовать от отца титул второго виконта Мелвилла, будет назначен генерал-губернатором Индии, – по секрету сообщал Скотт брату Тому, – «и если он пожелает взять меня с собой и обеспечить мне хорошее место, я без колебаний (хотя мне не приходится жаловаться на нынешнее мое положение) пошлю Высший суд и книгопродавцев к дьяволу и буду искать удачи под другими широтами». Занеси Скотта в Калькутту или в Сахару, он бы, конечно, не бросил сочинительства ни за что на свете; тем не менее он считал, что литература, это великолепное подспорье на жизненном пути, никуда не годится в качестве единственной опоры и способа раздобыть на хлеб насущный. Он устал гнуть даром спину на сессиях, еще больше устал спасать предприятие Баллантайнов – с середины 1805-го по конец 1810 года он вложил в типографию и издательство не меньше 9 тысяч фунтов. Успех «Девы озера» в 1810 году на какое-то время его успокоил, а немного погодя он стал получать жалованье и за работу на сессиях. Вместе с той суммой, что давала ему должность шерифа, его служба приносила теперь до 1600 фунтов в год. Известна закономерность: чем больше у человека денег, тем крепче он за них держится. У Скотта же щедрость возрастала пропорционально доходам. «Некий помещик, – сообщал он, – выставил на стол столько шампанского и кларету, сколько нам и не выпить, но побледнел при одной мысли о том, что нужно пожертвовать на бедных пять шиллингов». Не таков был Скотт, у которого шиллинги лились из кошелька так же щедро, как за столом – шампанское и кларет. Откликнувшись на кампанию по оказанию помощи португальцам, пострадавшим от испанской войны, он в 1811 году написал балладу «Видение дона Родрика», что принесло кампании сотню гиней. «Я бы с радостью отдал несчастным сто капель собственной крови, если б от этого была польза», – сказал он одному из друзей. В том же году, соблазнившись высоким спросом на «Деву озера», он кое-что приобрел.
Срок аренды Ашестила истекал в 1811 году, и Скоттам нужно было перебираться в другое место. Он давно присмотрел участок на берегу Твида, между Селкирком и Мелрозом, где пограничные кланы вели некогда последние из своих великих сражений. Участок состоял из прибрежного луга, маленькой фермы с амбаром, огородом и утиным прудом и сотни акров холмистой земли за домом. Все вместе красноречиво называлось Грязное Логово. Поскольку участок некогда принадлежал Мелрозскому аббатству, Скотт изменил это маловнушительное название на Абботсфорд и принял решение превратить голую пустошь в приятную тенистую рощицу, а для семьи построить особняк, который он в своих планах именовал «хижиной». Половину суммы он одолжил у старшего брата, майора в отставке, другую половину занял под еще не написанную поэму («Рокби») и уплатил 4200 фунтов за право стать настоящим помещиком. Еще не вступив во владение, он принялся наводить порядок; в марте 1812 года он сообщал, что занят расчисткой дорожек и посадкой деревьев и ходит в грязи с головы до ног. «Я мечтал купить Абботсфорд и обосноваться в таком месте, откуда мог бы попасть плевком в Твид, – объяснял он другу. – Боюсь, что без этого я бы нигде не был по-настоящему счастлив».
В конце мая 1812 года семья выехала из Ашестила, к вящему огорчению всей округи. Скотты были хорошими соседями – принимали участие во всех местных празднествах, пили, плясали и сплетничали наравне с другими, без чего всякое общение между людьми – одно притворство, посылали еду и лекарства тем, кто в них нуждался, разделяли чужие радости и чужие печали. С их переездом было связано много смешных моментов. К этому времени Скотт обзавелся богатым набором различного смертоносного оружия, включая ружье Роб Роя и шпагу, пожалованную Монтрозу Карлом I. Скотт описывал, как позабавил соседей хвост из двадцати четырех телег, груженных «немыслимым барахлом». На повозках навалом громоздились старинные мечи, луки, пики, мишени; парни в рубашках и простоволосые девушки выступали целой ротой с удочками и копьями или же пытались управиться с пони, борзыми, спаниелями, овцами, свиньями и домашней птицей. «Выводок индюшат устроился в шлеме некоего preux chevalier[40]40
Благородный рыцарь (франц.).
[Закрыть], чья слава гремела древле в Пограничном крае, и даже коровы... плелись под грузом знамен и мушкетов». Но одного члена семьи с ними не было: любимый пес Кемп умер за три года до этого и был погребен в садике дома на Замковой улице; вся семья проводила его слезами, а Скотт не пошел, как обещал, на званый банкет, мотивируя это «смертью старого и горячо любимого друга».
В Абботсфорде по их прибытии воцарился хаос. Все пошло шиворот-навыворот. Лошади заартачились и не желали идти в конюшню; коровы и овцы, как только их выгнали на луг, разбежались во все стороны; куры разлетелись по двору; колонка не давала воды; на кухне огонь ни за что не хотел разгораться, печь не пекла и вертел заклинило; работники ругались нехорошими словами, служанки ревели в три ручья, а Шарлотта бранилась; и все бегали жаловаться друг на друга к Скотту, в кабинет, где он пытался отсидеться. Терпению его пришел конец. Он вышел из себя, вылетел из кабинета, на всех накричал, отругал кого нужно, и через полчаса все наладилось. По сути дела, их вселение напоминало оккупацию воинской частью неприятельского городка – и, как ни странно выглядит это совпадение, в тот самый час, когда Скотт перебрался из Ашестила в Абботсфорд, человек, родившийся в один с ним день, двинул свои армии из Дрездена на Москву.
Глава 10
На мели и под парусом
Под крики плотников и каменщиков, шум молотков, пил и стамесок и под болтовню домашних Скотт написал две поэмы – «Рокби» и «Невесту Трайермейна». Вторую он опубликовал анонимно через несколько недель после первой, чтобы азарта ради обмануть критиков; критики, как и следовало ожидать, обманулись. Поначалу в Абботсфорде была всего одна гостиная, в которой дети учили уроки, семья обедала, хозяин сочинял, а хозяйка принимала гостей. Большую часть времени Скотт проводил на воздухе за своим любимым увлечением – сажал деревья. Он попросил друзей прислать желуди, и желуди начали прибывать – телегами, в экипажах и на кораблях, в количестве, достаточном, чтобы покрыть лесом всю Шотландию. Скотт копал, разравнивал, осушал и засаживал и за всем этим постепенно охладел к охоте и рыбной ловле. У пего самого не оставалось времени заниматься со старшим сыном, и он взял в репетиторы Джорджа Томсона. сына мелрозского священника. Джордж хоть и был об одной ноге, ежедневно пешком ходил в Абботсфорд, а когда дом разросся, переселился к Скоттам и прожил у них много лет. Он был высок, крепок и в придачу бесстрашный наездник; отличался добродушием, ученостью и принципиальностью. Некоторые стороны его своеобычной натуры нашли отражение в характере Домини Сэмсона из романа «Гай Мэннеринг». Скотт не уставал рекомендовать его герцогу Баклю и другим высокопоставленным лицам на свободные должности. Вскоре Абботсфорд стал таким же уютным и гостеприимным, как Ашестил, и уже через четыре месяца после переезда около полусотни каменщиков отметили победу Веллингтона на поле боя у Саламанки крепким пуншем, после чего всю ночь танцевали под волынку и скрипку вокруг костра, разведенного в непосредственной близости от стройки.
Дела Скотта шли, однако, далеко не блестяще, и в первый год своего пребывания на новом месте он провел не одну бессонную ночь. Издательство Баллантайна, открывшись под фанфары, закрылось при полном конфузе. Убеждение Скотта, что читающей публике должно понравиться то, что нравится ему самому, на практике привело к печальным последствиям: его издания затоваривались на складе, в первую очередь – «Эдинбургский ежегодник», журнал, который даже Скотту при всех его стараниях не удалось обратить в деньги. Потрясающий успех «Девы озера», видимо, вскружил головы всем трем компаньонам – вместо того чтобы вложить прибыль в расширение и укрепление дела, они начали ее тратить в расчете на безмятежное будущее. Джон Баллантайн не утруждал себя ведением бухгалтерских книг и подсчитывал на глазок, так что об истинном положении дел возникало самое извращенное представление. Братцу Джеймсу да и самому Скотту следовало бы проявить больше бдительности – им-то был известен «послужной список» Джона, – но отчеты последнего их так ублажали, что они принимали их за чистую монету. Расходы Скотта на Абботсфорд все росли. Расходы Джеймса тоже быстро увеличивались: он любил обильный и изысканный стол. Расходы Джонни по кабакам также не отставали. Скотт упрекал Джеймса за чревоугодие, а Джона за то, что тот не ведет баланса, но ни тот, ни другой не набрались смелости упрекнуть Скотта за непомерные траты на новый дом и поместье. Все трое жили в Эльдорадо[41]41
Эльдорадо – сказочная страна богатств и чудес.
[Закрыть], не в Эдинбурге. Чтобы собрать деньги под еще не вышедшие издания, они навыдавали кучу векселей, и, когда подошли сроки платить по ним, расплачиваться компаньонам было нечем.
В начале 1813 года Скотт еще надеялся, что «Рокби» спасет положение, но, хотя поэма и разошлась в десяти тысячах экземпляров – тираж, от которого любой другой поэт пришел бы в неописуемый восторг, – Скотта это далеко не обрадовало. Он основательно поработал над «Рокби», даже уничтожил всю первую песню, так как она ему не понравилась, и рассчитывал, что поэма повторит успех своих предшественниц. Так бы оно скорее всего и получилось, если б тем временем Байрон не оттеснил шотландского барда на второй план своим «Чайльд-Гарольдом». Ситуация сложилась отчаянная, и Скотт начал крепко гневаться на Джона Баллантайна, высказываясь в письмах к нему следующим образом:
«Советую Вам помнить о том, что закрывать глаза на истинное положение дел и вводить друзей в заблуждение – прямой путь к разорению».
«Говоря начистоту, единственное, что меня тревожит в нашем деле, – это Ваша привычка замалчивать трудности до самой последней минуты, когда мы уже на пороге разорения».
«Об одном Вас прошу – безоговорочно мне доверяйте, пишите как можно чаще и хотя бы раз в неделю давайте полный отчет, на какие средства мы можем рассчитывать... Мы разорены из-за того, что Вы слишком поздно сообщили мне о своих опасениях».
«Ради Бога, научитесь видеть во мне человека, а не дойную корову!»
Из этих отрывков явствует, что Скотту часто приходилось изыскивать деньги в самую последнюю минуту, чтобы предотвратить катастрофу. Но он должен был осознать, что его собственные расходы и любовь к неходким изданиям подорвали дела фирмы ничуть не меньше, чем бодрячество и страусова политика «Весельчака» Джонни. Наконец в мае 1813 года, хотя Скотту безумно этого не хотелось, обратились за помощью к Констеблу. Несносный компаньон последнего Хантер к этому времени приказал долго жить, однако необходимость прибегнуть к услугам Констебла была для Скотта все равно унизительной. Констебл подошел к делу с осмотрительностью. Он отказался покупать «Эдинбургский ежегодник», ежегодно приносивший убытков в тысячу фунтов, но разгрузил склад фирмы от части тиражей и за две тысячи фунтов приобрел четверть авторских прав на «Рокби». Само собой разумелось, что издательство «Джон Баллантайн и К°» прекращает свое существование. Помощь Констебла – это было уже кое-что. И Скотт смог написать: «Впервые за много недель я усну спокойно». Но этого было мало. Требовались наличные средства. Скотт занял у Моррита и у Чарльза Эрскина, который замещал его на посту шерифа, одновременно попросив герцога Баклю за него поручиться, чтобы банк мог выдать ему ссуду в четыре тысячи фунтов. Дожидаясь ответа от герцога, Ширра впал в панику и начал подумывать об эмиграции: «Я должен расстаться с Шотландией, как расстаются старые друзья; я не хочу жить там, где люди, некогда взиравшие на меня с почтением, будут вынуждены меня презирать. Мир велик, хотя для меня Шотландия – самый дорогой его уголок. Я прослежу, однако, чтобы все долги были выплачены по справедливости до последнего пенса, а до этого и сам не скроюсь, и не утаю ничего из своего достояния...»
Через пару дней от герцога пришло согласие, и к концу августа 1813 года Скотт уже решил, что он вновь зажил припеваючи. Для него это было большим облегчением: он собирался прикупить к имению солидный земельный участок, а друга своего, актера Дэниела Терри, просил приобрести для Абботсфорда партию старинного оружия. Так что по зрелом размышлении он пришел к выводу, что перспективы не столь уже безоблачны, как выглядели поначалу. В ноябре он писал Джону Баллантайну: «А не попробовать ли мне попытать судьбу в лотерее? Билет можно купить у Сиврайта, но так как рука у Вас не очень счастливая, сами не ходите, а попросите жену или матушку оказать мне любезность – закон вероятности им скорей подыграет. Пошлите их за билетом, а если в те места доведется завернуть мистеру Констеблу, так пусть купит он. У него счастливая рука, в этом не приходится сомневаться». Теперь Джон служил распорядителем на постоянном аукционе произведений литературы и искусства, который происходил на Ганноверской улице, и очень жаль, что заодно с издательством Скотт не прикрыл и типографии, но привязанность к Джеймсу пересилила доводы разума, а доброта заставляла его по-прежнему навязывать другим издателям заведомо убыточные сочинения бедствующих авторов. «Мне по душе родные отпрыски Скотта, но сохрани меня Боже от приемных детей его Музы!» – жаловался Констебл.
В разгар финансовых трудностей Скотту было сделано одно любопытное предложение. Принц Уэльский оказался его большим почитателем и очень огорчился, узнав о поездках Скотта к принцессе в Блэкхит. Стремясь отвлечь его от обольстительницы, принц просил передать Скотту, что его лондонская библиотека всегда к услугам поэта и что он был бы весьма рад с ним познакомиться. Скотту не хотелось обижать регента, и он доверительно сообщил леди Эйберкорн, что боится потерять расположение принца, если не прекратит навещать принцессу, а навещать он ее, разумеется, будет, коль скоро его приглашают. Принц от него за четыреста миль, добавил Скотт сухо, а это имеет свои преимущества. Больше того, он был о регенте не самого высокого мнения. Удивления, однако, достойно, как легко прощаем мы человеку все его недостатки, если он предлагает нам дружбу и восхищается нами, особенно в тех случаях, когда сам ничего от этого не выигрывает. В августе 1813 года скончался Генри Джеймс Пай, поэт-лауреат, и регент предложил Скотту занять его место. Нельзя сказать, чтобы Пай или его непосредственные предшественники так уж возвеличили эту должность, в свое время украшенную именами Бена Джонсона и Джона Драйдена, а в недалеком будущем прославленную Вордсвортом и Теннисоном. Вообще-то, говорил Скотт, звание поэта-лауреата превратилось в нечто нелепое. К тому же он не желал быть чем-то обязанным ни королям, ни их присным. Герцог Баклю согласился, что все это глупости, и Скотт в весьма вежливых выражениях отказался от лауреатства под тем предлогом, что «непригоден к надлежащему исполнению постоянных обязанностей по регулярному сочинительству». В то же время он выступил ходатаем за несчастного любимца муз Роберта Саути, которому написал: «Не такой уж я осел, чтобы не видеть, насколько Ваша поэзия лучше моей, хотя симпатии публики, видимо, ненадолго и оказались на моей стороне». Должность поэта-лауреата предложили Саути, и тот ее принял.
К собственной поэзии Скотт относился без малейшего пиетета. Когда в 1812 году сочинительница церковных гимнов Летиция Барболд, лестно отзывавшаяся о Скотте, предсказала упадок Великобритании и укрепление Америки во всем, что касается искусств, вооружений и державного могущества, Скотт написал Джоанне Бейли: «Ненавижу карканье; если это правда, то где же ее патриотизм, а если нет, так еще хуже... Будь это в моей власти, я бы взорвал руины Мелроза и сжег всю свою рифмованную чепуху, когда бы счел, что и то и другое рискует пережить славу и независимость моей Родины. Все мои честолюбивые помыслы сводятся к одному: если меня и будут помнить, то пусть помнят как человека, который знал цену национальной независимости и в настоящий момент, когда ей грозит опасность, был готов отдать за нее последнего солдата и последнюю гинею, будь эта гинея моим последним имуществом, а солдат – моим собственным сыном». Опасность, на которую он ссылался, исходила не только от Наполеона, но и от Соединенных Штатов, против которых Англия три года, с 1812-го по 1814-й, вела нерешительные военные действия попеременно на суше и на море. Дело в том, что Штаты торговали с неприятельской стороной и не одобряли попыток Великобритании этому помешать. Как бы то ни было, в конце 1813 года эпоха наполеоновских войн близилась к завершению. Эдинбург направил к принцу-регенту депутацию поздравить его с военными успехами, и Скотт по этому случаю написал торжественный адрес. Адрес привел в восторг регента, отозвавшегося о его изысканном стиле с большой похвалой, что привело в восторг членов городского совета, которые избрали Скотта почетным гражданином Эдинбурга и вручили ему памятный подарок, что, в свою очередь, привело в восторг Скотта. «К вящему ужасу бедняжки Шарлотты, – писал он Морриту, – я выбрал подарок в виде древней английской чаши, ибо питаю к этой посудине исключительное почтение, особливо когда она полна эля, вина или иного доброго напитка». Поскольку чаша вмещала два литра с четвертью, ужас Шарлотты можно объяснить не только пошлым выбором Скотта, но и непомерностью его жажды.
Первым человеком, за которого он поднял эту чашу, был, разумеется, регент. Скотт начал все больше и больше проникаться к нему симпатией после того, что узнал в 1812 году со слов Байрона. А узнал он следующее: «Принц отдал Вам предпочтение перед всеми мертвыми и живыми поэтами... он поставил Вас в один ряд с Гомером». С этого случая ведется начало странной, хотя и искренней дружбы между Скоттом и Байроном, двумя великими писателями эпохи, стоявшими у истоков литературного романтизма XIX века и имевшими на поверхностный взгляд лишь одно общее – хромоту, которая, постоянно напоминая им о телесной немощи, тем самым помогла развиться их своеобразному воображению. Но они походили друг на друга и еще кое в чем. Оба отличались человечностью, щедростью, чувством юмора, оба были великолепными собеседниками, хотя Байрон и страдал от приступов меланхолии и томления духа, неведомых Скотту. Короче, Байрон имел темперамент художника, тогда как Скотт был человеком светским и крепче стоял на земле увечной ногой, чем Байрон – здоровой. Их заочное знакомство произошло в неблагоприятных обстоятельствах. «Эдинбургское обозрение» отреагировало на первый поэтический сборник Байрона с олимпийским сарказмом, свойственным Джеффри; жертва ответила разящей сатирой «Английские барды и шотландские обозреватели», в которой неповинный во всей этой истории Скотт был заклеймен как «наемный бард» и «продажный отпрыск Аполлона». Исходи эти нападки от критиков, Скотт бы попросту отмахнулся от них. Но они исходили от поэта, и Скотт почувствовал себя уязвленным. «Не могу взять в толк, – жаловался он Саути, – почему этот щенок, юный лорд Байрон, ничего про меня не зная, обругал меня за то, что я пытаюсь пером наскрести на жизнь. Куда податься голодному медведю, если ему запрещают уже и лапу сосать! Могу заверить родовитого баловня славы: в том нету моей вины, что я не наследовал обширных угодий и 5000 фунтов годового дохода, как нельзя поставить в заслугу его светлости то... что ему не приходится зарабатывать на хлеб своими литературными талантами и успехами».
Когда первые песни «Чайльд-Гарольда» повергли литературный мир в безумный восторг, это произвело на Скотта сильное впечатление. Он оценил замысел песен, блестящее исполнение, накал и поэтичность, хотя и счел поэму слегка безнравственной. А вскоре Джон Мюррей рассказал ему со слов Байрона о беседе последнего с регентом, и Скотт написал собрату-поэту письмо, в котором объяснял свое материальное положение: «Желание снять с себя малейшее подозрение в корысти или низменных устремлениях перед лицом моего гениального современника, думаю – простительное желание». Байрон ответил так, как подобало человеку благородному, и весной 1815 года они встретились в Лондоне у Джона Мюррея в доме № 50 на Элбемарл-стрит. Они сразу же прониклись взаимной симпатией и, пока Скотт находился в столице, каждый день посещали Мюррея, чтобы вдоволь наговориться друг с другом. Забавное было зрелище, вспоминает издатель, когда, окончив беседу, они рука об руку ковыляли вниз по лестнице: спуск по ступенькам еще сильнее подчеркивал их хромоту. Скотт считал вероятным, что Байрон в конце концов придет к католичеству, и прямо сказал ему об этом. Байрон не стал возражать, однако, как показало будущее, дни свои он завершил в Греции, а не в Риме. Их политические взгляды существенно расходились. Скотт, например, не считал Наполеона джентльменом, тогда как Байрон сетовал, что тот не демократ. Не было между ними и полного единодушия в вопросах морали. По мнению Байрона, Скотту не повредило бы чуть-чуть больше распущенности; по мнению же Скотта, немного воздержанности пошло бы Байрону только на пользу. Но взаимное общение так их захватывало, что они не обращали внимания на подобные мелочи, и, хотя им предстояло встретиться еще всего лишь раз, осенью того же года, их дружба питалась перепиской и была скреплена поведением Скотта в обстоятельствах, заставивших ошельмованного Байрона покинуть пределы Англии.