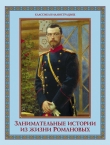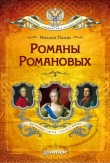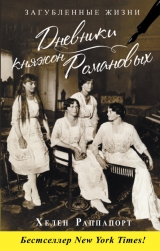
Текст книги "Дневники княжон Романовых. Загубленные жизни"
Автор книги: Хелен Раппапорт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
* * *
Новый, 1910-й, год был печальным для российской монархии. Первые два месяца двор был в трауре по великому князю Михаилу Николаевичу, двоюродному дяде царя. Он скончался в Каннах 18 декабря (НС) 1909 года. В апреле не стало обер-гофмейстерины двора императрицы, княгини Марии Голицыной, женщины, которую Александра считала одной из самых близких ей придворных дам и своим личным другом. Не прошло и месяца, как Александра вновь была в трауре из-за смерти своего дяди, короля Эдуарда VII[483]483
Spiridovich. «Last Years», p. 409.
[Закрыть].
При обычных обстоятельствах Николай и Александра провели бы все время общественного траура по великому князю Михаилу в Санкт-Петербурге, но Александра была в очередной раз нездорова. В тот год «тема уединенности царской семьи была затерта до дыр», высказывалось растущее беспокойство тем, как «влияет на общественное мнение и нацию продолжительное отсутствие царя и царской семьи в столице»[484]484
Wheeler and Rives. Указ. соч., p. 347. Ныне забытые описания Санкт-Петербурга 1906–1911 годов, сделанные Постом Уилером и его женой Холли Ривз, дают весьма яркое представление об этом времени.
[Закрыть]. Как вспоминал Пост Уилер, американский дипломат, живший тогда в Санкт-Петербурге:
«…они провели весну и осень в Ливадии, в Крыму. Летом, если они были не в Петергофе, то плавали на императорской яхте «Штандарт». На побережье Финляндии их видели чаще, чем в собственной столице. В промежутках между этим они бывали в Царском Селе, а «Царский город» находился лишь в нескольких десятках километров, но с таким же успехом мог бы быть и в сотне, так мало интереса Санкт-Петербург вызывал у императорской четы… Общество было заброшено. Ситуация была нездоровой и для них, и для народа. Поэтому множились различные слухи»[485]485
Там же, p. 342–343.
[Закрыть].
Санкт-Петербург превратился в «город с хмурым взглядом», мрачное место, находящееся под гнетом своей истории. К такому выводу пришел британский журналист Джон Фостер Фрейзер[486]486
Fraser. «Red Russia», p. 18, 19.
[Закрыть]. Социальная жизнь столицы угасала, и чем дальше, тем больше она становилась развращенной. Ее аристократия настойчиво противилась политическим изменениям или социальным реформам и была озабочена лишь званиями и чинами. Косная гоголевская бюрократия по-прежнему разделяла население на два основных лагеря – чиновников и не-чиновников, причем основные массы населения относились к раздутой царской бюрократии как к «кровопийцам». «Эта ненависть завуалирована, подавлена, но она существует», – писал Фостер Фрейзер[487]487
Там же, p. 20.
[Закрыть].
В основе этой поляризованной системы был царь, которого трудно было понять, – одновременно «робкий и смелый, нерешительный и находчивый, скрытный и открытый, подозрительный и доверчивый». Как человек он был совершенно не тем кровожадным тираном, каким его пытались изобразить, а добрым, искренним и скромным, преданным мужем и любящим отцом, но как царь Николай был и морально, и психологически крайне плохо подготовлен к выполнению той задачи, которая выпала ему по случайности рождения. Бремя ответственности быстро старило Николая, сказывалось также и психологическое напряжение из-за постоянного нездоровья жены и сына. «Он был создан для спокойной жизни какого-нибудь хозяина сельского имения, прогуливающегося среди своих цветников в льняной блузе с тросточкой, а не с мечом. И уж никак не царем», – таков был вывод Поста Уилера[488]488
Wheeler and Rives. Указ. соч., p. 411.
[Закрыть].
Закосневшее в отсутствие царя и царицы и их морального примера общество Санкт-Петербурга все больше подпадало под влияние реакционных великих князей и их жен, которые видели себя, при безнадежной слабости Николая как монарха, «истинными представителями императорской власти». Их целью всегда была защита своего богатства и власти, поэтому они всеми силами поддерживали шаткое самодержавие, неуклонно противодействуя принятию любых демократических реформ[489]489
Ular. Указ. соч., p. 71, 83. Захватывающее описание великих князей с точки зрения современников, см. p. 71–100.
[Закрыть]. Петербургское общество, по выражению жены французского посла, состояло из «двух-трех сотен групп, все – беспощадны, как головорезы», кроме них – каморра придворных чиновников, многие из которых также испытывали стойкую неприязнь к императорской чете[490]490
Wheeler and Rives. Указ. соч., p. 347.
[Закрыть]. Тон в этом обществе задавала тетя Николая, Мария Павловна, чей муж Владимир (человек, который тратил тысячи рублей на свои дорогостоящие прихоти и увлечения: азартные игры и женщин) умер в феврале предыдущего года. Великая княгиня Мария Павловна была немкой по происхождению. Как и царица, она приняла православие, правда, лишь незадолго до смерти мужа и с прицелом на возможное династическое будущее своих сыновей. Замуж она вышла почти так же удачно, как и императрица, будучи, как и Александра, из довольно незначительного немецкого герцогства Мекленбург-Шверина.
В своем роскошном особняке флорентийского стиля на Дворцовой набережной на берегу Невы, резиденции, которая превосходила роскошью Александровский дворец, великая княгиня Мария Павловна негласно возглавила придворную жизнь в отсутствие настоящих российских правителей. Ее сказочные богатства позволяли ей устраивать самые щедрые приемы, благотворительные базары и костюмированные балы. Ее знаменитый четырехдневный базар традиционно открывал в Санкт-Петербурге сезон от Рождества до Великого поста, и все последующие недели многие в столице жаждали получить приглашения на ее светские мероприятия, которые были самыми популярными. Своими надменными и повелительными манерами великая княгиня могла смутить любого, но ее блестящие связи в обществе и ее природная энергия не оставляли и тени сомнения, что она держит руку на пульсе российского высшего общества. Это также означало, что в столице она была в центре многих интриг, направленных против все более непопулярной царицы.
Имея разнообразные литературные интересы, великая княгиня Мария Павловна пригласила к себе в конце 1909 года уважаемую иностранную гостью. Романтическая повесть «Три недели» популярной английской писательницы Элинор Глин имела большой успех в России, и великая княгиня предложила Глин посетить страну, чтобы собрать материал для повести с российским сюжетом[491]491
Книгу «Три недели» («Three Weeks»), опубликованную в 1907 году, считали эротической, если не аморальной по содержанию, и во многих местах она была запрещена. Поговаривали, что прототипом главной героини этой книги до определенной степени была императрица Александра, но Глин, конечно же, писала совершенно не о ней. См.: Joan Hardwick. «Addicted to Romance: Life and Adventures of Elinor Glyn», London: André Deutsch, 1994, p. 155. Книга «Три недели» оказалась весьма популярна, было продано 5 миллионов экземпляров, и вскоре появился народный стишок: «С Элинор Глин не хотите / Пасть на тигровой шкуре? / Иль как ложе для утех / Вас не устроит этот мех?»
[Закрыть]. «Все постоянно пишут книги о наших крестьянах, – сказала она писательнице. – Приезжайте и напишите книгу о том, как живут настоящие люди». Трудно представить более откровенное изъявление ошеломляющего равнодушия высшего света к судьбе обычного российского населения[492]492
Glyn. «Elinor Glyn», p. 178.
[Закрыть]. Писательница отправилась в Россию, воодушевленная обещаниями, что царь и царица вот-вот приедут из Царского Села и примут активное участие в светской жизни Санкт-Петербурга. Но, к несчастью Глин, в момент ее приезда город был в трауре по великому князю Михаилу. С точки зрения светских приличий было совершенно недопустимо, чтобы она, имея при себе целый гардероб совершенно нового платья от известной портнихи Люсиль и головных уборов от Ребуа в Париже, не имела ни одного траурного платья. Жене британского посла пришлось прийти ей на помощь и купить ей «головной убор предписанного образца… траурный капор черного крепа с длинной, ниспадающей вуалью»[493]493
Glyn. «Romantic Adventure», p. 180.
[Закрыть].
Из окна британского посольства на Дворцовой набережной Глин наблюдала, как холодным серым днем, среди тающего снега и слякоти похоронная процессия направилась через Неву к Петропавловскому собору на Заячьем острове. Императрица сидела, «сжавшись, в глубине своей кареты», Николай и великие князья шли позади. Император был бледен, явно осознавая, как и его родичи, свою уязвимость для убийц. В связи с предупреждениями о возможных взрывах власти запретили кому бы то ни было наблюдать процессию из окон (запрет не распространялся только на посольство Великобритании), солдаты и полицейские были выстроены «плечом к плечу, спина к спине в два ряда, и смотрели в обоих направлениях» вдоль всего пути длиной 3 мили (4,8 км)[494]494
Там же, p. 183, 182.
[Закрыть]. Когда процессия проходила, Глин заметила, что огромная толпа стояла «немая, но равнодушная», не было подлинного траура, какой она видела на похоронах королевы Виктории в 1901 году. «Напряженность, которая витала в воздухе, была вызвана не горем, а тревогой, не печалью, но предчувствием конца»[495]495
Там же, p. 182.
[Закрыть]. Как казалось писательнице, «ослепшие, безмолвные дома, усиленная охрана, враждебный народ возвещали всему миру неизбежное падение этого трагического режима». В тот вечер Глин написала в своем дневнике: «О! Как должны мы благодарить Бога за нашу дорогую, свободную, безопасную, счастливую Англию»[496]496
Там же, p. 184.
[Закрыть].
На следующий день глубокое впечатление на английскую писательницу произвела великолепная церемония отпевания, свечи, ладан и прекрасное, но удивительно нездешнее пение священников. На отпевании присутствовал только Николай, «неестественно бесстрастный, как будто на нем была маска». Александра, как ей сказали, «отказалась» прийти[497]497
Там же.
[Закрыть]. Именно так, без сомнения, истолковывала ее отсутствие молва. На самом деле императрица не смогла бы выстоять четырехчасовую службу. Но несмолкающие злые пересуды неумолимо делали свое дело. Глин отметила: «Меня ужаснуло, что ее непопулярность доходила до ненависти уже в 1910 году»[498]498
Там же, p. 204.
[Закрыть].
У писательницы сложилось стойкое впечатление, что общество Санкт-Петербурга рассматривало великую княгиню Марию Павловну как настоящую императрицу России, поскольку Александра теперь почти никогда не появлялась на публике, предпочитая уединение Царского Села[499]499
Там же, p. 194, 204–205. К большому сожалению, оригинальный и, без сомнения, увлекательный дневник Глин, относящийся ко времени ее пребывания в России, был уничтожен при пожаре в 1956 году.
[Закрыть]. Глин прямо признавала, что ее «потрясла та атмосфера несчастья и страха», которую болезненно-мрачная личность Александры создавала в придворных кругах – даже в ее отсутствие[500]500
В опубликованном в октябре 1911 года романе Элинор Глин «Его час» («His Hour»), в основу которого положены ее впечатления от поездки в Россию, нашло отражение ее предчувствие надвигающейся катастрофы в стране. Она посвятила роман великой княгине Марии Павловне.
[Закрыть]. Большое впечатление на нее тем не менее произвел Николай, который в течение всех траурных церемоний был напряжен, но держал себя с большим достоинством. Однако те, кто отвечал за его безопасность, сочли присутствие Николая на похоронах великого князя, в частности его настойчивое желание идти за гробом пешком в уличной процессии, безрассудным. Это был «беспокойный день для всех, кто имел отношение к обеспечению его безопасности».
«Приедут ли царь и царица в Зимний дворец, когда придворный траур закончится? – всех волновал этот вопрос спустя два месяца. – Это могло бы означать, что будет устроен один придворный бал, что по крайней мере лучше, чем вообще ни одного»[501]501
Там же, p. 347.
[Закрыть]. В дипломатических кругах назначение в Санкт-Петербург считалось «отвратительным» и редко кого могло обрадовать. Пост Уилер, который провел в России шесть лет, в течение своего пребывания не раз слышал критику в адрес царской семьи из-за ограничений в жизни их дочерей. Некая хозяйка светского салона как-то с сожалением сказала ему:
«Бедняжки!..Как можно так воспитывать императорских детей! Это же все равно, что держать их в Петропавловской крепости. Для маленькой Анастасии и Марии это, пожалуй, еще приемлемо… Но в отношении Татьяны и особенно Ольги, которой пятнадцать, это просто смехотворно»[502]502
Там же, p. 354.
[Закрыть].
Многие считали, что держать своих дочерей в такой изоляции, как это делала Александра, было жестоко и недальновидно. «Она хочет, чтобы они росли, не зная ничего о «трагедии русского двора», как она это называет», – утверждала одна дама, намекая, что Александра была в ужасе от его безнравственности[503]503
Там же.
[Закрыть]. Удивительно, но при этом все четыре сестры Романовы казались такими естественными и хорошо образованными. Все, кто встречался с ними, были единодушны в том, что это были прекрасные юные особы, душевные, верные и одновременно с гордым осознанием значимости своего положения. «Они никогда не позволят вам забыть, что вы имеете дело с великими княжнами, но они не забывают и о чувствах других людей», – так отзывалась о них одна фрейлина[504]504
«A Former Lady in Waiting Tells of a Visit to Tsarskoe-Selo», Washington Post, 2 May 1909.
[Закрыть]. Но увидеть царских детей, особенно Алексея, в городе можно было крайне редко. Гораздо больше шансов было увидеть их в Царском Селе. Пост Уилер вспоминал, что как-то он побывал в Царском вместе с графиней Толстой и ему посчастливилось повстречать царевича на прогулке в сопровождении казака-няньки. Мальчик был «укутан в длинное пальто с белым каракулевым воротником и в меховой шапке, лихо сдвинутой набекрень», он «охотно разговаривал, много жестикулировал, то и дело останавливаясь, чтобы взметнуть облачко снега». «Я смотрел во все глаза, – признался Уилер. – Ребенок был почти что легендой, я не знаю никого, кто его когда-нибудь видел».
Графиня, которая была близко знакома с императорской семьей, очень сочувствовала Алексею: «Бедное дитя! Вокруг только его сестры, ни одного мальчика его возраста, чтобы поиграть! Императрица поступает очень несправедливо по отношению к нему, да и к девочкам тоже, но никто не может переубедить ее!»[505]505
Wheeler and Rives. Указ. соч., p. 355–356.
[Закрыть] Такое мнение о царских детях было широко распространено, и с ним, конечно, трудно было спорить, хотя одному английскому посетителю, который получил аудиенцию в Царском Селе, представилась редкая возможность встретиться с Алексеем и девочками.
«Он казался слегка смущенным и стоял в конце комнаты в окружении своих сестер, красивых барышень, просто, но опрятно одетых. Они, по-видимому, чувствовали себя совершенно спокойно, вели себя открыто и не избалованно, как обычные хорошо воспитанные дети. Как только они вошли, улыбка материнской гордости осветила лицо императрицы, и она приблизилась к ним, любовно обвив шею сына»[506]506
«A Visit to the Czar», Cornhill Magazine 33, 1912, p. 747.
[Закрыть].
Алексей был явно центром вселенной для матери, в результате чего девочки семьи Романовых, казалось, обречены были быть своего рода дополнением, всегда быть в тени своего дарованного Богом брата. И тем не менее подспудно уже происходили изменения в отношениях между сестрами и братом. Александра все чаще поручала Ольге следить за поведением своенравного Алексея на публике, когда она сама не могла быть с ним из-за частого нездоровья. Однажды во время парада бойскаутов он попытался выйти из экипажа и маршировать с ними. Ольга помешала ему это сделать, тогда Алексей «ударил ее по лицу изо всех сил». В ответ Ольга лишь вздрогнула, взяла его за руку и гладила ее, пока Алексей не остыл. И только когда они благополучно возвратились домой, она убежала к себе в комнату и разрыдалась. Алексей раскаивался в полной мере – два дня он «был само покаяние и настоял, чтобы Ольга приняла от него за столом его порцию десерта». Он любил Ольгу, возможно, больше других сестер. Всякий раз, когда он получал выговор от своих родителей, Алексей «заявлял, что он Ольгин мальчик, забирал свои игрушки и шел к ней в комнату»[507]507
Minzlov. Указ. соч., p. 164; Рябинин А. Н., «Царская семья в Крыму осенью 1913 года». М.: Возрождение, 1963, с. 83.
[Закрыть].
К этому времени Ольга и Татьяна заметно отдалились от «маленькой пары», и Мария, самая скромная из четырех, стала страдать. Закралась также и ревность, поскольку она чувствовала, что, возможно, мать любит Анастасию больше ее. «У меня нет никаких секретов с Анастасией, я не люблю секреты», – успокаивала ее Александра в одном из своих писем. Через нескольких дней она снова писала: «Любимое дитя, обещай мне больше никогда не думать, что тебя никто не любит. Как такая невероятная мысль могла попасть в твою маленькую голову? Выкинь ее оттуда поскорей». Ощущая свою ненужность старшим сестрам, Мария стала в последнее время искать утешение в дружбе со своей двоюродной сестрой Ириной, единственной дочерью Ксении. Но Александра сказала ей, что от этого будет только хуже: ее сестры «подумают, что ты не хочешь быть с ними; теперь, когда ты становишься уже большой девочкой, тебе будет лучше побольше быть с ними»[508]508
LP, p. 330, letters of 7 and 11 March.
[Закрыть].
Мария явно стремилась завоевать одобрение и внимание своих старших сестер. В этом, возможно, кроется мотив письма, которое она написала Александре от их имени в мае 1910 года:
«Моя дорогая Мама! Как ты себя чувствуешь? Я хотела тебе сказать, что Ольге бы очень хотелось иметь свою отдельную комнату в Петергофе, потому что у нее с Татьяной слишком много вещей и слишком мало места. Мама, в каком возрасте у тебя была своя собственная комната? Скажи мне, пожалуйста, если это можно устроить. Мама, в каком возрасте ты начала носить длинные платья? Не кажется ли тебе, что и Ольга тоже хотела бы носить платья подлинней? Мама, почему бы тебе не переселить их обеих или только Ольгу? Я думаю, что им было бы удобно там, где ты спала, когда у Анастасии была дифтерия. Целую тебя. Мария. Постскриптум. Это была моя идея – написать тебе»[509]509
LP, p. 334, 17 May 1910.
[Закрыть].
В то же время эгоцентричная младшая сестра Марии, Анастасия, которая жила в своем собственном маленьком мире, была занята мыслями о совершенно разных и неожиданных предметах, выводя каракулями в записной книжке список того, что она хотела бы получить на день рождения в этом году:
«На мой день рождения я хотела бы получить игрушечные расчески [для своих кукол], машину для письма, икону Николая Чудотворца, какой-нибудь наряд, альбом для наклеивания с картинками, потом еще большую кровать, какая была у Марии в Крыму. Я хочу настоящую собаку, корзину для использованной бумаги, когда я пишу какую-нибудь книгу или что-то другое… Еще книгу, в которой можно писать небольшие пьесы для детей, которые можно представлять»[510]510
Цит. по: Титов И. В., «ОТМА: O великих княжнах Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии Николаевнах», Дворянское собрание, 4, 1996, с. 44. Анастасия уничтожила все свои дневники в 1917 году, но в Государственном архиве Российской Федерации сохранились некоторые ее тетради, откуда, очевидно, и взята эта цитата.
[Закрыть].
Было необходимо, чтобы кто-то присматривал за четырьмя такими разными и быстро развивающимися личностями в критические годы полового созревания, и эта необходимость возрастала в связи с частым отсутствием матери. Однако весь 1910 год увеличивались и проблемы с человеком, на которого в основном возлагалась эта задача, – с Софьей Тютчевой. Она не смогла ни с кем сдружиться, никто в царском окружении не любил ее из-за ее властных манер. В одном из дневников ее назвали «мужиком в юбке» за то, что она была склонна командовать, и за то, что она по-прежнему обращалась с подрастающими сестрами, словно с озорными маленькими детьми[511]511
Богданович А. В., Указ. соч., с. 506–507.
[Закрыть]. Высоконравственная Тютчева относилась к девочкам очень тепло, но при этом ее весьма настораживало повышенное к ним внимание, а точнее, отвлечение их внимания с появлением в их жизни молодых офицеров со «Штандарта», и она беспокоилась о соблюдении сестрами приличий во время отдыха в Финляндии, когда эти отношения стали развиваться[512]512
Саблин Н. П., «Десять лет на императорской яхте «Штандарт», с. 215–216.
[Закрыть].
Хотя ее преданность семье была неоспорима и желала она только добра, категоричность Софьи и ее постоянное установление неписаных законов и правил означали, что ее все время подстерегала опасность перейти в этом границы между ее собственными обязанностями наставницы и обязанностями Александры как матери девочек, которая (а отнюдь не Тютчева) в конечном счете несла полную ответственность за моральное благополучие детей. Тютчева никогда особенно не ладила с императрицей, она не одобряла чересчур вольный, «английский» стиль воспитания девочек. По словам Анны Вырубовой, «она хотела бы изменить всю систему воспитания, сделать ее полностью славянской и освободить ее от любых пришлых идей», а в последнее время стала открыто критиковать царицу даже перед своими подопечными[513]513
Vyrubova. «Memories», p. 63.
[Закрыть]. Тютчева с самого начала возненавидела Распутина и была весьма критически настроена к взаимоотношениям девочек и их матери с ним, считала это унизительным и неуместным. Сестер волновало ее откровенно враждебное отношение к Григорию, которое только усиливалось, и Татьяна намекнула в записке матери, написанной в марте 1910 года: «Я так боюсь, что СИ [Софья Ивановна] может наговорить Марии [Вишняковой] что-нибудь плохое о нашем друге. Надеюсь, что наша няня теперь будет хорошо относиться к нашему другу»[514]514
LP p. 330; Боханов А. Н., Указ. соч., с. 217–218.
[Закрыть].
В январе и феврале 1910 года Алексей страдал от болей в руке и ноге, Распутин десять раз бывал в Царском Селе, часто задерживался допоздна и долго беседовал с царской семьей. Александра велела Тютчевой не говорить больше детям ничего о посещениях Распутина. Софья на некоторое время присмирела, но потом снова начала сплетничать с великой княгиней Ксенией о его свободном доступе к семье и, в частности, к детям. «Он постоянно там, заходит в детскую, навещает Ольгу и Татьяну в то время, как они готовятся ко сну, сидит там, говорит с ними и ласкает их», – сообщила она Ксении[515]515
В своей книге «Мой отец», на с. 56, Мария Распутина категорически опровергает эти заявления: «Моего отца никогда не принимали ни в спальне Их Величеств, ни в спальнях великих княжон, только у Алексея Николаевича или в одной из гостиных и как-то пару раз в классной».
[Закрыть]. По указаниям матери дети становились все более скрытными, даже Елизавета Нарышкина (которая заняла должность гофмейстерины вместо недавно умершей княгини Голицыной) считала, что их мать так боялась скандала, что дети были научены «скрывать свои мысли и чувства относительно Распутина от других»[516]516
LP, p. 331; Naryshkin. Указ. соч., p. 196.
[Закрыть]. «Вряд ли полезно приучать детей к такому притворству», – полагал великий князь Константин[517]517
LP, p. 342–343.
[Закрыть]. Конечно, в своих новых нападках летом 1910 года Тютчева зашла уж слишком далеко. Но это еще больше ухудшило сложившееся в императорской семье мнение об Александре, даже ее сестры Элла и Ксения сомневались в целесообразности ее продолжавшегося покровительства Распутину.
Те, кто, как Лили Ден, любили Александру и уважали ее веру в Распутина, предавали поведение Тютчевой «презрению и поруганию». И Анна Вырубова, и Иза Буксгевден были убеждены, что она была источником большей части нелицеприятных сплетен об императрице и Распутине, которые ходили в Санкт-Петербурге. Но ущерб уже был непоправим, слухи становились с каждым днем все более отвратительными. У Ден вскоре появилась своя веская причина испытывать к Распутину благодарность за помощь, когда ее двухлетний сын Александр (известный всем как Тити) заразился дифтерией. Видя, как тяжело болен Тити, Александра и Анна Вырубова убедили ее обратиться за помощью к Григорию. Когда он приехал, то долго сидел на кровати мальчика, пристально глядя на него. Вдруг Тити проснулся, «протянул маленькую ручку, засмеялся и беззвучно, одними губами вымолвил: «Дядя, дядя». Тити сказал ему, что у него «очень сильно» болит голова, но Распутин только «взял руку мальчика, провел ему пальцем вниз по носу, погладил его по голове и поцеловал его». Уходя, Распутин сказал Лили, что лихорадка проходит и что ее сын будет жить[518]518
Кторова А., «Минувшее: пращуры и правнуки». М.: Минувшее, 2007, с. 88; Dehn. «Real Tsaritsa», p. 102.
[Закрыть]. К утру у Тити действительно прошли почти все симптомы болезни, и он полностью выздоровел уже через несколько дней.
Лили по-прежнему была убеждена, что это случайно совпало с визитом Распутина, но она также знала, что вера Александры в него была основана на ее абсолютной убежденности, что это был единственный человек, который мог помочь ее сыну. В связи с этим Лили была совершенно уверена, что если Распутин и имел какую-либо власть над императрицей, то она была исключительно мистического, а не корыстного или политического свойства[519]519
Кторова А., Указ. соч., с. 87.
[Закрыть].
Но на страницах влиятельной ежедневной газеты «Московские ведомости» и в других изданиях ширилась кампания по дискредитации императрицы и ее «друга». Сатирический журнал «Огонек» печатал интервью с его последователями, сообщая отвратительные подробности их «египетских ночей посвящения» в кружок Распутина[520]520
Almedingen. Указ. соч., p. 125.
[Закрыть]. Премьер-министр Столыпин возобновил расследование в отношении Распутина, и тот вновь посчитал за лучшее укрыться в Сибири.