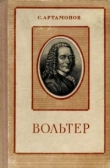Текст книги "Племянник Вольтера"
Автор книги: Ханс Энценсбергер
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
ФИЛОСОФ. Прекратите! Достаточно.
ПЛЕМЯННИК. Как? Неужели вам неинтересно? А лавина новых бумажных денег? А трюк с индийскими акциями? Великая была идея. И еще – "олений парк"14, мадам Помпадур! Ну, вы понимаете. Даже сводник может оказаться гениальным. Разумеется, все предоставлялось в кредит. С той поры король оказался в руках у банкира. Без его кредитов всем радостям пришел бы конец. Да, дорогой мой, все дело в кредите. А кредит нужно иметь. Это великое таинство, и Бернар его верховный жрец.
ФИЛОСОФ. Если существует пекло, он будет первым, кого там поджарят.
ПЛЕМЯННИК. Ничего подобного! Не успел он сколотить состояние, от которого разило за версту, как тут же обратился к Богу. Вы ведь видели его монахинь.
ФИЛОСОФ. Каких монахинь?
ПЛЕМЯННИК. Тех двух, что должны таскать его от исповедальни к столу, от стола к кровати и от кровати туда, куда каждый ходит в одиночестве. Когда он, старый потаскун, одряхлел и стал походить на мумию, то из фальшивого аббата превратился в самого подлинного святошу. Благодетеля человечества! Целый монастырь пожертвовал он этим бабам, и теперь они живут под его игом. Им приходится обслуживать его постоянно, с утра до вечера, они обязаны его мыть, причесывать, одевать. Но, что самое забавное: став беспомощным, он уже не в состоянии противиться их нежным заботам. Так он превратился в раба собственных рабынь.
ФИЛОСОФ. Поучительная история. И этому человеку вы завидуете?
ПЛЕМЯННИК. Нет. Я его изучаю. И это помогло мне узнать, откуда берется богатство наших дипломатов, шелковых фабрикантов и архиепископов. Спекулируют, наследуют состояния, проворачивают дела на чужие деньги. И в конечном счете всегда один разоряет другого. Все паразиты! Кого ни возьми. А что касается господ ученых – я не хочу быть бестактным...
ФИЛОСОФ. Я догадываюсь, к чему вы клоните. Нашего брата вы тоже не намерены щадить.
ПЛЕМЯННИК. Возможно.
ФИЛОСОФ. Но вы тем самым подгоняете все и вся под одну мерку: вора и судью, сутенера и философа, шлюху и гофмаршала.
ПЛЕМЯННИК. А почему нет? Если вы готовы признать, что гость тянет соки из хозяина дома – и наоборот; богатый из бедного – и наоборот; тогда почему взаимосвязь между умником и глупцом должна быть иной? Мы занимаемся метафизикой, или играем в марьяж; мы открываем отдаленнейшие острова южных морей и выстраиваем хитроумнейшие аферы с акциями – и какова при этом наша цель? Только одна – добыть себе пропитание.
Во время этого монолога возвращается старый господин, опираясь на двух монахинь. Он останавливается. Философ и Племянник, привстав, кланяются ему. Затем все трио возвращается в зал.
Чтобы было что жевать, и переваривать. Капитал в тридцать три миллиона золотом сколотил он, грабя, мародерствуя и доводя до банкротства других. И что это ему дало? Ведь главное в жизни – это легкое, регулярное, приятное отправление естественных надобностей. Блажен тот, кто каждый вечер может спокойно усесться на свой стульчак. Вот где истинное равенство. Там великий Бернар оставляет практически столько же, сколько и я, но при этом, готов спорить, ему приходится затрачивать больше усилий, чем вашему покорному слуге.
ФИЛОСОФ. Порой я спрашиваю себя, кто из нас философ, вы или я.
ПЛЕМЯННИК. Я не осмелюсь ответить вам. Но в одном я твердо убежден: знатные люди нуждаются в таких, как я. Мы им помогаем искупать грехи. Куртизанка мстит финансисту за принца; мошенник, камеристка, повар мстят куртизанке за финансиста. Мне же судьба предопределила вершить высшее правосудие над этим тюфяком Бертэном и этой бестией – его женой. В этом мире все получают по заслугам.
ФИЛОСОФ. А вам не кажется, что вы довольно неблагодарны по отношению к вашим покровителям?
ПЛЕМЯННИК. Разве я виноват, что они спутались с таким типом, как я? Нет, нет. Им было известно, чего я стою, а я все знал о них. Мы заключили молчаливый договор, которым устанавливалось, что они будут моими благодетелями, а я за их добро рано или поздно отплачу злом.
ФИЛОСОФ. Я нахожу, что он несколько односторонен, этот ваш договор.
ПЛЕМЯННИК. Дело не во мне. Возможно, в один прекрасный день я получу большое наследство, и тогда тем, кто транжирит миллионы, стану я. И тут уж я не собираюсь мелочиться. Готов вернуть все, что мне досталось, до последнего гроша – за игорным и обеденным столом, у женщин...
ФИЛОСОФ. Боюсь только, что до этого дело никогда не дойдет.
ПЛЕМЯННИК. Кто знает?
ФИЛОСОФ. Ну хорошо – допустим, что наступит день, когда вам достанется большое состояние. Что вы собираетесь с ним делать?
ПЛЕМЯННИК. То же, что делают все нищие, на которых свалилось богатство. Я бы хотел стать самым беспардонным парвеню, которого видел мир. Тогда моими паразитами станут другие, и я уж им за все отплачу. Мне нравится повелевать людьми, и я буду помыкать этими негодяями. Я люблю лесть, и меня станут превозносить. Всех писак, всех сплетниц я возьму на содержание, и обходиться с ними буду так же, как прежде обходились со мной. Ну-ка, паршивцы, я требую развлечений! И они будут меня развлекать, иначе я их прогоню за дверь. Они доставят мне любых девиц, каких я только пожелаю, и мы будем вместе с ними напиваться до чертиков. А за бокалом шампанского мы перемоем косточки всем добрым людям, которые возомнили себя образцом добродетели. Это так сладостно. Первым на очереди окажется мой дядюшка. Мы докажем, что Вольтер это самодовольный пачкун, что Монтескье сам не понимает, о чем говорит, что Дидро лишь толчет воду в ступе. А мелких моралистов, вроде вас, мы просто обойдем, пожав плечами, потому что прекрасно знаем вам цену. Вы презираете нас из чистой зависти, ваша скромность призвана скрывать ваше высокомерие, а живете вы неприхотливо только потому, что вам не остается ничего другого.
ФИЛОСОФ. А вы и вправду умеете делать комплименты.
ПЛЕМЯННИК. Я говорю вам лишь то, что богатые и влиятельные люди всех сословий думают о философии. На людей, подобных вам, смотрят просто как на странных чудаков, – как мне кажется, с полным основанием. Вы хотите доказать всему миру справедливость ваших фантазий, которые вы называете добродетелями. Но представьте себе, что вам вдруг удалось обратить все человечество в приверженцев вашей философии. Получилось бы чертовски грустное зрелище! Нет, лучше уж я буду следовать заветам Соломона: пить лучшие вина, поглощать изысканнейшие яства, спать с красивейшими женщинами, покоиться в мягкой постели, – а все остальное – суета сует.
ФИЛОСОФ. Я вас правильно понял? По-вашему, выступать за права, принадлежащие любому человеку от рождения, – пустая трата сил?
ПЛЕМЯННИК. Суета! На этой земле, от одного полюса до другого, я вижу только тиранов и рабов.
ФИЛОСОФ. И вы не пошевелили бы пальцем ради вашего лучшего друга?
ПЛЕМЯННИК. Суета! Разве у нас есть друзья? Но даже имей я друга, неужели я должен добиваться, чтобы он начал меня избегать? Благодарность тяжкое бремя. И потому любой человек сторонится того, кто помог ему в беде.
ФИЛОСОФ. А как бы вы поступали с вашими родителями, женой, с вашими детьми?
ПЛЕМЯННИК. Суета! Вы хотите, чтобы каждый из нас брал на себя семейные обязанности. Но к чему это приводит? К ревности, к разводам и тяжбам из-за наследства, к сплошным огорчениям. Вам это известно так же хорошо, как мне.
ФИЛОСОФ. Нет.
ПЛЕМЯННИК. Значит, вы искренне считаете, что следует быть хорошим человеком?
ФИЛОСОФ. Почему нет? Бывают роли и похуже.
ПЛЕМЯННИК. А мне какая с того выгода?
ФИЛОСОФ. Как только я делаю что-то правильное – такое случается, – я сразу же чувствую себя лучше.
ПЛЕМЯННИК. Ощущаете свою исключительность.
ФИЛОСОФ. Глупости. Я не говорил, что становлюсь лучше, но – чувствую себя лучше. Между прочим, совершенно безразлично, кто творит добро. Важно, что оно существует и что оно гораздо долговечнее, чем вам кажется, А вот у вашей подлости короткие ноги. Разумеется, когда вам удается кого-нибудь облапошить, у вас тут же загорается взгляд. Мне это знакомо. Вас распирает от злорадства. Вы торжествуете. Однако наутро вы смотритесь в зеркало, и вас охватывает неприятное чувство. И тогда вам остается лишь одно – усиливать дозу, придумывать еще более худшую подлость, и так это продолжается, пока в конце концов вы не замечаете, что в дураках остаетесь вы сами.
ПЛЕМЯННИК. Вот как? Почему же тогда в мире полно порядочных людей, которые несчастны, и счастливых, не имеющих с порядочностью ничего общего? Взгляните на меня: один-единственный раз я дал себе волю, всего на пять минут приоткрыл слабый проблеск того, что вы называете добродетелью и нравственностью, и сразу же погубил себя. И вы пытаетесь меня убедить, что этот путь и ведет к блаженству? Нет, нет. Люди прославляют добродетель, но ненавидят ее. Вышвыривают ее на мороз. А в этом мире, сударь мой, ноги нужно держать в тепле.
ФИЛОСОФ. Здесь, на этом диване, вы не замерзнете.
ПЛЕМЯННИК. Да, пока я еще здесь! Вы сами видели, как со мной обошлись лакеи. Почему порядочные люди так мелочны, так угрюмы, так неприятны? Я вам отвечу. Порядочные люди подвергают себя самоистязанию. Они грешат против собственной натуры. Отсюда их страдальческая мина, а человек страдающий причиняет страдания другим. Это не для меня. Я хочу быть жизнерадостным, непринужденным, веселым. Добродетель требует к себе уважения, а я его не испытываю. Она жаждет восхищения, а это обременительно. Люди, с которыми я общаюсь, все время скучают, стало быть, я должен их развлекать. Мне следует быть в добром настроении, остроумным, взбалмошным – любой ценой, даже если на душе кошки скребут. Словом, ваше представление о спокойном, добропорядочном счастье не для меня. Сейчас вы наверняка думаете, что я испытываю неприязнь к моралистам. Напротив! От них можно многому научиться. Я их основательно изучал.
ФИЛОСОФ. Неужели? Кого же вы читали?
ПЛЕМЯННИК. Лабрюйера, Ларошфуко, но охотнее всего – божественного Мольера.
ФИЛОСОФ. Что ж, превосходные книги.
ПЛЕМЯННИК. Но большинство людей не умеет их читать.
ФИЛОСОФ. Зато уж вы-то знаете, что в них главное.
ПЛЕМЯННИК. Мне кажется, знаю. По ним я учусь, как нужно себя вести, чтобы другие не замечали твоих намерений. Когда я, например, смотрю "Скупого", я говорю себе: будь сколь угодно скуп, но остерегайся и никому этого не показывай. Если же я изучаю "Тартюфа", то затверживаю навсегда: лицемерь, если необходимо, но изъясняйся так, чтобы никто не счел тебя лицемером. Оставайся таким, какой ты есть, но веди себя так, чтобы тебя не разоблачили.
ФИЛОСОФ. Бедный Мольер!
ПЛЕМЯННИК. Только не думайте, что я единственный читатель такого рода. Моя заслуга лишь в одном – благодаря своей проницательности и своему интеллекту я действую осознанно и последовательно, в то время как тупицы рассчитывают только на свой инстинкт. А на инстинкт, должен вам сказать, полагаться нельзя. В этом и состоит мое преимущество. Я даже способен отказаться от собственных правил, если это необходимо. Возьмите, к примеру, принцип, согласно которому никогда не следует выглядеть смешным.
ФИЛОСОФ. Вполне понятный принцип.
ПЛЕМЯННИК. Еще бы. Но возникают порой ситуации, когда лучше его нарушить, когда оказывается выгоднее быть шутом, или, по меньшей мере, играть роль шута. Трудно придумать лучшую роль. В прежние времена при каждом дворе был человек, которому доверяли эту должность. Но доводилось ли вам когда-нибудь слышать, чтобы кому-то присваивали титул придворного мудреца? Ни за что и никогда. Так я служил шутом при тупоголовом господине Бертэне, а сейчас я, наверное, ваш шут, или вы мой. В конечном счете и король может стать шутом своего шута.
ФИЛОСОФ. Кто знает?
ПЛЕМЯННИК. Да, все это настолько зыбко и расплывчато, что просто голова кругом идет! Разве вы не читали вашего Монтеня? Черным по белому он доказал: в наших нравах и обычаях нет ничего абсолютного, истинного или ложного, есть лишь непрестанное стремление быть или прикидываться тем, чего требует наше благополучие: мудрецом или шутом, добрым или злым, прямодушным или коварным, достойным или смешным.
Окажись случайно, что добродетель приносит нам счастье – я был бы первым, кто попытался бы встать на ее путь. Но при нынешнем положении вещей мне пришлось отдать предпочтение пороку. Говоря о пороке, я, разумеется, пользуюсь вашими понятиями, просто из уважения. Если же, однако, мы попытаемся проникнуть вглубь проблемы, может оказаться, что порок в вашем понимании для меня обернется добродетелью, и наоборот.
Философ издает стон.
Ну, что скажете? Вы и сами не знаете, что обо всем этом думать, не так ли?
ФИЛОСОФ. Я знаю только, что вы пытаетесь меня одурачить! Оставьте, наконец, ваши уловки!
ПЛЕМЯННИК. Мне лишь хотелось убедить вас, что я существо всеядное, неисправимый паразит, мерзкий, вероломный, подлый субъект. Вам, правда, все это давно известно. А может, я вас напугал?
ФИЛОСОФ. Ах, оставьте! Но эта манера, в который вы очерняете себя, кажется мне подозрительной. В подобных признаниях сквозит своего рода лицемерие. Вы мне напоминаете моего старого друга Руссо, эту гнусную личность. Он тоже, унижая самого себя, стремится торжествовать над другими. Плевать я хотел на вашу фальшивую откровенность! Если же вы нуждаетесь в исповеднике, будьте добры поискать кого-нибудь другого. Я не гожусь на эту роль.
ПЛЕМЯННИК. Боже упаси! Приношу вам тысячу извинений. Вы правы. Я зашел слишком далеко. У меня всегда так: то захожу слишком далеко, то проявляю нерешительность. Да, мои возможности ограниченны. Обладай я вашим талантом, я бы столько из него извлек! А моих способностей не хватает даже, чтобы казаться негодяем крупного масштаба. Я стараюсь изо всех сил, но, увы, слишком добродушен. Плохи мои дела! На мелких мошенников всем наплевать, зато великие преступники вызывают всеобщее восхищение. Да что там! Их почитают, и чем они более бессовестны и жестоки, тем большие им оказывают почести. (Пауза.) Вы ведь знаете, о ком я?
ФИЛОСОФ. О тех, кто сидит в зале?
Племянник усмехается, но не отвечает.
Да, их было бы полезно послушать. Нужно следить за каждым словом, ими произнесенным, а потом передать услышанное потомкам, которые с трудом поверят, что мы были такими варварами. А я вместо этого попусту трачу свое время на вас.
Он встает и направляется в зал, но Племянник берет его за рукав и удерживает.
ПЛЕМЯННИК. Не стоит. Оставайтесь здесь. Я покажу вам, что там происходит.
Философ снова садится. В следующем монологе Племянник выступает как имитатор голосов, он также копирует мимику того или иного участника конференции, поначалу несколько сдержанно, а к концу все более утрированно.
ПЛЕМЯННИК. "Уважаемые господа! Думаю, мы едины во мнении, что негр по своей природе склонен к воровству, распутству, лености и предательству. И потому весьма невразумительными представляются нам протесты некоторых писателей против строгого с ними обращения".
"Справедливо! Но разве нельзя улучшить условия их перевозки? Судовладельцы Нанта предприняли за последние тридцать лет пятьсот сорок одну экспедицию, вывезли на своих судах из Африки сто сорок шесть тысяч семьсот девяносто девять голов, однако в Вест-Индию прибыло и было продано только сто двадцать семь тысяч сто тридцать три головы, таким образом потери составили девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть голов. Это огромные финансовые потери! Дальше так продолжаться не может."
"В связи с этим я позволю себе напомнить о королевском указе тысяча шестьсот семидесятого года, который по сей день остается в силе. В нем говорится, я цитирую: "Его величество повелевает всемерно развивать торговлю черными рабами, ибо ничто не может в большей степени способствовать процветанию наших колоний".
Племянник сам себе аплодирует.
"И потому клеветнические утверждения, будто работорговля противоречит принципам человеколюбия, следует считать государственным преступлением, ибо она, напротив, вполне безобидна и абсолютно законна. Величайшим несчастьем для этих достойных сожаления африканцев стало бы упразднение работорговли. Ведь они находят в утрате свободы свое спасение, ибо мы приобщаем их к благодати истинной, римско-католической, апостольской церкви".
"Прошу прощения! И все же, если рабство должно приносить ощутимый доход, следовало бы несколько облегчить их положение".
"Что вы хотите этим сказать?"
Следующие пассажи Племянник исполняет с музыкальным сопровождением. Постепенно он переходит на мелодекламацию. К концу он начинает имитировать музыкальные инструменты, его интермедия становится все более неистовой и громкой.
"Я себе это представляю так: нужно разрешить негру танцевать и петь. Музыка поможет обуздать его прирожденную глупость и побудить его к работе".
"Да, но как быть, если музыка пробудит его звериные инстинкты, даст волю его похоти? Если он, ударяя в барабан, забудется, если он поднимет нож, станет им размахивать, пошатнется в припадке ярости, покроется пеной, взбесится?"
В заключение он самозабвенно исполняет танцевальный номер. Затем в изнеможении опускается на скамью. Наступает очередь Философа. Произнося следующую тираду, он возбужденно ходит взад и вперед. Говорит серьезно. О Племяннике он забыл. Обращается прямо к публике.
ФИЛОСОФ. Ложь! Все ложь! Уже целое столетие наша Европа повсюду трезвонит о своих благородных принципах. Призывы к человеколюбию гремят со всех сцен и кафедр так назойливо, что хочется заткнуть уши. И только судьба рабов нам безразлична. Негров истязают, калечат, сжигают, убивают, и мы хладнокровно принимаем это к сведению.
Если я высаживаюсь на чужом берегу, захватываю женщин, детей, землю туземцев, если я покушаюсь на их свободу, если вершу насилие над их верованиями, если превращаю их в рабов – кто же я тогда, как не дикий зверь? А как действуют европейцы? Не успеют их мореходы ступить на сушу, как сразу же вкапывают в землю кусок жести, на котором написано: эта местность принадлежит нам. А почему она должна им принадлежать? По какому праву?
Едва успев пересечь экватор, наши земляки перестают быть англичанами, испанцами, голландцами, французами, они превращаются в диких зверей – да что там, они хуже, потому что ими движет не только жажда крови. Здесь жажда наживы, которую утолить невозможно. А губернаторы, которых мы посылаем в наши колонии: ведь это настоящие деспоты, которых следовало бы перевешать без долгих разговоров!
Взгляните на судовладельца, как он, склонившись с пером в руке над своим письменным столом, спокойно подсчитывает, сколько штук ситца отдаст он за чернокожего раба из Гвинеи, во что ему обойдутся цепи, в которые несчастного закуют, и как дешево придется ему уступить работорговцу негритянку, которую этот подлец хочет заполучить для своей постели. А священник! Посмотрите, как он из рук судовладельца принимает пожертвования, за то, что благословляет это кровавое дело! Будь проклято мгновение, когда первый француз увидел берег Вест-Индии!
Во время этой речи Племянник начинает дремать, чего Философ не замечает. Но, начав говорить о судовладельце, Философ садится на скамью рядом с Племянником, и, стремясь подчеркнуть свои слова, хлопает Племянника по колену, отчего тот в испуге просыпается.
Вы меня поняли?
ПЛЕМЯННИК. Конечно, конечно. Вы человек совести, вы хотите как лучше, вы не желаете быть соучастником в торговле живым товаром. Но не кажется ли вам, что вы несколько эгоистичны? Что станет с нашими судовладельцами, нашими финансистами, со всеми их секретарями, капитанами, писарями и матросами? Кто будет оплачивать чиновников, когда перестанут поступать налоги и пошлины? Да, согласен, все они – никому не нужный балласт, скажете вы, паразиты, пусть проваливают ко всем чертям! Ладно, однако следовало бы вспомнить об их родителях, их вдовах и сиротах. А вы подумали обо всех остальных, у кого вы намерены отнять последний кусок хлеба? О плотниках на верфях, о кузнецах, о канатчиках и парусниках, о пушечных и оружейных мастерах? Если вы положите конец этому промыслу, кому будут нужны стеклянные бусы, ножи, зеркальца, шелковые платки, колокольчики и алкоголь, посредством которых мы несем счастье в Африку?
Кроме того, откуда, если не из наших колоний, должен поступать хлопок для мануфактур Лилля и Лиона, индиго, которым окрашена ваша рубашка, кофе, который вы по утрам пьете в кафе "Прокоп", сахар, прежде всего, сахар, придающий сладость вашему десерту? Невозможно себе представить, чтобы вы обходились без всех этих приятных вещей. Да вы просто неблагодарный человек, дорогой философ.
Тем временем задняя дверь приоткрывается. В ней стоит один из Лакеев и напряженно прислушивается к словам Племянника, стараясь казаться равнодушным. Через приоткрытую дверь из зала доносится обрывок выступления очередного оратора.
ОРАТОР В ЗАЛЕ. ...ибо она, напротив, вполне безобидна и абсолютно законна. Величайшим несчастьем для этих достойных сожаления африканцев стало бы упразднение работорговли. Ведь они находят в утрате свободы свое спасение, ибо мы приобщаем их к благодати нашей церкви...
Племянник торжествует. Лакей тем временем на цыпочках подходит к Философу. Он что-то шепчет ему на ухо и показывает на открытую дверь. Философ отрицательно качает головой. Лакей отходит от него и возвращается в зал.
ФИЛОСОФ. И не подумаю! Об этом не может быть и речи. Я не позволю командовать мной.
ПЛЕМЯННИК. Чего он хотел?
ФИЛОСОФ. Они требуют, чтобы я выступил в дебатах.
ПЛЕМЯННИК. Но ведь для того вас и пригласили.
ФИЛОСОФ. Это ловушка!
ПЛЕМЯННИК. Ловушка? Как это?
ФИЛОСОФ. Им доподлинно известно, что я не смогу сдержаться. Они только и ждут, что я не стану скрывать своих суждений и сам суну голову в петлю, к тому же при свидетелях. Им нужно все это документально запротоколировать, черным по белому, и дело закончится...
ПЛЕМЯННИК. Чем же?
ФИЛОСОФ. Венсенном или Бастилией.
ПЛЕМЯННИК. А вы стали осторожны.
ФИЛОСОФ. Нескольких недель тюрьмы мне вполне хватило.
ПЛЕМЯННИК. Но ведь это случилось довольно давно. Тогда вы были никем. А сегодня императрица Екатерина платит вам внушительное жалованье и приглашает в Петербург. С шефом полиции вы на дружеской ноге. Словом, вы теперь европейская знаменитость. Не понимаю, чего вы опасаетесь. Хотя...
ФИЛОСОФ. Хотя – что?
ПЛЕМЯННИК. Хотя вышеупомянутая книга могла бы послужить поводом. Черт побери! Должен признать... Шляпу долой!
ФИЛОСОФ. Не знаю, о чем вы.
Незаметно для собеседников открывается дверь в зал. Появляется старый банкир, поддерживаемый двумя монахинями. Он бредет через сцену, останавливается, выслушивает следующую реплику, качает головой и уходит направо.
ПЛЕМЯННИК. "Верховный суд настоящим постановляет: вышеупомянутую книгу руками палача разорвать и сжечь у подножия лестницы дворца правосудия, как безбожное, кощунственное, подстрекательское сочинение, преследующее целью возмутить народ против королевской власти и ниспровергнуть основные принципы общественного устройства". – Желаете слушать дальше?
ФИЛОСОФ. Мне знаком этот текст. Но что он имеет общего со мной?
ПЛЕМЯННИК. "Относительно автора, Гийома Томаса Рейналя15, чье имя указано на титульном листе вышеупомянутой книги, верховный суд постановляет..."
ФИЛОСОФ. "...взять его под стражу и заключить в тюрьму Консьержери." К счастью, он уже давно сидит в Готе или в Невшателе, где его уже не достать.
ПЛЕМЯННИК. Да, Рейналь! Но вы...
ФИЛОСОФ. Что вы хотите этим сказать?
ПЛЕМЯННИК. Но, послушайте! Самые сочные страницы вышеупомянутой книги никогда не выходили из-под пера бедного Рейналя, этого педанта. Создать нечто столь пламенное ему просто не под силу. Написать такое могли только вы.
ФИЛОСОФ. Откуда вы можете знать?
ПЛЕМЯННИК. Такова моя профессия.
ФИЛОСОФ. Профессия! Профессия! У вас, на мой взгляд, слишком много профессий. К чему вы клоните? Вы что, шпион? Доносчик? Намерены меня шантажировать? Предостерегаю вас. Все это плохо для вас кончится.
ПЛЕМЯННИК. Но к чему такое недовольство, такое раздражение?
ФИЛОСОФ. Мне слишком хорошо известно, что все мы барахтаемся в невидимой сети. В сети тайной полиции. Мы окружены шпиками. Любой, даже самый честный человек, может в этой стране в одно мгновение потерять все: свое состояние, ибо эти чиновники – банда разбойников; свою честь, ибо о праве и законе здесь говорить бессмысленно; свою свободу, ибо по убеждению наших правителей – цена ей грош; и даже свою жизнь, ибо эти люди не останавливаются ни перед чем.
ПЛЕМЯННИК. Вам бы следовало придерживаться заветов Эпикура и Демокрита. Душевное равновесие, стоическая невозмутимость – вот главные качества, отличающие философа.
ФИЛОСОФ. Оставьте меня в покое.
ПЛЕМЯННИК. Я лишь хотел сделать вам комплимент. Ваша речь о рабстве, которую вы только что произнесли, была прекрасна!
ФИЛОСОФ. Да ведь вы спали!
ПЛЕМЯННИК. Я только прикрыл глаза, чтобы не упустить ни единого слова. Некоторые ваши формулировки показалась мне знакомыми. Они мне напомнили вышеупомянутую книгу, "Политическую историю обеих Индий".
ФИЛОСОФ. Гийома Томаса Рейналя.
ПЛЕМЯННИК. Странно. Дело в том, что бедный Рейналь долгие годы был на содержании у военно-морского министерства, именно того самого учреждения, которое ответственно за колонии. И посему возникает законный вопрос: кому принадлежат кощунственные, подстрекательские места, столь прославившие это сочинение. Неужели тому, кто получал жалованье?
ФИЛОСОФ. Мне вы ничего не сможете доказать.
ПЛЕМЯННИК. И еще кое-что, вызывающее мое удивление. То, что у вас есть возлюбленная, говорит, разумеется, в вашу пользу, но у этой дамы имеется племянник, – Париж сегодня буквально кишит племянниками, не правда ли? которому вы устроили теплое местечко. Насколько мне известно, он назначен секретарем губернатора Гайаны. Да, связи – весьма полезная вещь. "А губернаторы, которых мы посылаем в наши колонии: ведь это настоящие деспоты, которых следовало бы перевешать без долгих разговоров!" Ваши слова!
ФИЛОСОФ. Все, я сыт вами по горло.
ПЛЕМЯННИК. И еще эти племянники повсюду, не так ли? Просто беда с ними.
ФИЛОСОФ. Вы недооцениваете меня. Я могу вас раздавить!
ПЛЕМЯННИК. Вот как?
ФИЛОСОФ. Я знаю о вас больше, чем вам хотелось бы.
ПЛЕМЯННИК. По принципу взаимности.
ФИЛОСОФ. Я был терпелив с вами. Я выслушивал ваши стенания по поводу дядюшки. "Всему свету я известен только как племянник, племянник великого, славного Вольтера". Ха! Но ведь вы даже не племянник, мой дорогой. Даже не племянник!
ПЛЕМЯННИК. Что вы хотите этим сказать?
ФИЛОСОФ. Вы были молоды и голодны, и он отнесся к вам благосклонно. Тогда вы, должно быть, выглядели весьма аппетитно.
В следующей сцене Философ подражает Вольтеру.
Не понимаю, Мари-Луиза, что ты имеешь против юноши! Я нахожу его очаровательным. К тому же он может быть мне полезен. Ты слишком ленива и необразованна, чтобы приводить в порядок мои бумаги, милая племянница. Впрочем, он пробудет у нас всего несколько недель. Не собираешься же ты ревновать к нему – только потому, что я позволяю ему спать в моей приемной?
(Снова в образе Философа, обращаясь к Племяннику.) А вы угнездились там как клещ. Вы его обобрали до нитки, и тогда...
(Снова в образе Вольтера, обращаясь к племяннице.) Он крадет все, что только можно унести. Мои письма, мою бриллиантовую брошь.
(Изображает голосом и пластикой племянницу.) Я могла сразу тебе сказать, что он – просто крыса. Но ты же не хотел меня слушать.
ПЛЕМЯННИК. Да как вы посмели! Вы лжете!
ФИЛОСОФ (как племянница). Да, пока он был твоей постельной собачкой, но теперь, когда стал жирным и лохматым...
ПЛЕМЯННИК. Не было этого!
ФИЛОСОФ (теперь он подражает Племяннику). Вы мой благодетель! Я преклоняюсь перед вами!
(Голосом Вольтера.) Поклонение мне привычно, но от вашего поклонения, да еще в подобной манере, прошу меня избавить.
(Как Племянник.) Простите меня! Молю вас! Это никогда не повторится.
(Как Вольтер.) Прочь! Прочь! Не прикасайся ко мне! Это омерзительно!
(Бросает ему деньги.) Вот, возьми! Забирай и вон отсюда! И больше не показывайся мне на глаза!
Племянник зажимает уши.
ПЛЕМЯННИК. Хватит! Прекратите!
ФИЛОСОФ (как Вольтер). Мари-Луиза! Мари-Луиза! Слышала последнюю новость? Теперь он бегает по Парижу и повсюду выдает себя за моего племянника. За моего племянника! Дальше некуда! Но не беспокойся, дорогая племянница, я уже пригласил нотариуса. Он не получит ни гроша. Я лишаю его наследства!
ПЛЕМЯННИК. Что?! Откуда вам это известно?
ФИЛОСОФ. Это уж моя забота.
ПЛЕМЯННИК. Нет. Он не может так со мной поступить.
ФИЛОСОФ. Я вас предостерегал. Но вы думали: он же всего лишь философ, а в ваших глазах это означает – наивный простак.
ПЛЕМЯННИК. Да, да, да. Я готов это признать. Боже мой, сам не знаю, что со мной происходит. В последнее время я совершаю ошибку за ошибкой.
Пауза. Из-за сцены справа доносится шум спускаемой воды. Оба собеседника в изнеможении глубоко опускаются в кресла.
ФИЛОСОФ. Ну да ладно. Порой мне надоедает играть роль философа. Ведь рассудок так хрупок. Следует проявлять осторожность, чтобы не сойти с ума, философствуя о философии. И еще вечные неприятности с издателями, этими отъявленными мошенниками. Что ни день – любопытные, просители, соглядатаи, которые не дают мне работать. Ведь я затворник. Да, я сижу из года в год, как арестант, разница лишь в том, что у моей камеры стены бумажные.
Не замеченный собеседниками, появляется старик с двумя сопровождающими его монахинями и семенит обратно в зал. Теперь на нем надет, поверх шелковых панталон до колен, пиджак в узкую полоску и галстук.
Повсюду рукописи, aide-memoires16, счета, протоколы... И все это постепенно зарастает плесенью. И еще политика! Она нагоняет на меня тоску. До чего унылое занятие. И почему я? Почему я должен вечно подставлять голову?
ПЛЕМЯННИК. И со мной так же. Придя сюда, я был свеж и бодр. А теперь? Вы же видите, я больше ни на что не гожусь.
ФИЛОСОФ. Это пройдет. А сейчас нам обоим нужно немного взбодриться.
Он сдергивает ткань, которой прикрыт предмет, стоящий на столике. Под тканью оказывается кофейник-эспрессо. Он наливает кофе себе и Племяннику.
ПЛЕМЯННИК. Спасибо. Между прочим, вы сейчас были несправедливы ко мне. У меня и в мыслях не было делать вам пакости. Я просто хотел увидеть вашу реакцию. Прекрасный был момент, когда вас охватила паника. Из-за такой мелочи! Подумаешь, мелкое противоречие... Никогда прежде не были вы мне столь симпатичны.
ФИЛОСОФ. А ведь вы тоже не на шутку перепугались, когда я вам сказал, будто ваш дядя, который вовсе не ваш дядя, лишил вас наследства. (Смеется.)
ПЛЕМЯННИК. Так это неправда? Вам хотелось только подурачить меня?
ФИЛОСОФ. Я этого не сказал. Помучайтесь еще. Так вам и надо.
Звучит телефонный сигнал. Племянник достает из кармана мобильный телефон и отвечает.