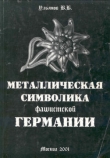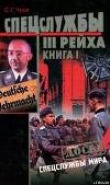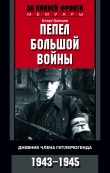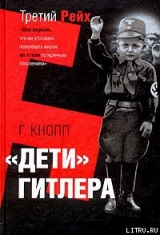
Текст книги "Дети Гитлера"
Автор книги: Гвидо Кнопп
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Лишь половина опрошенных нами очевидцев смогла вспомнить что-либо о разжигании ненависти против евреев в СГД или на занятиях в школе. Ирмгард Рогге рассказывает о манипуляциях власти: «Мы были лучшими людьми в мире, мы были самыми прекрасными людьми в мире, мы были сами замечательными людьми в мире. А евреи были полной противоположностью. Так нам преподносили это. Говорят, что капля за каплей камень долбит. Мы были как раз таким камнем. Когда день за днем говорят одно и тоже, начинаешь этому верить». Маргарита Кассен вторит ей: «Раса было важнейшим словом в нашей жизни».
Не менее важным пунктом расовой теории было подчеркивание идеальных черт типичной германской девушки. Разумеется, идеальная нордическая девушка должна была быть светловолосой, голубоглазой, белокожей. Те, кто не соответствовал стандарту, пытались исправить положение. Урсула Земпф из Берлина вспоминает: «Однажды я купила большую бутылку перекиси водорода, промыла им волосы и высушила их. Когда мать увидела это, она дала мне пару оплеух и отругала. Но было уже поздно. Так в одночасье мои волосы стали сверхсветлыми и нордическими. Этот случай произошел незадолго до моего выхода на работу. Моим начальницам на работе цвет моих волос очень понравился. Я соответствовала идеалу». Идеал как женской красоты, так и мужской был повсюду один и тот же.
Мария Айзенэкер объясняет, что дети и молодежь едва ли могли противостоять яду нацистского учения: «Нашего собственного мнения никто не спрашивал. Мы должны были повторять только то, что заучили». Запрещение всяких контактов с еврейками – подружками по играм становилось обычным делом. Одна из опрошенных вспомнила, как её мать в 1941 году закрашивала еврейских подруг на фотографиях из семейного архива. Физическому уничтожению евреев предшествовала их ликвидация в головах у немцев.
Соприкосновение с беззаконием разводило людей по разным дорогам. Худшие, в том числе женщины и девушки, добровольно шли служить в охрану концлагерей. Благородные и честные выбирали путь открытой борьбы против режима. Инга Шоль сестра казненной нацистами Софи Шоль, которая была участницей группы сопротивления «Белая Роза», писала: «Я вспоминаю одну велосипедную прогулку под вечер. Софии тогда было пятнадцать лет. Она сказала, что всё было бы гораздо лучше, если бы не было гонений на евреев. В классе Софии учились две еврейки – Луиза Натан и Анна-Лиза Валлерштайнер. Она очень переживала за них».
«Мне нужна сильная, властная, бесстрашная и жестокая молодежь. Она должна быть такой. Она должна переносить боль. Она не должна быть слабой и изнеженной». Гитлер выдвинул эти требования, когда его режим уже не скрывал свою чудовищную сущность. О том, что горели синагоги и депортировали людей, большая часть опрошенных нами людей знала уже в те времена. Однако, о массовых убийствах, происходивших не на войне, а в лагерях многие из опрошенных тогда не имели понятия. Барбара Рёпер из Кобленца говорит: «Мы знали, что есть местечко Дахау, но что происходило там в действительности нам было неизвестно. Один раз мне сказали:»Держи язык за зубами, а то отправишься в Дахау».
Ночь погромов 9 ноября 1938 года, которая по официальной версии нацистов была вызвана «народным гневом», и факт проведения которой вначале не признавался, так как местные партийные функционеры лишь с опозданием в несколько дней отреагировали на неё, оставила глубокий след в памяти некоторых очевидец. Гертрауд Вортман до сих пор содрагается, вспоминая об этой ночи: «Они стащили одну старую женщину за волосы по лестнице вниз. Я стояла и думала:»Что они делают, что это такое? Наверное, это преступница, которая что-то совершила.» Затем меня стошнило от этого зрелища». Гудрун Паузеванг, которая в 1938 году проживала в маленькой силезской деревушке, рассказывает о значительных эмоциональных расстройствах у детей, которые были вызваны происходившими актами террора: «Перед разбитыми витринами скобяной лавчонки старый еврей собирал битые стекла и черепки. Возле него полукругом столпились зеваки. Меня особенно поразила неестественная тишина. Никто не кричал ему, что он – „еврейская свинья“, так его все хорошо знали, и он никогда никому ничего плохого не сделал. Мне было тогда десять лет. И мне было очень жаль этого человека, которого фактически поставили к позорному столбу. Я подумала тогда „Ради всего святого, ведь я не должна проявлять сочувствие евреям“. Это внутреннее терзание было невероятно сильным».
Члены Союза германских девушек во времена нацизма также оказались перед проблемой нравственного выбора. Тот, кто лично знал евреев и дружил с ними, должен был решить для себя что делать; продолжать симпатизировать евреям или откликнуться на призывы травли и притеснения своих вчерашних знакомых. Возможность компромисса практически отсутствовала. Тысячи евреев, которые успешно скрывались от сыщиков Эйхмана в самой Германии, служат доказательством того, что иногда немцы вопреки смертельной опасности выбирали первый путь.
Начиная с раннего возраста, девочки, состоявшие в СГД, испытывали на себе влияние антисемитской пропаганды. Мелита Машман сообщает о любимом развлечении своей руководительницы: «Она строила нас в три шеренги и мы громко печатали шаг на протяжении нескольких кварталов по Курфюрстендам. „Здесь живут богатые евреи. Надо бы слегка нарушить их послеобеденный сон“, – говорила она».
Анна Мария Страсоцки, работавшая в бюро СГД, вспоминает: «В этом же здании прямо под нами размещалась СД – служба безопасности. Один из ее отделов был отгорожен раздвижными решетками, чтобы никто из посторонних не прошел внутрь. Оттуда постоянно раздавались громкие крики. Это было страшно слушать, и я очень боялась».
Когда депортация шла полным ходом, а на Востоке занималась заря самой мрачной главы в истории Германии, среди населения распространилось чувство ожидания каких-то страшных событий. Хотя существование лагерей уничтожения считалось государственной тайной, рассказы о массовых расстрелах из уст солдат-отпускников, служивших в охране, и неизвестность дальнейшей судьбы евреев, депортированных на Восток, порождали худшие опасения. Дорис Шмид-Гевинер утверждает, что ей уже во время войны было известно о «лампах из человеческой кожи и вырванных золотых зубах». Это признание можно рассматривать не только как единичный случай осведомленности, но и как пример поразительной открытости на фоне многих, кто уже тогда знал достаточно о том, о чем не хотелось знать.
У нас не было основания не доверять тем опрошенным женщинам, которые заявили о том, что о холокосте они узнали лишь после окончания войны. Многие действительно ничего не знали. Иначе как объяснить сильнейшую шоковую реакцию у немцев, когда победители показывали им документальные фильмы о преступлениях в концентрационных лагерях. Кроме того, упрек в соучастии в преступлениях звучит не совсем корректно, так как человеку свойственно забывать о том, в чем он лично не участвовал. Бывший член СГД Лора Вальб в своих дневниках о временах национал-социализма на собственном примере показывает феномен вытеснения «нежелательной информации»: «Собранные факты просто давят на меня. Отговорка „я забыла“ здесь не проходит. То, о чем я больше не вспоминаю, есть защитная реакция моего подсознания. Она показывает, что я знаю о преступлениях или я боюсь, что о них станет известно. С подобным грузом знаний просто невозможно жить».
Некоторые из наших собеседниц рассказали о случаях из собственной жизни, когда им приходилось сталкиваться с террором. Барбара Рёпер в 1943 и 1944 работала кондуктором в Кобленце. «Однажды мы совершили особую поездку на другой берег Рейна. Нам сказали, что оба вагона на этот раз обслуживать не надо. Они идут до вокзала». Конкретных деталей она не знала, но цель поездки ей была известна. В вагонах увозили людей на ликвидацию. У Барбары уже тогда открылись глаза на происходившее. Таких, как она, были сотни тысяч, соприкоснувшихся с террором. Они работали в дорожной службе, полиции, нотариальных конторах или были просто случайными свидетелями.
Как отражался террор на детях, которые были еще не в состоянии, осознать всю страшную реальность того времени. Вальтрауд Гюнтер вспоминает о том, как она, не понимая сути событий, наблюдала за депортацией семьи своей подруги: «Я хотела зайти за ней по дороге в школу. Нам было меньше десяти лет. Перед её домом стоял грузовик. В него грузили мебель. Я была потрясена. Я подумала: „Какая низость. Она даже не попрощалась со мной и не сказала, что переезжает.“ Лишь позднее я поняла, что стряслось с моей подружкой».
«Что вы делали и что вы думали?» – вот главные вопросы к целому поколению. Ответы могут быть сугубо индивидуальными. Однако нам встретился достаточно распространенный образец, который отражает внутренние противоречия в сознании представителей этого поколения. Одним из таких абсурдных противоречий на сегодняшний взгляд является поиск виноватых в окружении «любимого фюрера». Герда фон Ирмер рассказывает: «Всегда говорили так – „если бы фюрер знал об этом!“ Если с кем-то обходились очень плохо или кого-то отправляли в концлагерь, то люди говорили, что фюрер наверняка не знает об этом, и что от него всё скрывают». Преступник в роли жертвы своего ближайшего окружения. Столь распространенная точка зрения объясняет исторический факт, почему многие немцы вздохнули с облегчением, узнав, что Гитлер остался жив после покушения на его жизнь 20 июля 1944 года.
При этом диктатор и его подручные не скрывали от общественности своих преступных человеконенавистнических планов. В 1939 Гитлер прямо заявил, что следствием войны станет полное уничтожение еврейской расы в Европе. Геббельс также объявил об «искоренении», выступая во дворце «Фолькспаласт». Геринг же в своей печально знаменитой речи после поражения под Сталинградом пригрозил «еврейской местью немецким женщинам и детям». Месть за что?
По мере убывания военного счастья на фронтах нацистская пропаганда начинала в большей мере указывать на истинные масштабы «решения еврейского вопроса», чтобы сделать всех немцев соучастниками преступлений режима и навсегда связать их со свастикой. Многие из опрошенных и сегодня отчетливо помнят последние месяцы войны и свои страхи о тотальном возмездии по отношению к ним после войны со стороны победителей. «Мы думали, нас всех сошлют в Сибирь в трудовые лагеря».
Из разговоров с представителями того поколения стало ясно, как много душевных травм и по сей день остается у них как последствие перенесенных страданий. В уютных интерьерах, которые излучали достаток и обеспеченность буржуазного общества, мы выслушали немало трагичных историй. Некоторые из них нам поведали жертвы нацизма. Цыганка Сейя Стойка перенесла многое: от почтовой посылки с пеплом её отца из концлагеря до собственных скитаний по лагерям от Равенсбрюка до Аушвица. Она помнит мельчайшие подробности о своих надзирательницах из женского лагеря в Равенсбрюке: «Мне понятно, когда они оскорбляли и били меня сапогами и плетками до крови. Но особенная подлость по отношению к женщине – это когда тебя бьют по голове, а ты лежишь в крови».
После войны состоялся судебный процесс над надзирательницами из Равенсбрюка. Из судебных материалов выяснилось, что юные охранницы сделали в свое время «карьеру» в Союзе германских девушек. Наиболее жестоких казнили. Среди них была Доротея Бинц, которую радовала любая возможность мучить заключенных. Однако при вынесении приговора этим помощницам палачей тоже потребовался дифференцированный подход к решению их участи. Две из обвиняемых девушек помогали заключенным передавать письма «на волю» и из-за этого их самих отправили в лагерь. И такие невероятные истории происходили. Даже под формой СС могла скрываться человечность. Именно в последние годы войны все большее количество девушек из СГД отправлялось в приказном порядке служить в охрану лагерей. Чем это оборачивалось для молодых девушек, рассказывает Эвелис Хайнцерлинг, которая служила во время войны в зенитной батарее. Однажды к ним прислали девушку, которая раньше проходила службу в концлагере Равенсбрюк. «О своей прежней службе она сказала только то, что оттуда её забрал отец. Она не могла там больше выдержать. Жалела её. Она вся ушла в себя и не говорила ни слова о своей жизни в лагере».
На примере таких девушек, «откомандированных в индустрию смерти», можно проследить, во что вылилось с приходом войны большое воодушевление начальным этапом у молодежи рейха. Добровольное вступление в Гитлерюгенд обернулось службой. Служба стало долгом, а долг превратился в насилие. Миллионы девушек должны были работать в промышленности и сельском хозяйстве, чтобы заменить ушедших на войну мужчин. Теперь для целого поколения реальностью стало то, во что они играли в предвоенные годы. Акции по сбору старой одежды и сбору картофельных жуков, ежегодные призывы к «зимней помощи», воскресным обедам из одного блюда в целях экономии продовольствия и работа на полях нашли свое продолжение на военных заводах. Шутки и смех закончились. Почти все, с кем мы беседовали, были призваны на работу в военные годы. Многие из них уже тогда понимали, что продолжение войны стало возможным во многом благодаря их труду. Безусловно, в случае уклонения их бы наказали. Дорис Шмид-Гевинер вспоминает: «Наша мать всегда говорила так:»Делай, что приказано. Иначе отправишься в лагерь.» Любая ошибка могла привести к смерти».
Однако у многих бывших девушек позитивные воспоминания остались от работы в сельском хозяйстве. Работа у крестьян для девушек из больших городов часто становилась первым общением с настоящей природой. О том, какие масштабы приняла трудовая повинность на селе, свидетельствуют данные нацистской пропаганды на тему «битвы за урожай» осенью 1942 года. В «битве» приняли участие более 2 миллионов юношей из Гитлерюгенда и девушек из СГД. Гизелла Машман охотно делится воспоминаниями о том, как сельский труд сказался на изменении её сознания: «В эти недели я пережила нечто удивительное: огромную физическую усталость. Она превратилась в чувство ненасытной радости от процесса самой работы. Когда мы валились с ног от усталости, у нас было отличное средство продолжать работу – посмотреть на развевающийся лагерный стяг».
Сознание того, что они своим трудом помогают выстоять «борющемуся народному сообществу», пробуждала у молодых людей невиданный трудовой энтузиазм. Сама молодежь считала своим долгом, ухаживать за земельными угодьями в целях «окончательной победы». Дорис-Шмид Гевинер вспоминает: «Во время „домашних вечеров“ мы действительно делали все возможное для наших солдат. Ведь это было так естественно: Они борются за нас, а мы должны сделать все для них». Ирмгард Рогге рассказывает о том, как сильно идея героической смерти как высшей жертвы во имя отечества завладела умами девочек из СГД: «Тогда я была девочкой. Иногда я вставала перед зеркалом в героической позе и представляла, как бы я отдала свою жизнь за фюрера, народ, отечество. И тогда все другие могли бы жить мирно. Такие странные душевные приступы случались у меня порой».
По мере приближения линии фронта к границам рейха в 1944 году, подобные «душевные приступы» становились трагической реальностью. До сего момента Гитлер лично противился всем попыткам своего окружения ввести практику призыва женщин на армейскую службу. Объяснением такой позиции могло служить консервативные шовинистические представления Гитлера о четком разделении ролей мужчины и женщины в обществе. Перед началом войны он заявил: «Мне было бы стыдно быть немецким мужчиной, если бы в случае войны на фронт пришлось бы отправиться хотя бы одной женщине. Мы скажем „нет“ мужчинам, которые стали настолько трусливыми и жалостливыми, что свое поведение они оправдывают рассуждениями о женском равноправии. Это не женское равноправие. Природа женщины не создана для этого. Она создана для того, чтобы излечивать раны мужчин. Вот женское предназначение». Однако потребность в людских резервах для давно проигранной войны заставила диктатора забыть о собственных убеждениях. С 1943 года женщины и девушки направлялись для прохождения штабной службы в военно-воздушные силы и войска связи. С 1944 года они стали «исключительно на добровольной основе» служить в боевых частях – в батареях противовоздушной обороны. Ингеборг Зельдте вспоминает: «Я добровольно записалась в армию, чтобы выиграть войну. Я просто считала, что я обязана помочь». Более 50 тысяч женщин до конца войны отправились на армейскую службу, и часть из них погибла во время боевых действий. Мы не располагаем данными, какое количество женщин в частях противовоздушной обороны стало жертвами в ходе ночных бомбардировок Германии дальней авиацией союзников. Эвелис Хайнцерлинг, которая командовала батареей зенитных орудий и которой подчинялись более 100 девушек вспоминает о страхе среди ее подчиненных, вызванном боевыми действиями: «После одного налета бомбардировщиков в одном взводе было трое убитых и семнадцать раненых. Потрясенные девушки заявили, что они не хотят больше воевать. Они просто сказали, что не покинут укрытие и не встанут к орудиям». Элизабет Циммерер, служившая на зенитной батарее, рассказывает о том, как у девушек-прожектористок не выдержали нервы и к чему привело: «Во время одного сидьного авианалета рядом с нами находиась прожекторная установка. Девушки, которые её обслуживали испугались столь многочисленных разрывов авиабомб и удрали в убежище. Их потом расстреляли из-за трусости перед врагом».
Однако не только страх быть убитой терзал молодых девушек, но и опасения, что им самим придется кого-то убивать. Элизабет Циммерер рассказывает о своих переживаниях: «Это было ужасно. Я помню момент, когда я взяла противника на прицел. Мне оставалось только нажать на спуск. Но я не сделала этого. Я просто не смогла».
В отличии от первых лет войны, когда женщины и девушки узнавали о положении на фронтах из военных сводок, списков погибших и продовольственного рациона, теперь они сами очутились лицом к лицу с жестокой действительностью. Тяжелые впечатления оставила о себе служба в госпиталях. Мария Айзенэкер, которая работала медсестрой в лазарете рассказывает: «Было мучительно смотреть на молодых мужчин без рук и ног, с пулевыми ранениями, которые находились между жизнью и смертью. Многие из-за сильной боли не могли уснуть по ночам и им приходилось давать морфий». Мрачной издевкой звучали пропагандистские передовицы из главной газеты Гитлерюгенда «Юнге Вельт»: «Девушки невероятно счастливы работать в лазаретах Красного креста. Здесь они выполняют свои высокие задачи. И они на самом деле становятся заботливыми матерями своей родины».
Ночные бомбардировки больших городов окончательно рассеяли последние иллюзии некогда восторженных девушек из СГД. При виде мертвых тел, сложенных в ряды, и разрушенных жилых кварталов мало кто еще продолжал верить в сказки о «новом времени». Вместо этого многих охватывала бессильная ярость. Дорис Шмид-Гевинер, которая будучи четырнадцатилетним подростком, участвовала в опознании погибших в ходе авианалета, а в 1945 году обучалась обращению с фаустпатроном, рассказывает о своих чувствах: «Не думаю, что в то время я жила с мыслю умереть за Гитлера. Нет. Мы хотели сражаться против тех, кто причинил нам столько горя. Вы не представляете, как я тогда ненавидела тех, кто сбрасывал бомбы. А тогда они собирались прийти в Штутгарт. Я бы выстрелила бы в них из любого фаустпатрона».
Фанатизм как следствие недостатка информации относится во времена диктатуры к числу наиболее прочных опор, на которых зиждется власть режима. Редко разница между действительностью и «сказками», которыми пропаганда кормила немцев, была больше, чем она была в последние месяцы 1944 —1945 годов. Готовность еще немалого числа немцев умереть за «фюрера, народ и отечество» в условиях явной бесперспективности дальнейшего ведения войны кажется страшной загадкой. Ирмгард Роге объясняет «свое желание держаться» до горького конца:»Сомнений в правильности всех этих вещей у нас не было. Мы действительно думали так. Так же думали наши солдаты, наши летчики. Мы должны были мстить».
Всё, чем занимались в СГД в предвоенные годы, теперь во время последних лет войны казалось далекими воспоминаниями. В сознании наших собеседниц военные годы ассоциируются со словами «мрачный», «темный», «скудный», а предвоенное время вспоминается как «солнечное и радостное». Никаких вдохновенных воспоминаний о путешествиях – вместо этого жестокие военные будни. Строгость нравов в ранние годы существования СГД исчезла без следа. Новый курс, провозглашенный шефом СС Генрихом Гиммлером и заместителем Гитлера по партии Мартином Борманом гласил: любой ценой получить как можно больше детей для того, чтобы они заменили миллионы погибших и попавших в плен. Женатые офицеры СС получали премию за каждого рожденного от них ребенка. Так называемые «браки в интересах народа» должны были соединить незамужних женщин и солдатских вдов с «безупречно здоровыми» мужчинами, обладавшими «бойцовскими качествами». В целях снижения количества абортов в организованных под руководством СС «лебенсборнах» незамужние матери могли анонимно родить ребенка.
Почти полная закрытость родильных домов «лебенсборн»привела к тому, что после нескольких послевоенных публикаций в прессе эти учреждения получили известность как особый вид «арийских публичных домов», хотя в действительности они таковыми не являлись. В «лебенсборнах» рожали, а не занимались любовью. Медицинский персонал СС выхаживал новорожденных детей, а затем передавал их приемным родителям, которые были «верны линии партии». Настоящая преступная сущность «лебенсборнов» состояла в том, что в них свозили детей из оккупированных стран. Десятки тысяч светловолосых детей из Норвегии, Польши и Франции были оторваны от своих матерей и направлены в рейх на воспитание в эти учреждения. Мало кто из этих детей вернулся после войны к своим истинным родителям. Требование режима «рожать больше детей» отразилось и на нравах в Гитлерюгенде и СГД. Ильзе Бурх-Леннарц вспоминает: «Моя сестра поехала в загородный лагерь СГД. Рядом был лагерь Гитлерюгенда. Вожатые обоих лагерей по ночам открывали окна и двери в бараках, чтобы юноши могли без проблем навещать места ночлега девушек. Они накидывались на девушек. Моя сестра сбежала оттуда».
Когда война закончилась на немецкой территории, сотни тысяч женщин и девушек стали добычей победителей как на Востоке, так и на Западе. Происходили массовые случаи изнасилования. Это явилось следствием ненависти, появившейся в результате немецких акций уничтожения в оккупированных странах. Многие из опрошенных рассказали, как они из-за страха быть изнасилованными специально грязнили свои лица и одевались в тряпьё, чтобы быть как можно более непривлекательными. Гертрауде Вортман вспоминает: «Они гонялись за нами как за зайцами. Приходили по ночам в дома. Открывали наши двери. Я и сегодня слышу крики женщин. Меня не схватили ни разу.» Душевные раны тех, кому повезло меньше, полностью не заживут никогда.
Природа человека такова, что он наиболее отчетливо помнит те несчастья, которые лично пережил. Травма тотального поражения, связанная с воспоминаниями повального насилия, по сей день жива в сознании девушек военного поколения. Гудрунг Паузеванг говорит: «Понимание того, что ты верила в фальшивые идеалы, что все было обманом и ошибкой, доставляет действительно много страданий».
Не все опрошенные нами смогли свести в одно целое «прекрасное» время в СГД и тень концлагеря Аушвиц. Эвелис Хайнцерлинг признаётся: «Я не могу это понять. Это выше моих возможностей осознать произошедшее. Мне надо бы встать на колени, чтобы почувствовать разочарование». Ева Штернхайм-Петерс, которая выразила в литературной форме процесс самопостижения, заявила: «Я достаточно была тем человеком, которым я была раньше. Осталось только имя. Я могла бы себя спросить: „Неужели это была я или кто-то другой? « Критично оценивает себя и Гертрауд Вортман: «Быть такой слепой, как была я, и верить так, как я верила – зависит от личности человека“.
«Девушки Гитлера» стали сегодня бабушками и прабабушками. В обоих немецких государствах они возрождали жизнь на руинах и строили страну, в которой мы теперь живем. Их часто упрекали, что они якобы о многом молчали. Все опрошенные нами женщины откровенно отвечали на самые чувствительные вопросы. Возможно, наступило время откровений.
Для этого поколения их собственная юность до сих пор остается во многом загадкой. Гертрауд Хоккее делится своими размышлениями: «Когда я вижу сегодня детей и молодых людей, я удивляюсь тому, насколько они отличаются от нас. Мне приходит на ум мысль, что мы проспали свои молодые годы, что мы не умели мечтать».