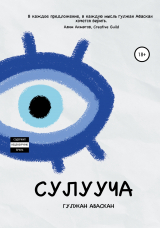
Текст книги "Сулууча"
Автор книги: Гулжан Абаскан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Гулжан Абаскан
Сулууча
I
Трунч осматривает заведение. Кричаще вокруг: люди в цветастом, столы ряженные, выпуклые спинки стульев, абажур, музыка, тьфу. Пахнет деньгами. Хоть что-то здесь должно пахнуть иначе? Нет. Всё безнадежно…
–И даже цветы, – говорит Трунч. – Даже цветы пахнут деньгами, – повторилась она, затем дернула стебелек в крохотной вазе на столе, лепестки опали.
– У тебя их попросту нет: ни цветов, ни денег, – отвечает Трунч Ташка. Смех-то у Ташки безобразный. Никаким другим ведь смех не бывает, один сплошной безобразный отчаянный выкрик.
– Стыдно тебе здесь, – продолжает Ташка. Хитро посматривает на Трунч, добавляет затем, – А ты говоришь о какой-то странной человеческой «душе». Чушь!
А у Трунч смешок неровный, короткий, нерешительный, как нервный стук каблуков Жибек, только вошедшей в заведение. Жибек нервно прижимает сумочку к себе, ухватывается тоненькими пальцами за спинку стула, никак стул не отодвинет. Застывает, увидев двух, Ташку и Трунч, сжимает свои костяшки в кулак.
– Бесстыжа! – чуть не выкрикнула Трунч. – Глупа!
– Не настолько. Всё же она умеет выживать. И кто глуп? – Ташка не спускает глаз с Трунч. Та закатилась смехом, да так, что Жибек от испуга юркнула себе под воротник. Дело будто бы сделано. Когда ничего не поделать, надо сделать что-то такое, чтобы и остальным было так же. Жибек нервничает, ей неловко, как на иголочках сидит…
Выходя, Трунч сверлит ее взглядом. Еще чуть-чуть, и она прошипела бы Жибек от злости: «Какой же ты безнадежный трус, Жибек!» Осталось совсем чуть-чуть, чтобы трусом не назвать труса…
Машина ждала поодаль. За рулем – молодой парень. Он то и дело оглядывался по сторонам: у крыльца заведения дежурные недружелюбные таксисты – дядьки с выпученными животами, отхаркивающие раз за разом в урну. Шашку с машины водитель снял из предосторожности. Не пустят. А то и оторвут, очень даже может быть.
Теща жалуется. Зять у нее – горделивый. Оскорбляется он всегда попусту.
– Ну скажи ты этим дядькам, что ли. Попросись ты уж. Сказал бы, что новорожденный у тебя… Ну что они, нелюди, что ли? – теща жалуется, но только не зятю. Кому угодно, только не ему. А ребенок поплакивает по ночам. Будто одного запаха все-таки недостаточно. Мамин халат пахнет рядом, чего бы еще…
Молодой водитель и рад был выпроваживаться из района дядек. «Девки» наконец «вывалились». Правда, за девок ему позже было стыдно. Не девки это.
Поехал он в район от посадочного прямо противоположный – темный. Зеленая заправка, а дальше – медные трубы. Тупик за тупиком, а ехать вроде недалеко: от яркой широкой президентской трассы по разбитым, неосвещенным теперь уже улочкам. Словно живут здесь люди бесславно – за ширмой, в малозначимом закулисье.
А дом и дворик оказались уютными. Симпатичная самодельная калитка, за калиткой –клумбы цветов, в них спрятались глиняные гномики. Пятиэтажный дом казался меньше, лестничные площадки широкие. От этого дом выглядел еще более низким, осевшим от старости, точь-в-точь как те гномики во дворе.
Ташка ставит на плиту чайник: красный, с желтыми подсолнухами, таких уже и нет на рынке. На окнах висят выцветшие занавески, тоже с желтыми подсолнухами. Трунч усаживается на низкий диван, спрашивает затем о матери. Что там, как им живется? Кто хоть спросил, кто звонил?
– Нет, – Ташка хотела коротко ответить и закрыть уже тему, но вместо этого шипит, имитируя вскипающий уже чайник. С желтыми выцветшими подсолнухами. – Как их любить?
– Какое это все-таки издевательство, Ташка! Задавать такие вопросы мне… а родителей… а что они… эти отцы, которых нет… – Трунч вздыхает. И не полюбит их до конца, до какого-то известного предела. И не разлюбит, да так, чтобы тошнило, выворачивало, и больше не хотелось этого ни видеть, ни есть, ни прихлебывать.
Чая девушкам на самом-то деле не хочется – по привычке ставят шипеть на плиту. Разлеглись обе затем на широкой старой кровати. Уснули тут же. Правда, на утро вскочили от телефонного звонка. На столе уже готова банка с наскоро сваренным куриным бульоном. Фрукты, одежда в красной потертой дорожной сумке. Обе всё еще переглядываются друг с другом.
– Э, нет! Э-эм, я не могу… – уселась всё же Трунч в задрипанное такси, боясь коснуться грязного салона.
Водитель везет их ловко, быстро. Подъезжают, а из такси высунешь только голову, на тебя словно обрушивается старая отрепанная вывеска: «Челюстно-лицевая хирургия». На боку здания красуется подростковая яркая уличная надпись, что-то вроде «бойко», «бойко-от», или английское что-то такое «бро-». Непонятно.
Девушки медленно и нерешительно поднялись на второй этаж. Прошли длинный узкий коридор с высокими потолками. Поглядывают на то, как на подоконнике густо расцвела настурция. Ее и растить-то не надо – для «халтурщиков».
Ташка первая вошла в палату. Дальше ноги не слушались. Ташка стоит у порога, осматривает поскрипывающий паркетный пол. На нее испуганно поглядывает Трунч.
Две койки справа, две койки слева, и только одна между ними. Будто именно этого пациента демонстрируют входящим. Трунч хочется смыться. Оглядываясь, она видит позади одну только дверь, будто захлопнутую навсегда. Вдруг вспоминает вчерашнюю безнадежную трусость Жибек.
Банки-склянки на тумбе, на полках – ватки-бинты, пыль. На зубы Алтынай нанизана желтая проволока, голова замотана туго, но местами бинт сдвинулся, скосился от судорожного мотания издерганной женской головы. А эти синяки… Синяки, из-за которых не видно глаз… Алтынай шипит, пытается что-то сказать, но вылетает один лишь визжащий горячий воздух.
– Ты, это самое… –«держись» хотела было сказать Ташка, правда, запнулась. Фраза казалась ей совсем бездушной. Она убрала от Алтынай руку, ею же затем нервно схватилась за свои волосы на затылке.
Трунч выглядит немного смелее. Хотя нет, не так. На самом деле ей в этой палате вдруг стало приятно находиться. Картина перед ней вдруг начала доставлять ей странное удовольствие. Кровь медленно оживляюще прильнула к телу, затем всё замерло. Трунч теперь поругивает себя и за прильнувшую кровь, и за утренние колебания. За странные противоречивые чувства. И что делать, если всё это чувствуется?
Втроем они пытались говорить еще некоторое время – тщетно. Этот вой, слезы Алтынай, да и слов-то не разберешь. Она затем успокоилась, вздремнула немного. Просыпается снова в трясучках. Взмахнула слабой рукой, прося двоих уйти.
В коридоре Трунч хватает медсестру за рукав, сует в ее карман деньги. Та сначала отбрыкивалась наигранно: «Вы что, вы что, не положено!» А Трунч всё настаивает на «особом уходе». Настойчивость медсестре, кажется, по душе. Заулыбалась, загорелись у медсестры глаза, исчезла она потом на том конце коридора.
– Всё надо в этом мире покупать, – скалится Трунч после, злобно посматривая вслед медсестре.
– На что ты надеешься?– сердится Ташка. От запаха больницы делалось дурно, тошно. – Рассчитываешь на деликатный уход? Э, нет, – продолжает. – Подсунула денег, мол, проследите? Да ты откупилась, и только!
– И что? Так ведь и проще, и легче, – отвечает Трунч. Тоже издергана видами больниц, лицами, скошенным подбородком Алтынай.
За воротами больницы стоял свеженький шлагбаум, за ним небольшой лесок, а в леске –отделения: детское и кардиологическое. Дальше, в глубине – пятачок.
– И что нас связывает? – на пятачке Трунч перебирает упаковки салфеток. Берет несколько: утирает руки сначала наспиртованными, затем сухими. Брезгуя, проговаривает: «Что за люди мы такие?»
Спустились они еще на квартал ниже. Слева какое-то черт-их-министерство, справа – отель, ниже, на углу, еще что-то строится. Дошли до крохотного заведения, чуть ли не на троих только. Трунч расселась широко, ноги вытянула под столом. Бубнит себе под нос, не желает выражаться ясно. То ли не хочет связываться, ввязываться больше. То ли злится на себя за то, что снова ввязалась, а ввязалась из чувства долга, будто вколотого в тело и душу. Словно тело и душа – это одежда, а чувство долга – ржавая булавка. Вот из-за этой воткнутой (не своими даже, а чужими руками) ржавой булавки она всё еще здесь. Имеется в виду там. Там.
С Алтынай у нее всё сложно. Пожила Алтынай некоторое время у Трунч на съемной квартире. Злобится Алтынай от того, что живет у Трунч, ест ее сытный кусок хлеба, от которого вообще-то не откажешься. Ест она, временами зубами вцепившись. Будто, если съешь больше, доставишь больше неприятностей. Погляди, я ем твой хлеб и плююсь одновременно. Противится Трунч Алтынай. Устраивает склоки, требует внимания такого, чтобы ее раздутое тщеславие ненароком не задели. Тем более буханкой хлеба. Подумаешь, буханка.
Уходя насовсем из дома, Алтынай топчет пиджак Трунч. Скандально расходится. Отрывает конверт с деньгами, которые Трунч копит и прячет, осторожно приклеивая под шкафом. Алтынай выметывается, пока Трунч не прибыла. Трунч дома своих денег не обнаруживает. Смеется. Хохочет от осечки Алтынай. Та оторвать-то оторвала, а забыла о собственном конверте старательно накопленных денег… Правда, Трунч брезгует тех денег. Она долгое время их не тронет. Не по чести падать так низко.
Хотя почему бы и не упасть? Трунч достает деньги из конверта. Их гораздо меньше, чем в ее собственном, но какое это, однако, наслаждение! Это! Ну, это! Это самое сбалансированное (неизвестно кем) утешение. Ну и потрепала же эта девчушка нервишек, да и деньги прихватила. Ну что ж…
Трунч покупает пачку сигарет на деньги, которых у нее нет. В общем, закуривает у себя на балконе, затягивается, получая удовольствие. От того, что мстит тем, что ничего не предпринимает. Оттого, что тратит кем-то заработанные деньги. От того, что эти деньги достались ей так легко. Легко.
Алтынай затем сообщает, что выходит замуж, а счастье ее не умещается в ее собственное тело. Не радоваться невмоготу, будто лопнешь, как мыльный пузырь. Радоваться тоже невмоготу – сердце ведь клокочет, боится шороха, человеческих глаз. Алтынай выскочила замуж и быстро родила погодок. А после свадьбы вертится вокруг вешалок вместе с матерью. Трунч замечает их издалека, старается не попадаться на глаза. Алтынай вся блестит, будто на редкость пыльная улица добытчиков, усеянная золотом. Мать ее в буром деревенском платье, джинсовой поверх куртке. Дочь от одного вида матери заводится. «Нельзя ли приличнее?» Матери непривычно, неловко. Готова уже смыться (как и Трунч) и больше не попадаться на глаза. Людям. Вокруг – большой торговый комплекс, а она – всего-то женщина из провинции. Сидеть на подушках не умеет. Неловко. Стыдно матери за себя, стыдно и Алтынай за них обеих. Трунч стыдно не меньше.
– Как паршивая овца! – цедит Трунч, на нее и смотрели только как на «паршивую овцу». Щелкает Трунч теперь пальцем по бумажному стаканчику кофе, морщит нос, а запах больницы будто тянется дымком, вплетаясь в один плотный жгут с дымком из чашки кофе. – И не совестно ей? – отпивает дымок. – Ей, этой Алтынай, не стыдно? Этой сопливой девчушке.
Ташка мотает головой, «по горло», хватит. Хватает Ташка булочку – с утра ни крохи во рту – а подносит – ни кусок, ни кроха не лезут. Положила булочку обратно на блюдце, блюдце шумно отодвинула.
– А жизнь странная! Хотя лучше бы такой не была, – говорит Ташка.
– Нет. Не хочу видеть Алтынай. Ни побитой, никакой другой…
– Я ее попросту не хочу видеть.
Трунч скрежещет зубами. Про себя: «А получай, Алтынай! Хотя нет, как-то нехорошо…» Как тут злорадствовать? Пробитая башка, и челюсть пробита, не собрать.
– А сколько ей говорили?– снова цедит Трунч.
– И скажешь – виноват, и не скажешь – тоже виноват.
А Алтынай тогда бросила учебу. Впрочем, и работу. Бросают ведь всё, что легко достается. Стыдно ей и за Ташку, и за Трунч несолидных. «Завистница!» – кричит тогда Алтынай Трунч. Хватается за волосы, рвет их, театрально плачет навзрыд. Словно, будучи еще незамужней, уже успела остаться без мужа, или более того – вдовой.
– Хочешь, чтобы это произошло и со мной?
– Ну и кто ты? Взгляни на себя! – вскричала Алтынай.
(Трунч держится за бока: «Эта девчушка росла у меня на глазах!» Шипит, брызги озлобленности летят с каждым соединением гласных с согласными. Скрежещет, не скрывая ни одну из чудовищных ненавистей:«А я еще из родственных чувств! Дур-ра!»)
Алтынай затем силком тащит своих родителей к родителям Трунч, через два дома. Внезапное буйство свое Алтынай никак не уймет, уж больно страшно. Хватается за единственную тростиночку в этом откровенном болоте. А вокруг одни жабы, бурые, липкие, квакающие. Оглядывается так, словно чужие жизни – заразны.
Отец Алтынай начинает по указке: «Ну, это самое, Трунч зачем это делает?» Алтынай затем подкрутила мать, мать соскакивает, будто вскочили в ней разом все обиды и осечки. Всыпала мать Серке затем и родителям Трунч. Да так, как всыпала Серке вся ее жизнь, вся-вся целиком.
«Что это Трунч наговаривает? Завидует? А мы и без этого измотались…» – срывается голос матери Алтынай. А мать Трунч, женщина в провинциальной округе известная своей бойкостью (и даже бесстрашием), на этот раз стоит истуканом в легком испуге. Вдруг от театрального стыда хватается за сердце, затем сжимает пальцы в кулак, угрожая отсутствующей в этот момент Трунч «переломать все кости». Будто ранее не ломала (что угодно готова сделать, лишь бы не растерять свое лицо-бесстрашие).
Взрослую Трунч мать затем лупит при всех, перед всей родней. Раз! – по щеке, два! – по другой. Вот, мол, поглядите, как я могу всучить собственной дочери. Видите? До крови. У матери гордо приподнимается подбородок, в глазах людей теряться некогда и нельзя.
Даже тихому-претихому отцу Трунч нестерпимо: вскакивает с места, выскакивает из дома, матюкает жену, выходя. Алтынай уже не видно, торопится она к себе домой, переборщила. Но ей ведь хочется гордо нести свое «что-то», не зная даже что. Каждая девчонка в округе всё носится и носится с этим «что-то». Будто пробегают мимо остальных второпях, пряча в корзине прогнившие ягоды, прикрытые ярким переливающимся атласным лоскутком…
Но это было тогда, а сейчас Алтынай – в палате. Ей заметно лучше, Ташка с Трунч –распалены. Держат в руках историю болезни. Акты, справки, номера телефонов. С чего это вдруг? Почему они? Оставить бы Алтынай такую. Подыхать.
Ташка нехотя набирает номер. Нет, адвокат не желает отвечать. Трубку телефона затем перехватывает Трунч, всё так же – он не отвечает. Разговор, правда, позже состоялся между адвокатом и Тилеком. Последний не мог не подтрунить над девушками: «Ну что, пригодился я вам?»
Алтынай тем временем перевели в отдельную палату. И так некстати Ташки с Трунч не оказалось рядом. Алтынай внезапно навестила родня мужа, от них ей сделалось только гаже. Зубы так же стянуты проволокой, говорить она всё также не может. Ни крикнуть, ни сорваться. Позвать бы на помощь. А ее ведь сейчас, прямо сейчас, не бьют, никто ведь ее не колотит.
Родня мужа первое время поглядывает на нее искоса: видеть измолоченную морду –нечеловеческую, опухшую, растекшуюся – невмоготу. Видит родня затем даже не поколоченную жену, а только картину приближающихся последствий для их сына. «Не надо, нельзя», – вдруг заговаривают с ней короткими фразами женщины, мотая головой неизвестно по какому поводу. Мужчины молчат. Один шумно втягивает в себя сопли, другой тяжело дышит от излишней массы тучного тела.
После Алтынай пугливо поглядывает на двери. Каждый раз, как дверь скрипнет, как кто-то решит войти в палату. «Теперь он точно придет». По ночам в палате ей мерещилось, что из-за двери сейчас выпрыгнет муж. Он так поступал не раз. Днями его не бывает дома, вернется запоздно, медленно тихо открывает двери, одним прыжком уже тут как тут, в комнате. «Ууу-ууу!» – выл он сначала, затем раскатывался громом, видя охваченную страхом, дрожащую Алтынай. Та соскакивала с кровати, готовая выпрыгнуть из собственного тела куда-то туда, лишь бы со всем этим разом покончить.
Бывало, в гостях у собственной матери Алтынай по ночам всё также мерещилось, что вот-вот кое-кто выпрыгнет из приоткрытой двери. Муж, бывало, и оттаскает за волосы, и насильно ее возьмет, затем танцует голышом в их большом зале. Включит музыку, взлетает словно балерина. Голый пьяный балерун…
– Заслужила! Пусть господь сам простит, но так хочется шлепнуть ее по лицу и сказать: «Заслужила!» – Трунч в коридоре больницы хлещет воздух, словно это щека Алтынай.
– Тогда не помогай ей! – Ташка ни с того ни с сего набросилась на Трунч. – Хочешь, бросим всё, – предлагает, а самой осталось лишь немного, чтобы бросить. А что бросать – не ясно. Всех их бросить, бросить на произвол. Да и с чего это вдруг произвол? Не произвол, разберутся.
В животе у Ташки сжалось, скрутилось что-то такое, словно в утробе неживой умерщвленный ребенок, застывший сгусток крови. Плотный комок, тянущий всё время вниз, к такой неясной, нечеткой и мутной боли. Что-то внутри ноет, болит, изнывает, словно физическое – ребра, диафрагма, нет, лучше живот – живот взял и защелкнул широкую цветущую душу в крохотную клетку тела.
Ташка хватается за живот, живот – жгут. Будто и впрямь что-то живое от нее ускользает. Словно ребенок, который не зародился в нутре новой жизнью, полной надежд, а оставил после себя одну только естественную, натуральную, знакомую уже пустоту. Впрочем, Ташка заговорит о ребенке позже…
В коридор в этот момент выскочила медсестра, докладывает: после процедур Алтынай легче. Ташка, вздыхая, заходит в палату, а в палате, как оказалось, удивительно солнечно. В комнате игривые лучи, будто солнце с потолка сыплется золотистым песком, светлыми крохами. Правда, пробираясь через жалюзи, нежные светлые лучи стелятся на больничную койку, кромсая и без того жалкое темное тело Алтынай.
Алтынай облегченно вздыхает при виде обеих сестер, кладет слабенькую руку на взмокший лоб, говорит, что не даст-таки «он» ей жить. Затем она хватается за руку Трунч и просит простить ее за всё, за всё-всё. Во внутренних уголках ее глаз копится серая слизь, из внешних катятся слезы.
Вглядывается Алтынай затем в лицо Ташки. Отчего-то ожесточилась. «Проваливайте!» – шипит Алтынай, юрко свернувшись в клубок. Ей всё казалось, что бьют ее чужие глаза, чужой взгляд, чужое дыхание. Бьет ее даже воздух. «Проваливайте!» – свистит, слюна растеклась по краям растресканного рта.
– Живи теперь по уму, – съязвила Ташка. Суха она, груба, безжалостна, какой бывала и сама Алтынай.
«А кто тебя просил за такого? Выскочила ведь, значит, заслужила», – мусолила когда-то Алтынай, готовая и без повода наброситься на Ташку. Та лежит пластом, бледная, серая, такая же, как и ее застиранная простыня на старой кровати, в старом разваливающемся доме.
«Не бывает плохих мужчин», – учит уму разуму тогдашняя Алтынай. Теперешняя же отвернулась от сестры, будто проиграла войну, лежит теперь, словно на сырой земле, поверженная и пристыженная.
Ташка, резко развернувшись, выходит из палаты. Трунч некоторое время колеблется, поглядывает то на Алтынай, то на Ташку. Затем, шаркая, послушно идет за Ташкой по коридору, улице, городу, сонному в воскресный день.
«А никого ведь не бывает рядом. И почему так? Может быть, по этой хотя бы причине терпеть людишек? Ну, хотя бы на всякий такой случай», – размышляет Трунч. Ташка ухмыльнулась, а Трунч это не нравится, что-то ее тревожит. Зловещая, может быть, откровенность Ташки.
– Ты думаешь, ей легко? Мучается вдвойне, и пусть, – говорит Ташка. – Нет, не то чтобы… – Ташка ищет подходящие слова, потом бросает это дело, бросает церемониться. – А вот руку подаешь ведь? Подаешь! Еще как! Даешь одновременно и пощечину, получай!
II
Утром Тилек выехал рано. Ташка добралась до остановки пешком, вся взмокла: душно под мелким дождем. Троллейбус, видно, тянется издалека. Качнулся в бок, словно резиновый, и остановился, кряхтя, на очередной остановке.
У подъезда Ташка долго протирала ноги. В этом дворике тротуары разбиты, семейка домов самая неухоженная и заспанная. Деревья здесь – нерасчесанные, лохматые женщины.
Ташка постучалась в дверь на четвертом этаже, в ответ услышала хлесткий детский возглас. У двери стоит мать, по привычке скрестила руки на груди, правда, быстро их разомкнула, неуклюже приобняв Ташку. Да и обняла так, словно это вовсе и не рослая женщина. Словно это тот самый новорожденный родной ребенок, которого и не знаешь, как аккуратно обхватить руками. В итоге прижимаешь к себе ребенка так, словно он тебе чужой.
На кухне у раковины стоит Алтынай. Косо поглядывает на Ташку, хмыкнула ехидно, спрашивает мать: «Так на чем мы остановились?»
Мать Серке расспрашивает про житие-бытие, так, порядка ради. Затем кивает головой и, не дожидаясь ответа, задает уже следующий вопрос.
– Как дела – понятно. Что звонили-то? – спрашивает Ташка, грубо прерывая теперь уже возмущенную мать. Возмутились руки матери, взмывают вверх, ложась затем шалью на широкую грудь, грудь с виду курицы, курицы-наседки.
– Нет, она невыносима, – нарочно недоговаривает Алтынай. Ташка ухмыльнулась, а про себя: «Вот ты снова за старое». А как всхлипывала недавно, ну да бог с этим.
– Мы только хотели…
– Ну хорошо, – оскорбилась мать. – Мы тебя больше не побеспокоим.
Серке затем хитро взглянула на Ташку, дожидаясь нужной реакции. Ожидала, что дочь по обыкновению начнет оправдываться перед матерью.
– Ну хорошо, – повторяется Серке, – не будем.
– Договорились, – отвечает Ташка.
– С чего это ты вдруг… – начала было Алтынай, но из комнаты на кухню в это время забежали ее дети. Старшая дочь крепко обняла Ташку за ноги. Уткнулась в ляхи тетки так, что крохотное лицо вот-вот вылезет туда, на ту сторону, оказываясь под здоровой попой тети. Ташка смутилась, проталкивает крохотное лицо ладонью туда, туда, вперед, то есть, назад.
Вспомнила затем, как, бывало, шутила Трунч над сыном. Сын сядет с ней рядышком, пытается втиснуть ладонь под попу матери. «Ма, а что у тебя там?» – спрашивает. «Попа, сына! У меня там попа, а у тебя?» – спрашивает Трунч сына. Тот откидывается на спинку дивана, отвечает, хохоча: «Попа! И у меня попа!»
Трунч сморщит лицо – оно и улыбается, и смущается, и возмущается одновременно. «И почему дети лезут туда, откуда повылезали?» – иронизирует Трунч. Ташка хватается за живот, тоже откидываясь назад, к спинке дивана.
А дочь Алтынай тем временем поглядывает на тетю многозначительно. Ташка вынимает из карманов деньги и кладет их в крохотные ладони. Девочка засияла, девочка прозорливо скрутила деньги в трубочку и положила их в кармашек домашнего платья.
Затем тянется сын Алтынай, улыбаясь, опуская глаза и снова улыбаясь. Смешной мальчик: редкие волосы торчат на макушке и колышутся при каждом резком движении. Ташка достала из кармана три конфеты – пухлые шоколадные бочонки меда.
Эти конфеты в карман тети-Ташки заботливо кладёт сын Трунч. Правда, когда обнаруживает, что конфет положил больше обычного, возвращается тихо в коридор, съедает одну, съедает спустя время вторую-третью, пока в кармане не останется всего две-три. И сам затем не понимает, как такое могло произойти. А происходило такое каждый раз, когда мальчик оказывался перед сложной парадигмой выбора. Три или четыре конфеты – это категория не только «больше или меньше», но и стыда. Если конфет четыре или пять, то выбор стоит между «чересчур» и «беспокоящим чересчур». Беспокоился мальчик за себя и за свое «а как же я!» При таком выборе сын Трунч, бывало, не оставлял ничего. Злился и съедал всё, а потом злился, что таки съел. Но не в этот раз. В этот раз над ним взяли верх совесть и решительность прекратить наконец сотрудничество с собственным я. Он оставил три конфеты.
– Прости, всего три, – жалостливо произнесла Ташка мальчику.
Отпуская уже третьего, неизвестно чьего, ребенка с трубочкой денег, Ташка взялась за чашку чая. Чашка чая «родненькой сестрицы». Алтынай всё это время подыскивает фразу саркастичнее.
– Да уж. Вот это тетка, – намекает Алтынай на то, что конфет всего три. Три конфеты «родненькой сестрицы».
Ташка пригубила остывший чай. Чувствует, вот-вот начнется, сегодня не обойтись. Набирает затем сообщение Тилеку, пишет второпях: «Алабаева, 32, желтый козырек».
– И правда, детям можно было больше, – мать с шумом ставит чашку на стол.
А затем словно бахнула башня со старыми пожитками. Шкафы, тумбы, тонны бумаг слетели с высоты. На каждой из страниц – число, время, год. Вот что было!
«А я пенсионер… а я мать… а я – то, и вообще – нечего!» Серке откидывается назад. Затем упрекнет снова, то вскочит, то грохнется опять на стул. Трещат и рвутся нотки в голосовых связках. Взывает затем к жалости, хватается за сердце, усаживается или усаживает свое туловище курицы-наседки.
– И как вам живется? – Ташка насмешливо посмотрела на обеих.
– Нет, вы посмотрите! – Алтынай сцеживает слова, затем взлохмаченной головой подается вперед, тарахтя что-то невпопад. Руками (а в руках чайная ложка с грязной салфеткой) демонстрирует что-то очень страшное, непередаваемое словами.
Замолчала Алтынай от шлепка. Удара по лицу она никак не ожидала. Вероятно, это и возмутило ее больше всего: ее застали врасплох. Ташка запрокинула руку еще раз – рука в нерешительности задрожала и повисла в воздухе. Алтынай вытаращила глаза, возмущена, что никак не спохватится. Оттолкнула она Ташку сколько было сил, а та наконец ударила снова. Сжалась теперь Алтынай, сдается. Ее приоткрытый рот завыл в протяжном «а-ай».
«Змея!» – вырвалось у Ташки. Правда-правда. Права-права Феруза эже11
эже – сестра, уважительное обращение к старшей женщине (кыргызский язык)
[Закрыть]! У нее девять братьев и сестер. Выгнали однажды ее из родительского дома, перелезла она затемно через забор и уснула в сарае. А больше ей некуда было идти, господи.
«Ты радуйся, что у тебя всего одна сестра!» – сказала как-то Феруза. Свесила затем голову, сдаваясь. Словно ошибалась в людях столько раз, что готова уже признать, согласиться со всеми девятью или со всем миром: да, ошибалась только она.
В голове жужжит от мыслей, обид – они никак не облекутся в достойные слова. Дрянно, дрянно всегда получается. Ташка наконец встала, что-то с себя стряхнула. «Ты ничего не помнишь», – запричитала мать. «А как мне было тяжело», – плачется Серке. К ней присоединяется младшая дочь, хлюпая своим задиристым носом. «Что Алтынай только не пережила!»
В этот момент зазвенел телефон. Не замечая ступеней, Ташка скользит уже по лестнице, словно по ровной глади, но спотыкается на ровной лестничной площадке, словно там-то и были настоящие ступени. Сквозь крохотные окошки она поглядывает на машину Тилека и отчего-то злобится на него…
«Я тебе еще покажу!» – кричит ей вслед Алтынай и за эту фразу получает пощечину уже от матери. На крыльце, на трехступенчатой лесенке, Ташка, торопясь, таки грохнулась. Грохнулась сначала коленями (ладони скользнули по брусчатке), затем всем телом и лицом. Заплакала от боли, которой, казалось, дай только волю. Колготки разорваны, как пленка на кусках замороженного мяса. Тилек подскочил, приложил свою ладонь к колену, словно подорожник. А Ташка – навзрыд. Тилек разозлился, убрал от колена ладонь и ею же прикрыл вопящий рот Ташки. И рот теперь в крови.
– Да закрой уже рот! – шипит он, пугливо оглядываясь. Усадил затем в машину, стоял некоторое время, глядя на Ташку через окно. С особой страстью он сжег бы сейчас машину.
Машина поехала по ободку тротуара вокруг футбольного поля, выехала затем на залитую дождем трассу. За ними завопила сирена. Опуская окно, Тилек прокричал сквозь дождь: «Э, ГУБОП!» Показывает корочку: «ГУБОП! ГУБОП!» Управление какой-то там преступностью.
Инспектор не отставал, вынудил припарковаться. На улице Тилек взмахивал руками под дождем, лицо судорожно дергалось. Капля дождя повисла прямо на кончике носа. Сел он затем в машину инспектора, оправдываясь за липовую корочку. Кинул на папку инспектора купюру.
Доехали наконец. Ташка выскочила из машины, побежала, прихрамывая, к подъезду. Пока Тилек откатывал машину к гаражам, Ташка наглухо заперла дверь. Щелчок, щелчок, дополнительный замок. Тилек дернул за ручку входной двери – не понял. Затем еще раз. И еще. Начал дверь выбивать. Сопровождает это действие языком бесцеремонной цветастой ярости, его угрозы при этом старательно звательны. В это время приоткрывается соседняя дверь.
– Ба-аб На-а-адь… – звателен Тилек. Он просит не вмешиваться. Нет, он не требует, он просит с яростью, но всё же просит. Оправдывается затем, долдонит старухе: «Да это не я!»
Чем ближе подходит к старушке, тем крепче та цепляется за медную ручку своей старенькой двери. И эта, и та, теперь их уже двое. Тилек затем обращается к Ташке через наглухо запертую дверь: «Это всё твоя мать, так? Кто еще? Ты только скажи!» Поглядывает затем на бабу Надю, отводит глаза – не выносит взгляда старухи, всегда недолюбливающей «гостя». И ничего не объяснит же этой старухе, черт бы их обеих уже побрал. Обидно рослому мужчине за незаслуженную ругань. Ну послушайте, так не он ведь обидел «деточку»!
– Прочь! – поднажала решительно старушка, выпроваживая «мальчишку». Старушка даже не смотрит на Тилека: она, во-первых, его боится, во-вторых, своим взглядом она себя и выдаст, выдаст, что боится. Но у старушки всё еще есть силы этим чувствам сопротивляться. Прочь! Уходи-те.
А Ташке баба Надя улыбается. Да так, что улыбается старательно сдержанно. Если расслабится, то лопнет в скором времени от счастья. Вскинет она взгляд на Ташку, словно на единственного возлюбленного или на единственного сына, которому она посвятила бы целиком жизнь. Смотрит она загадочно, сдерживая любовь, чтобы проявить ее во всей мощи, во всем ее величии, с такой жертвенностью, с которой не прочь бы и помереть, героически падать в последнем счастливом издыхании…
Не падает баба Надя. И не упадет. Суетится на кухне восторженная от собственного бесстрашия и храбрости. (Нет, одной такой любви здесь маловато. Храбрость – чем не вызов смерти? Ведь в бесстрашии ты проявляешь свою любовь в первую очередь к жизни, а это воля к жизни.) Восторжена баба Надя, оттого что защитила деточку от мальчугана, оттого что наконец-то она, на закате своей жизни, кому-то еще понадобилась… Счастлива, что Ташка не рядышком в соседней квартире, а совсем рядышком. Сидит, щупает свои разбитые колени. Кровь еще сочится, пачкает бинт.
– Ой… – вздыхает Ташка в ответ бабе Наде, наговаривающей на Тилека. «Ты посмотри на него, ты посмотри», – продолжала баба Надя. А Ташке всё равно, кто виноват, а кто нет. Пусть. Пусть Тилек побудет плохишом, зачинщиком и даже злодеем.
В квартире бабы Нади стены голые, тусклые. Белый сетчатый тюль в зале, ореховый сервант, пара стульев и старенький бельгийский диван, зеленый. На кухне висит вышивка – ягоды и кувшин, а в комнате – портрет ее матери.








