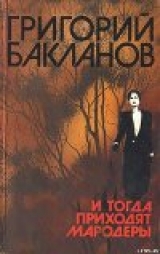
Текст книги "И тогда приходят мародеры"
Автор книги: Григорий Бакланов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
Глава XVI
В Охотном ряду, который он, видимо, никогда не привыкнет называть проспект Маркса, как не привык глаз к чудовищному творению эпохи, установленному почему-то напротив Большого театра, – огромной, из серого гранита голове Маркса, прозванной чучелом, Лесов на выходе из метро купил букет гвоздик и шел не спеша, народ только еще собирался на Манежной площади.
Вот нет как будто видимой связи между делами людскими и тем, что происходит в природе, но все дни, пока творилось безумие, лил дождь беспросветно, и это не в кино, где дождь – непременный спутник несчастий, это – жизнь; а сгинула нечисть, и какое солнце сияет над Москвой, какой день светлый!
Жаль, нет сейчас с ним ни дочери, ни сына. К Даше приехал муж, вылез из своих раскопок на свет божий, из второго или третьего тысячелетия до нашей эры, там – тишина, мир и покой, отбушевали страсти. Весь он – прокаленный солнцем, глаза выцвели, бороденка, как мочалка, белая от солнца, лицо в морщинах, а ведь молодой мужик. Слушать его – заслушаешься, но жить с ним соскучишься. Хорошо, Томочка в мать удалась, не в него лицом. Можно себе представить, что бы это было. А Дима лежит, нога перевязана чуть не до паха, опухшая, синяя. Мать уже съездила к нему, увидела, и плохо ей стало: не от того, что увидела, а что представилось ей. Вот так же, как за плечи вытаскивали из-под бронетранспортера раздавленного гусеницами человека, так же могло быть там с ее сыном. Это просто случай, счастье, что он оказался по другую сторону чудовищной этой машины, успел отскочить. И, глядя на него глазами, полными ужаса, она сказала:
– Но теперь-то ты, надеюсь, бросишь курить?
– Теперь – да!
И расхохотался.
Она перецеловала внуков, будто вновь обретенных, и уехала. А планы были на этот день, горестный и светлый, у нее самые грандиозные, надеялась собрать всю семью, детей, внуков, как давно уже не собирались. «Ну, ничего, деточки, дедушка захочет повидать вас, я пришлю с ним пирожков». И еще было у нее тайное намерение, о котором она никому не говорила, только нет-нет, да и улыбнется про себя.
Ничего, думал Лесов, что Диме ногу помяло, нога заживет. Счастье их поколения, что выпал им свой день Победы, что это было в их жизни. Это не забудется. Только бы не упустить им свою победу, как они свою упустили после сорок пятого года. Вот теперь, наконец, все может пойти по-другому, и жизнь надолго вперед обретет и цель великую, и смысл.
Народ прибывал, и уже становилось тесно на площади. Какие красивые, какие одухотворенные лица у людей. Какие москвички красивые!
В метро, когда движутся на эскалаторах два потока вниз и вверх, навстречу друг другу, он всегда вглядывался в лица. И думал: что стало с народом? Неужели всех лучших повыбило? Движется поток безрадостных людей, как мало красивых лиц, какое общее выражение усталой пригнетенности. И при всем при этом чувствуется, как в любой момент готово прорваться раздражение, вспыхнуть ссора.
Неужели это те самые люди? Но какие свободные, какие доброжелательные друг к другу.
Солнце слепило по-летнему, и люди были по-летнему нарядны. Он тоже надел светлый серый костюм, рубашку без галстука, теплый ветер трепал на голове волосы. Сзади напирали, он оказался близко к Манежу и видел, как один за другим вышли трое: Горбачев, мэр Москвы Гавриил Попов и депутат Заславский с палочкой.
Затихло. Огромная площадь стала, как одна душа. Он не все слышал, что говорилось, слова относило ветром, но отчего все время комок в горле? Оглянулся. Какие глаза, какие у людей лица! Нет, он плохо думал о своем народе. И случайно ли, а может, есть высший смысл в том, что в пору смуты и разброда, когда народы стали коситься друг на друга, как чужие, смерть выбрала этих троих – русского, еврея и татарина, – соединив их пролитой кровью?
Вот и на той войне, на Отечественной, которая выпала их поколению, и почти все поколение полегло на полях ее – да что может быть хуже войны? – а тем не менее, люди разогнулись душой, будто впервые узнав себе цену. Потому и осталась память о великом времени. Неужели люди забудут светлый миг, забудут, какими они в эти дни были?
Но Горбачева слушал он, опустив глаза. Не шла из памяти показанная по телевизору съемка: там, в Форосе, зять тайно снял его. И видно было, что камера дрожит, и Горбачев, как к смерти приговоренный, сидел в той самой кофте, в которой потом сошел с трапа самолета.
И когда Лесов увидел его таким, мурашки пошли по лицу, понял: завещание. Это последнее и главное, что, встав над жизнью и смертью, пожертвовав семьей, говорит своему народу и миру президент великой страны, прежде чем уйти из жизни. Но слушал и становилось стыдно: даже в такой час величие и мудрость не осенили его. И подумалось грешным делом: не игра ли это? Или еще хуже: кинодокумент на всякий случай, про запас?
И сейчас, когда сочный голос его звучал над площадью, не мог Лесов не думать о том, что не об этих людях, собравшихся здесь, забота Горбачева. Главное – та рана, которая сейчас у него в душе. Не перед ним, президентом, пройдет шествие, не он с балкона Белого дома, стоя выше всех, скажет речь. Ему указано быть здесь, ему уже указывают его место. И рана эта, наверное, саднит, даже в такой день величия и печали.
Наконец, двинулись, пошли. Во всю ширину улицы, никем не направляемые как будто, вольно шли по своему городу, знакомые и незнакомые, исполненные доброжелательства друг к другу. И многих, кого давно Лесов не встречал, повидал он в этот день.
Остановился ряд, отпуская шедших впереди себя, и та колонна уходила все дальше, оставляя за собой пустое пространство улицы, но никто не торопил, не напирал сзади, люди ждали спокойно. Опять пошли. Мимо чугунной ограды старого университета, там, в глубине, желтое и белое здание старой архитектуры; мимо Манежа, мимо Президиума Верховного Совета. Вот где каждая ступенька облита слезами. И уже не вспомнить, кто тогда олицетворял суд правый, закон справедливый. А люди шли сюда с последней надеждой.
А как фамилия этого, который упал, и они прошли мимо него? Стольких пережил на своем посту, столько указов подписал. Грузинская фамилия. Рассказывают, они уже построились по рангу и чину, все политбюро, все высшее руководство построилось выходить на сцену из-за кулис, на свет прожекторов и аплодисменты зала, и тут он вдруг упал замертво. И они обходили его, лежащего у ног. Это уже – нынешние. И зал приветствовал их аплодисментами. А за кулисами обслуга и врачи уносили мертвого.
Неужели настанет время прощаться со всем этим, начать по-человечески жить? Или природа власти во все времена неизменна?
Вокруг спорили-рядили, что делать с гэкачепистами?
– Я бы их разорвала на кусочки! – волновалась полная добродушного вида женщина с ямочками на локтях и чудной короной волос.
– Всех сразу или по очереди?
– Нет, правда, мальчики погибли, у одного вон двое детей осталось.
Опять остановились, отпуская колонну впереди себя.
– Судить! Только судить! – настаивал мужчина в сильных очках.
– А они бы судили нас?
– Хо-хо! У них уже списки были составлены, кого первыми казнить.
– Тем более судить! Иначе этому не будет конца. Мы не должны уподобляться.
Пошли. В первых рядах раздался смех, он перекатывался по рядам, все головы поворачивались в одну сторону. Огромный опустевший пьедестал, куб из розового полированного гранита, верхний уголок отколот. Прежде здесь сидел Калинин. Пусто. На полированной поверхности, в которой, как в зеркале, отражались идущие, крупными белыми буквами, масляной краской написано с двух сторон: «Дурак». Этот старичок с козлиной бородкой, сам из тверских крестьян, которые по его имени стали калининскими, подписал в свое время указ, разрешавший расстреливать двенадцатилетних крестьянских детей, с голоду подбиравших колоски на колхозном поле; рабов так не стреляли при крепостном праве. А у самого жена отбывала срок в каторжных лагерях, а его, чье имя и область и город носили, «всесоюзного старосту», президента нашего, допускал тиран постоять рядом с собой на мавзолее в дни торжеств. «Дурак». И этим беззлобно все сказано. И сволокли с пьедестала.
По Садовому кольцу шли уже тысячи и тысячи. Флаги над людьми. Портреты, портреты. Три молодых лица. Строгое мужское – Усова. В шапке волос, широкоскулый, веселый, только-только отслуживший в армии – Комарь. И отрешенно смотрит с портрета Кричевский, белый отложной воротничок, открытая шея с чуть наметившимся кадыком, как у Юры на той, последней его, предвоенной фотографии.
«Тула скорбит по погибшим», попался на глаза транспарант. Не одни москвичи провожают их сегодня в последний путь, из разных городов съехались люди.
По рядам сновали молодые, симпатичные ребята с урнами в руках: собирали на памятник погибшим.
– Александр Андреевич! – услышал Лесов. – Саша!
И дрогнуло в душе, он узнал голос.
Она махала ему маленьким букетиком цветов, радостно оборачивалась. И уже перебегала к нему, чуть задохнувшаяся, пошла рядом.
– Я у подруги остановилась, – она не могла отдышаться. – И попала во все это. Ты… Вы… – рассмеялась… – Ты, конечно, был там?
Одним взглядом он охватил ее всю, золотистую от загара, яркую. Показалось, такой красивой он еще никогда ее не видел. А Машина рука робко искала его руку.
…То, что к приезду его не успела сделать Тамара, она решила сделать сейчас, пока никого не было дома. Могла бы ей Даша помочь, хотя бы советом, но, по правде сказать, она и Даши немного стеснялась. Никогда она не красила волосы, вообще почти не красилась, и ей не давали ее лет. Смешно вспоминать об этом, когда – дети, внуки, но, бывало, в школе девчонки на перемене, обняв, прогуливались с ней. «Ты думаешь, зря они тебя обнимают? – ревновала лучшая ее подруга. – Они уверены, ты талию затягиваешь». А сколько раз уже в старших классах тайно обрезали ей все пуговицы на пальто: не могли простить ей ее кос, каждая – толщиной в руку. Своими когда-то каштановыми волосами могла она теперь любоваться, только глядя на Дашу. Но и у Даши, к сожалению, все же не такие. «Девочка-лев», – говорила мать-покойница, расчесывая и заплетая ей косы, как она теперь заплетает своей внучке.
Внимательно, но с большим сомнением прочла она инструкцию. На коробке – фотография красотки, волосы примерно ее цвета. «Belle color». Но когда все было проделано точно по инструкции, она увидела себя в зеркале и ужаснулась: бледная, с желтыми потеками на лбу и черными волосами, она была сама на себя не похожа. И сколько ни смывала, черная вода текла в ванную, а волосы становились еще черней.
Коротко подстриженный парень, весь из жестких мышц, поднес урну-ящик, пошел рядом. Он был не похож на тех, что подходили ранее, чем-то он не понравился сразу. Но Лесов достал из кармана сиреневую двадцатипятирублевку с портретом Ленина, опустил в прорезь. Парень продолжал идти рядом, светлыми глазами оглядел Машу, его; ящик продолжал нести перед ними. Лесов опустил еще десятку и видел, как коротко подстриженный голый затылок удалялся в толпе.
– Нас с подругой позвали на обед к четырем, – сказала Маша. И – тише, на одном дыхании: – Если хочешь, я могу не пойти, – шелковая ладонь ее была в его руке. – Или пойдем вместе? Такой день!
Он вышел из метро, огляделся. Здесь, на окраине, как в другом городе, было спокойно и тихо. Бабки сельского вида разложили на фанерных ящиках, на газетках свой товар – зелень различную. У одной на ящике лежала коровья нога с черным копытом. Милиционер похаживал поодаль, подходил к бабкам, останавливался: дань, что ли, собирал?
Отдельно в жестяных банках, в воде стояли розы, южные, темно-красные, на высоких стеблях. И женщины, продававшие их, были южные. Они сразу же громко начали хвалить свой товар, как только он подошел.
– Возьмите подмосковные, – услышал он.
Интеллигентного вида немолодая женщина стояла поодаль.
– Я только три часа назад срезала их.
Розы были не такие шикарные, но живые, свежие, пахли чудесно.
– Вот эти две – «Глория дей». Они распустятся. Их только надо сразу же подрезать в воде. Тогда они долго стоят.
Он брал по одной розе у нее из рук и поглядывал в сторону палатки. Там невысокого роста морской офицер с тремя маленькими звездами на погонах, по-сухопутному – старший лейтенант, а морские звания Лесов всегда путал, стоял спиной к бетонному фонарному столбу, а перед ним – трое в сапогах, в черных кожаных куртках, подстриженные коротко. Он видел их такие же голые затылки, как у того парня, что подходил с урной и нагло глядел. И стойка, стойка эта особая: ноги в сапогах расставлены, руки за спину. Вот так на платформе, когда прибывал состав с людьми и испуганных, озирающихся, выталкивали людей из вагонов, стояли эсэсовцы с плетками за спиной, каменно расставив ноги. Много раз он видел эти кадры.
– Возьмите все, – сказала женщина, – я уступлю.
Он посмотрел на нее и, чтобы не стоять ей, взял все, да их у нее немного было. И она поблагодарила его. Не выпуская из виду моряка и тех троих, он подошел к табачному киоску, заметив издали за стеклом сигареты «Salem», Машины любимые.
Продавщица в киоске ела. Две сосиски и хлеб лежали перед ней на бумаге, она макала сосиску в горчицу, откусывала, быстро прожевывая, запивая мутным кофе из чашки. Но окошко было открыто. Она вытерла пальцы, взяла деньги, подала пачку сигарет. Все это время он не выпускал из виду тех троих и моряка. Они что-то говорили ему небрежно, через губу. Какие жестокие лица! Моряк стоял спокойный, но бледный, как бледнеют от оскорбления. Странно, что они к военному привязались. Уже положив пачку в карман и отходя, Лесов услышал, как моряк сказал презрительно и громко:
– Да трусы вы! Только в стае вы и сильны.
И раньше, чем решил что-либо, Лесов крикнул издали:
– Старший лейтенант, ты – не один.
И подошел, стал рядом.
Так и стояли некоторое время: они двое и те полукругом. У всех троих одинаковое выражение, одинаковый холодный взгляд светлых глаз. Милиционер дубинкой шевелил зеленый товар у бабок на газетах, наводил там порядок, держался на отдалении.
Высокий, с портупеей под кожаной курткой качнул головой, и они пошли, позвякивая подковками сапог. Уходили, не торопясь.
– Чего они привязались? – спросил Лесов.
– Да ни из-за чего. В драку ввязаться на глазах, чтоб народ их боялся. Власть их не трогает. Вон – милиционер, они знают, не подойдет. Вот из-за таких сволочей и ходишь встречать то жену, то дочку. Запах крови чуют. Человека убьют, опять же им ничего не будет. Не найдут никого.
– Ну – бывай, – сказал Лесов.
И, уже отойдя, пожалел: не спросил у него, где тут ближайший гастроном. Наверное, здешний, знает. Он остановил женщину, она объясняла охотно, долго и путано: можно так пойти, можно – так, а всего короче – вон через тот скверик.
Что-то остерегло Лесова, не захотелось идти через сквер. Но он устыдил себя. Шел и нюхал цветы.
Они вышли из-за кустов. Двое. Тот, длинный, в портупее под курткой, и другой, пониже ростом.
– Закурить дай…
Они стояли, перегородив дорогу. Шедший за Лесовым гражданин мышкой шмыгнул мимо.
В одиннадцатом часу вечера Тамара позвонила сыну:
– Дима, я не знаю, что делать, отца нет до сих пор. Я совершенно потеряла голову.
– Я сейчас приеду!
– Ты не можешь, тебе нельзя вставать.
– Я еду, – повторил сын.
Он примчался мгновенно, ей показалось, она только положила трубку, и вот он уже звонит.
– Я ничего не понимаю, это не похоже на него, он даже ни разу не позвонил. Ты прости меня. Я хотела – Даше, но там муж ее… У меня ужасное предчувствие.
Они стояли вдвоем у окна, смотрели вниз. Двор был пуст. От проходивших по улице машин освещалась стена дома напротив, и каждый раз казалось, машина заворачивает во двор.
– Я звонила в милицию. Какие все же они бессердечные! Даже в такой день. «Звоните в морги»…
Свет фар побежал по стене, блеснул в стеклах, машина въехала во двор, показалось, притормаживает у их подъезда. И скрылась, мелькнули за деревьями красные ее огни. Дима обнял мать, чувствовал, как она дрожит, зуб на зуб у нее не попадал.
И снова в стеклах блеснул свет фар, въехало желтое такси, остановилось у их подъезда. Вспыхнул зеленый огонек: шофер выключил счетчик. Открылась дверца. Из машины вылез мужчина в светлом костюме, жестом, каким только он это делал, поправил волосы, глянул на окна вверх.
– Слава богу! – Тамара разрыдалась, ткнувшись лицом в грудь сына. И он гладил ее волосы и видел поверх головы, как такси отъехало, человек прикурил, на миг осветилось лицо. Это был не отец. Пыхая сигаретой, тот шел в соседний подъезд.
В половине двенадцатого, за ручку катя по ковровой дорожке английскую, очень поместительную сумку, куда масса всего влезает, Маша прошла по вагону СВ, привычно сопровождаемая мужскими взглядами. В ее купе сидел молодой полковник. Он почтительно встал. Маша поздоровалась, улыбнувшись, поставила сумку и прошла дальше по вагону. В предпоследнем купе, будто затиснутая в угол, сидела старушка, с презрением и ужасом смотрела на стоявшего перед ней парня спортивного вида, одна спина чего стоила. Он причесывался щеткой, сдувал волосы на пол и вновь причесывался.
– Вы не согласились бы перейти ко мне? – спросила Маша старушку. – Мой попутчик охотно перейдет в мужское общество.
Молодой полковник с большой неохотой собрал вещи, старушка уже стояла в дверях. Она оказалась на редкость словоохотливой, но Маша достала халат, тапочки, разделась при синем ночнике и легла. Простыни были льняные, в полоску, чистые, одеяло верблюжье: в «Стреле» еще сохранялись остатки былых удобств. Маша укрылась одной простыней: было жарковато.
Разумеется, ни на какой обед с подругой она не пошла, осталась ждать его. И теперь под мягкое покачивание рессор, лежа с закрытыми глазами, она думала. Это ничего, что он не пришел, он хотел прийти, рука его все ей сказала. Просто не смог пока еще переступить, хотел и не смог, потому что это не мимолетно ни для него, ни для нее. И, ласково потершись щекой о подушку, которая немного пахла мылом, она улыбнулась, засыпая.
– Закурить дай, – сказал тот, что был выше ростом. Оба они загораживали дорогу. Лесов понял: вырубать первым надо вот этого длинного, он – главный. Но в руках был только букет цветов.
– Не курю.
И ничего поблизости: ни палки, ни камня. И не защищена спина, вот что хуже всего.
– Не куришь, а зачем сигареты брал?
Светлые глаза глядели холодно, а в глубине их посвечивала жестокая радость.
Бить надо по глазам, шипами хлестнуть. Другого – ногой. И тут вдруг почувствовал опасность со спины. Он не успел отклониться, удар колокола раздался в мозгу. Последней мыслью было: «Глупо! Как глупо!..».
Его ударили трубой по затылку. Когда волоком оттаскивали через кусты, сознание вернулось, новый удар погасил его. Бесчувственного, они убивали его втроем. Разбегаясь, для верности еще раз ударили трубой по голове.
Очнулся он от боли, когда клали на носилки, услышал над собой:
– Как разделали, сволочи. Живого места нет.
И пока везли, трясли, сознание то возвращалось, то проваливалось. Сквозь красный туман смутно различил одним глазом что-то белое, наклонившееся над ним. И коснеющим языком, будто выходя из-под наркоза, попросил:
– Же-не по-зво-ни-те…
Собрав всю волю в комок, не давая сознанию вновь провалиться, шевелил онемевшими губами, цифра за цифрой повторял номер телефона. Услышал:
– Поняла. Позвоню.
И, как облегчение, принял беспамятство.
Никогда в жизни Дима не сможет уже забыть, как в морге, среди голых тел, отыскивал отца. Мать и Дашу он не пустил сюда. Он узнал отца по синей татуировке на плече, лицо в корке запекшейся крови было неузнаваемо.
Отец рассказывал, когда спасали челюскинцев, все ребята во дворе мечтали стать летчиками. И он тоже выколол себе этот синий самолетик. Не раз собирался его свести, но так и не собрался.
После похорон и нешумных поминок Даша с дочерью переехала к матери. Но даже к внучке Тамара стала какая-то безразличная, ничто в жизни не задевало ее. Тихая, отрешенная, бродила она по дому, а то просто лежала на его диване, накрыв голову темным платком. Запах мокрых хризантем, сырой могильной глины преследовал ее повсюду.
Почему-то Саша снился ей молодым. Вот стоит он рядом с коляской, заглядывает в нее, и такая хорошая у него улыбка. Там, в коляске, весь в кружевах у лица – Дима. Ранний май, деревья почти голые, только-только пустили первые листочки, а он – в шерстяной гимнастерке, в галифе, в сапогах, с орденскими планками на груди. Странно, когда Дима родился, уже ни гимнастерки, ни галифе не было, протерлись, но он попросил сохранить их. Как-то, разбирая вещи, она увидела и поразилась, какие они узкие, маленькие, словно на подростка.
Он очень хотел сына, и вот стоит рядом с коляской, свесив над ней чуб, ждет ее. Сейчас она выйдет, вместе они пойдут в парк, но коляску он будет катить сам. И она засмотрелась на них в окно сверху, и даже во сне сердцу было радостно.
Среди дня он выходил к ней из двери, из шкафа с книгами, из угла, бесплотный, незримый для всех. Он выходил, и она разговаривала с ним.
Однажды, услышав, Даша заглянула в испуге:
– Мама, с кем ты говоришь?
Она сидела на диване, молча опустив голову.
– Ты только что говорила. С кем?
– С папой, – сказала Тамара спокойно и посмотрела на дочь, испугав ее.
– Мама, милая, ты сходишь с ума!
– Никогда больше не мешай мне. Пожалуйста, не мешай.
Она знала, он еще здесь, она чувствовала это, а они боялись, что мать помешалась разумом. И прятали от нее письмо, которое пришло на ее имя, это – чудо, что оно пришло. Его бросили в чужой ящик, и незнакомая женщина из другого подъезда принесла им. Может, потому и принесла, что слышала, какое у них несчастье. Конверт был странного вида, склеен из чертежной бумаги-миллиметровки, адрес напечатан на машинке неровными скачущими буквами. Даша перечитала письмо несколько раз, но однажды, торопясь на работу, забыла спрятать его. Оно попалось Тамаре на глаза, она бы не обратила внимания, но вдруг почувствовала тревогу. И прочла. Это было письмо Саше, записка – ей.
«Женщина! Имени вашего я не запомнила, но голос ваш мне что-то сказал. Вот зажала карандаш в зубы и выстукиваю на машинке по буковке. Уже лет шесть, как написала письмо вашему мужу, хотела отправить, а тут увидела его по телевизору вместе со Столяровым. И такие они друзья, так улыбаются вместе. А Столяров и есть самый первый палач, он подписал смертный приговор старшему лейтенанту Лесову. Мог хотя бы в штрафную роту отправить, если уж так им требовалось шкуру свою спасать, но он его – на смерть. Вы мужу скажите, брат его ни в чем не виновен, ему звезду Героя надо было давать, а его расстреляли, чтобы себя выгородить. Так пусть он хотя бы доброе имя его восстановит.
О себе писать нечего. Вернулась с фронта без обеих рук. Мать боялась, руки на себя наложу, да наложить-то нечего. Вот так всю жизнь она и тащит меня. Об одном жалею, не дал мне бог ребеночка от старшего лейтенанта Лесова.
С тем остаюсь в надежде Евгения Ковалева».
Другое письмо – Саше. Тамара с жадностью читала его:
«Здравствуйте, уважаемый товарищ Лесов!»
И «уважаемый» и «здравствуйте» неровно и жирно замазаны карандашом.
«Ваш брат, старший лейтенант Лесов Юрий Андреевич, был командиром нашего отдельного батальона, и вас, наверное, интересует его судьба. 23 января 1944 года была нам задача высадиться первыми на территории Керченского торгового порта. Впереди нас снарядом подожгло катер, он горел на воде; кто на носу нашего катера, у тех от жара волосы трещат, а кто на корме, руки протягивает погреться издали. Я жизнь прожила, всего навидалась, и теперь думаю: и в жизни так. Одни в огне горят, другие от огня руки греют.
Мы, конечно, высадились, хотя потери были очень большие. Это с воды видать было хорошо, пули трассирующие, снаряды огненные, как метелью мело. Бой был ужасный, сколько раз в рукопашную переходили. Старший лейтенант Лесов, я лично сама видела, лично уничтожил дот, там много было оккупантов. За два-три часа мы очистили город, буквально расхаживали по улицам. А в восемь утра обрушился на нас артиллерийский и минометный огонь небывалой силы. Нам обещали артиллерийскую поддержку, но ее не было. И высаживались мы тоже без артподготовки. Комбат диктовал, а я передавала открытым текстом: „Прошу немедленную помощь. Боеприпасов нет, люди погибли“. Сам он был ранен в грудь и в левое бедро, я его перевязала. Держались мы до последней возможности, комбат сам гранатой подбил танк, когда он прорвался во двор к нам и давил раненых. Жутко было смотреть, как раненые, безногие стрелялись, чтоб не попасть в плен.
Соединились мы с остатками батальона примерно часов в двенадцать. Опять заняли круговую оборону, продолжали бой. Все поголовно ранены. Вышли из окружения с боем, ночью, сняв вблизи передовой двух часовых.
В Жуковку, на базу, нас привезли на машине. Старшего лейтенанта Лесова арестовали сразу же. А ему ведь был приказ: если подмога не сможет подойти, выводи людей.
На допрос вызывали нас по одному. А допрашивали трое, один из них – этот самый Столяров. Теперь он – заместитель Генерального прокурора, а тогда был генерал-майор. Приписали нам самовольный уход с поля боя. А в живых осталось нас меньше 20 человек, и все – раненые поголовно.
Через несколько дней нас, оставшихся в живых, а также офицеров других частей вызвали в каменоломни, к месту расстрела. Шел мелкий дождик, день был пасмурный. Каменоломня большая, там было несколько палаток, в одной помещался трибунал. Мы стояли под дождем. И вокруг каменоломни и у палаток стояли солдаты и офицеры в форме НКВД, хорошо вооруженные.
Всех нас построили, потом из палатки трибунала вывели старшего лейтенанта Лесова. Подвели к нашему строю, поставили лицом к нам. За то время, что я его не видела, он так изменился, что трудно было его узнать. И меня он тоже не узнал, хотя стоял близко. Или не захотел подать виду.
Председатель трибунала Столяров стал слева от старшего лейтенанта Лесова, справа стоял какой-то капитан. Форма на нем новенькая, сапоги лаковые. Столяров зачитал приговор и сказал: „Комендант, привести приговор в исполнение!“ И вот этот капитан вытащил наган из кобуры, шагнул к старшему лейтенанту Лесову, взял его за левое плечо, рванул к себе: „Поворачивайся!“ При неполном повороте он выстрелил ему в затылок. После выстрела произнес: „По изменнику Родины!“. Затем генерал подал нам всем команду: „Кругом!“. Но я видела, как капитан нагнулся и выстрелил вторично в голову. Тело старшего лейтенанта Лесова дернулось, он даже попытался встать.
Забыла написать: когда зачитан был приговор, старший лейтенант Лесов сказал очень тихим голосом: „Я же подавал кассацию“. Это были его первые и последние слова. Он ни о чем не просил, смерть принял достойно и мужественно. И вот что еще поразило нас всех: в момент расстрела одет был старший лейтенант Лесов в сапоги и на голое тело был надет полушубок, шапки не было. Полушубок расстегнут, грудь и левое бедро перевязаны, на бинтах – засохшая кровь. Как я перевязала, так с тех пор никто его не перевязывал.
В моих глазах он остался настоящим героем, в страшнейшей боевой обстановке честно выполнил свой долг.
Бывшая радистка Евгения Ковалева».








