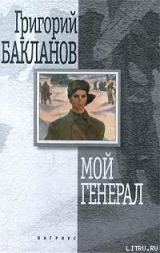
Текст книги "Мой генерал"
Автор книги: Григорий Бакланов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Григорий Бакланов
Мой генерал
Фамилия моя – Бородай, а в те времена, когда история эта начиналась, звали меня Олег. Впрочем, она звала по-другому, так только она меня называла, и однажды, в счастливую минуту, я сказал ей: Мой генерал! И это осталось. Но уже давно я – Олег Николаевич.
Поддавшись веяниям последних лет, когда на пустом месте стали появляться потомки дворянских родов, в Рыльске вдруг объявилась боярыня, а некий бывший летчик, доныне происходивший исключительно из рабочих и крестьян, оказался столь древнего боярского рода, что сами Романовы пред ним – худородные, вот в эти годы внезапных превращений один мой дальний родственник, пребывающий, как у нас говорят, «на заслуженном отдыхе», то есть – в бедности, тоже занялся исследованием нашей фамилии Бородай: не могла же она вовсе ничего не значить в истории. И докопался: Бородай был славным сподвижником Тараса Бульбы. С тем и приехал ко мне возвестить, откуда есть пошло и кто мы на самом деле. «А ты не знал? – удивился я. – Это же Бородай убил Андрия. А Гоголь все переврал, приписал его подвиг Тарасу Бульбе. Иначе самое главное не получалось: я тебя породил, я тебя и убью…» Видели бы вы, какой яростью полыхнули кроткие глаза престарелого моего родственника: вон что оказывается! А когда он понял (да я еще возьми и улыбнись), свернул в трубку так чудно разрисованное генеалогическое древо и с тех пор знать меня не хочет. Не исключаю, что недостойную ветвь, меня то есть, он тогда же от древа отсек.
Но это все – к слову. А когда история, которая прошла через всю мою жизнь, только начиналась… Впрочем, рассказ о ней придется начать с конца.
Поздней осенью 199… года вышел я из метро, подпираемый в спину теплым его дыханием, и сразу попал в шумное торжище. Стоило ослабевшему государству чуть отпустить вожжи из некогда властных рук, и явилось все: фрукты со всех континентов, каких и не видывали раньше, горы еды, колбас, рыба всех сортов, куриные замороженные и отмокшие ноги, прозванные «ножки Буша»… Тут же обменивают доллары на рубли и рубли на доллары, тут же, на виду и на ходу, у вагончиков на колесах, едят с бумажных тарелок поджаренные немецкие колбаски, запивают пивом из жестяных банок, крутятся в грилях облитые жиром куры на вертелах, гомон, толкотня, бешеные ритмы музыки.
Отдельно, у серой бетонной стены сидел на холодном асфальте таджик в зимней шапке. Он был черен лицом, на его скрещенных ногах спал укутанный в тряпье младенец; девочка, стоя, покрывала платком густые, набитые пылью волосы, и еще мальчик, старший, лет шести, пригорбясь, протягивал прохожим грязную ладошку.
Запах жареных колбасок доносило сюда ветром. Люди шли мимо. Из Таджикистана, где полыхала гражданская война, изгоняли русских, и они, бросая все, еще и ограбленные по дороге, уезжали и уходили в никуда: в России их тоже никто не ждал. И в Россию же от таджиков бежали таджики, от смерти бежали. Много их по Москве просило милостыню, сидели на улицах, стучали в окна машин у светофоров: «Начальник, начальник…». Не очень-то им подавали и все же подавали при виде детей. Подал и я.
Как раз напротив этой семьи таджиков с деревянных промасленных поддонов торговали булочками, и сладкий ванильный запах сдобы, обсыпанной сахарной пудрой, мешался с запахом жареных колбасок. Лотошница, одетая тепло и перепоясанная, в белом халате поверх, пританцовывала на картонке озябшими ногами. День был предзимний, темные снеговые тучи сели на золотой шпиль высотного здания, на верхние его этажи, там среди дня, должно быть, зажгли электричество, как в самолете, когда он входит в сплошную облачность. И ощутимо уже было в воздухе близкое дыхание снега.
Я шел домой. Крытый грузовой фургон, объезжая что-то, заслонил все впереди, а когда проехал, я увидел то, что объезжал он, притормаживая: перед аркой, ногами на проезжей части, лежал на земле голый человек. Он лежал на своей распластанной под ним и разрезанной одежде, а другой человек, в прорезиненном плаще, в капюшоне, как черный грач, нацелившийся клювом, что-то делал над ним, наклонясь.
И белая с красными крестами машина «Скорой помощи» стояла рядом. Все это было непонятно и жутко. Голое тело на земле, измазанное у поясницы и ниже, и выше в засохшем зеленом и желтом, люди обходили, сторонясь: в Москве уже было два случая холеры. Я тоже прошел мимо. Но глаз схватил все подробно, и пока я шел дворами, заново видел и торчащую в небо короткую его бородку на запрокинутом землистом лице старика, и большое, холодное, когда-то сильное, а теперь иссохшее мужское тело с впалым животом и пучком темных волос. Одна его нога, искалеченная, вся в шрамах, была короче другой. Я не узнал его лица, но я узнал эту ногу. Ее я видел не раз: и в гипсе, и потом, когда сняли гипс и он ходил с палочкой. Утешая его, я однажды погладил рукой синие продольные шрамы. Это был он, но первая моя мысль была о том, чтo в связи со всем этим меня ждет. Потрясенный, я продолжал идти. Ноги сами несли меня, и даже быстрей. Как будто от этого можно уйти. А когда опомнился, вернулся, ничего на том месте уже не было. Будто не было вообще.
Только стоявшие вдоль магазина торговки с пуховыми платками, распяв их перед собой напоказ, пересказывали с жаром случившееся, и люди останавливались и смотрели на то место, где он лежал на асфальте.
Глава I
Думали ли вы, какую роль в нашей жизни играет случай? А в то же время, когда вспомнишь и сопоставишь всю цепь событий, ну какое уж тут проявление закономерности, какой знак свыше?
Короче говоря, я мыл резиновые сапоги. У входа в управление, на площадке, стояли специально для этого дела сваренные из толстого железа два огромных бака.
Сварены они были на конус книзу, чтобы легче было опрокидывать. В баки из шлангов лилась горячая вода, и каждый, поставив сапог на край, мыл его шваброй и купал, чтоб не нести за собой грязь по коридорам. А грязь, вернее жидкая глина, была по щиколотку, не улицы, а глиняные реки, строящийся завод и город утопали в них. Кто-то еще поставил сапог на край, начал действовать другой шваброй.
– Ну и грязища! Как в первый день творения.
– Не присутствовал, но догадываюсь.
Но тут прогрохотал самосвал, гремя железной бочкой в железном кузове, на том и закончился наш разговор. Был этот человек в теплой серой фуражке, она чуть не упала у него с головы в бак с водой, потому и запомнилось. А вечером меня поселили к нему. Гостиницы на стройке еще не было, под нее отвели два подъезда панельной пятиэтажки, перед каждой дверью на площадке стояли резиновые сапоги, я достал тапочки из чемодана, разулся и, когда вошел, увидел на гвозде теплую его фуражку, сразу узнал ее. Две ночи до этого я ночевал в управлении на казенном диване, укрывая ноги курткой, освободилась койка, и меня привели сюда.
– Не стесню?
А застал я его, помнится, вот за каким занятием: на полу – раскрытый чемодан, сидя перед ним на койке, надев на левую руку черную лаковую туфлю, он фланелькой наводил блеск, будто собирался на танцы. За окном дождь лупит по жестяному отливу, окно без занавески, электрическая лампочка на шнуре над столом, одна – здесь, другая – за окном, и такой же там, за окном, накрытый клеенкой стол, и вся комната, и я, приглаживающий волосы рукой, – все это в голых черных стеклах.
Он сунул лаковую туфлю в целлофановый пакет, захлопнул крышку чемодана, ногой задвинул его под кровать:
– Стесняйте.
И лег, вытянулся на кровати, запрокинув руки за голову.
– Надолго?
– Как получится.
– А я тут старожил. Чаю хотите?
Я достал что у меня было, сидим на кроватях, на койках железных, стол-посредине, пьем чай, макаем каменные пряники в кипяток, разговариваем. Мог ли я думать, что вот этому человеку я фактически переломаю всю его жизнь? И спрашивал себя не раз: ну, не встреться мы вот так случайно, что же, ничего и не было бы? Или так уж нацелены были пересечься наши пути-дороги? Кем?
Когда я проснулся утром (после тех двух ночей, что зяб на казенном диване, впервые крепко спалось), его уже не было. Посреди стола – плоская консервная банка: кильки в томате, на ней – консервный нож, хлеб. Это он обо мне позаботился. На огромной этой стройке были, конечно, столовые, но по Волге в тот год бродила холера, и при входе в столовую лежал толстый ворсистый мат, пропитанный хлоркой, на нем следовало потоптаться. И, прежде чем мыть руки под краном, окунали их в раствор хлорки, от нее кожа шорхла и белела. И еда в столовой отдавала хлоркой. Только стаканы с компотом не успевали пропахнуть. На стройке был установлен сухой закон, водка нигде не продавалась. Но граненые стаканы исчезали из столовой. Когда в третий раз исчезли все подчистую, даже со стола заведующего исчез стакан, в котором он держал отточенные карандаши, заведующий взмолился: «До коих пор можно? Завозить не успеваем!» На что начальник строительства, за плечами его была не одна стройка, будто бы сказал:
– До полного насыщения.
Однажды вечером лежим мы с моим соседом на койках, разделенные столом. За окном – тьма, блестят капли дождя на наружном стекле: это светит фонарь на стреле башенного крана. Намерзшись за день на сыром ветру вперемежку с дождем, я уже начал было задремывать, когда раздалось со вздохом:
– По жене соскучился страшно. Вы не спите?
– Нет, нет.
Для убедительности я поскрипел сеткой.
– Вы не женаты, надо полагать? «Зачем жениться, когда чужие жены есть», – чуть было не ляпнул я залихватски. Мне было в ту пору двадцать четыре года, планы на будущее – самые дерзкие, а пока что предстояло что-то написать об этой стройке для дешевенького журнала, но принимали меня здесь как начальство, и – чего уж там! – мне это льстило.
В соседней комнате за стеной собрались плотники и девчата-бетонщицы, гуляли шумно. С двумя из них я разговорился днем раньше, обе в комбинезонах цвета хаки в обтяжечку, рослые, зрелые, было на что поглядеть. Приехали они на стройку судьбу свою искать. Городок их маленький, парни уходили в армию и не возвращались. Вот и они сели в поезд, открыли бутылку вина: за все хорошее, что впереди ждет! Отцов своих ни одна не помнила и не знала: был в свое время расквартирован в их городе стрелковый полк.
Из соседней комнаты приходили звать нас, молодой вихрастый плотник распахивал дверь: «Мужики, ну вы чо?». Сосед мой наконец встал, погасил свет. Теперь только фонарь на башенном кране светил нам снаружи.
– Вы не знаете, как важно для человека, когда есть о ком заботиться. В семейной жизни это, может быть, самое дорогое. Не о тебе, а – ты, – вздыхал он и томился плотью. – Сейчас мне этого больше всего не хватает. Может, все дело в том, что я старше ее на девять лет. Она – дитя. В душе она и сейчас – совершенное дитя.
А мне хотелось спать, намотался за день. И не мешало, что в соседней комнате пели-орали не в лад: «Все КРАЗы, МАЗы,/ ЗИЛы да ГАЗы, / А бобик-тузик ша-ариком,/ Машины юзом, / Грязь лишним грузом, /А мы бельмом на шарике-е…».
И вновь тихий голос:
– Вы не спите?
Да чтоб тебя!..
– Нет-нет.
Клеенка свешивалась со стола, лиц друг друга нам не было видно, и он рассказывал, как исповедывался. Долетало обрывками сквозь сон: как они шли в загс почему-то за много километров, как захотелось мороженого зимой, как у них потом не хватило денег…
– Вы не поверите, мы поженились, а я еще несколько дней не прикасался к ней. Не смел.
Это и было, наверное, последним, что я слышал сквозь сон. Разбудили нас среди ночи. Яркий свет, в дверях – плотник:
– Мужики, подъем!
Выяснилось: как всегда, не хватило водки, послали за ней микроавтобус, был такой белый польский микроавтобус, прозванный почему-то Фантомас. И надо же так случиться, что в тот самый момент, когда он проезжал внизу, по улице, прорезанной бульдозерами, над ним по откосу, где уцелело несколько домов стоявшей здесь ранее деревни, взбирались два парня, держась за плетень, оба – сильно поддатые. Плетень ли гнилой обломился или сапоги разъехались по мокрой глине, но один из парней рухнул с откоса, угодил под колесо, как раз по животу ему проехало.
– Думать надо, мужики, чо делать будем?
Хмель из плотника вышибло, а рядом, белый, как смерть, стоял шофер. Утром всех нас вызвали к следователю в милицию. Перед дверью уже сидел пожилой татарин, весь в черном. Черная шляпа, черные до колен сапоги, в них вправлены черные костюмные брюки. Запомнилось, говорил он покорно судьбе: «Дощь с внущкой осталась… Венера называется…».
Тремя днями позже я уезжал одним из первых пароходов, навигация по Каме только начиналась. Уже готовились убирать сходни, когда, гремя цепями по железным бортам, примчался самосвал, из кабины выпрыгнул мой сосед по комнате: «Вот…
Чуть не опоздал… Не затруднит?… Посылочка жене…». На крышке фанерного ящика чернильным карандашом написан адрес, фамилия, имя-отчество, телефон.
Пароход загудел, отваливая. И долго еще было видно, как в дождевике, сняв с головы фуражку, стоит мой сосед у кабины самосвала, смотрит вслед.
Плескалась за бортом темная, густая на вид холодная вода, на грязной льдине, которую несло течением, что-то клевала ворона. Поднялся на палубу матрос, швырнул в ворону белой трубкой от неонового светильника. Не попал. Ворона взлетела, взмахнула несколько раз черными крыльями и опять села на льдину, покачиваясь с ней вместе на уходящей к берегу волне. Пенный бурун от винта за кормой захватил полую трубку, на миг она встала торчком и скрылась.
Ветром нанесло встречно косую полосу дождя, в ней растаяла стройка: краны, поднятые к тучам, редкие дома, берег.
Глава II
В ту пору у меня заканчивался случайный роман с женщиной старше меня. Она говорила: «Я долго буду молодая». И если на улице на нас оборачивались, она тихонько подталкивала меня: «Видишь? Мы хорошая пара». Мне же казалось, что оборачиваются совсем по другой причине. Однажды в компании, будучи навеселе, я представил ее: «Знакомьтесь, моя жена». Сказал и сказал. А она ждала. И начались ссоры. Но ночь, как правило, мирила нас. Кстати, она же, Вера, напомнила мне, что надо отнести посылку. Дня три она хранила ее в своем холодильнике, и после очередной размолвки это был повод позвонить мне.
Давно уже нет того дома, куда предстояло мне прийти по адресу, придумав что-то в свое оправдание. Он стоял у Никитских ворот, и когда его снесли, открылась чудная церковка, и даже странно казалось теперь, что здесь когда-то что-то стояло. Но я помню тот дом и мысленно вижу его всякий раз, проезжая здесь или проходя мимо.
Была суббота, Вера, будто чувствовала, хотела пойти со мной, но я сказал, неудобно, не в гости в конце-то концов, здрасьте – здрасьте, передам и вернусь.
Считается, первое впечатление – главное впечатление. Так вот первого впечатления не было. Потом я не раз заново представлял себе, как все это выглядело: мне открыли дверь и посылкой вперед я вдвинулся в переднюю, где она в спешке даже не зажгла света.
– Это – вы?
– Я… Дело в том, что…
– Витя уже звонил… Заходите скорей…
И все это – сквозь мощный рев, мы и голосов своих толком не слышали. В кроватке, хорошо видное из маленькой передней, стояло облитое слезами, надувшееся существо в рубашонке до пупа, трясло свою кроватку, и рев его оглушал.
У меня не было младших братьев и сестер, и я не испытывал особой нежности к детям этого возраста, скорей даже опасался их, но тут, войдя уже в комнату, освобожденный от посылки (в дверь опять позвонили, и она побежала открывать), я вдруг взял его на руки. Выглядело это так: под мышки я вынул его из кровати и на вытянутых руках держал перед собой, а оно сучило босыми ноженками. И вдруг смолкло. Это был мальчик. Сияющими от слез глазами он осмысленно, хмуро глядел на меня: разглядывал. И, повинуясь не знакомому мне чувству, я взял его под попку, прижал к себе, грел в руке озябшие его, крошечные, как розовые горошины, пальцы ног.
– Нет, вы посмотрите, что делается! – она всплеснула руками, увидев нас. – Вот что значит – мужчина. Он обожает мужчин.
Тут он посерьезнел, надулся, и нечто горячее потекло мне на грудь, на живот.
– Ах ты поганец! – с веселым ужасом в глазах она выхватила у меня ребенка, пришлепнула ласково. – Это – твоя благодарность?
И, смеясь, убежала с ним на кухню.
– Вы посидите, мне пора его кормить.
Хотелось закурить, но я послушно сидел на диване. А вскоре я уже сидел в майке, в накинутом на плечи пиджаке, она застирала и гладила на кухне мою рубашку. И оттуда перекликалась со мной:
– Он вас отметил. Теперь он будет… – она засмеялась веселой мысли, – он теперь будет идти к вам, как собачка к тому дереву, которое она отметила.
А он, накормленный, лежал в кровати, солнце светило ему в лицо, он жмурился, засыпая. Щелкнул замок, хлопнула дверь.
– Ты представляешь, что у нас случилось! Это от Вити посылка…
Надя (на крышке посылки было ее имя) рассказывала кому-то, как в пустоту.
Шаркающие шаги. В дверях комнаты возникла худая, затрапезного вида старуха в очках, глянула на ребенка, строго оглядела меня. Я тут же встал и стоял перед ней в дурацком виде, в пиджаке поверх майки, мое вежливейшее «добрый день» повисло в воздухе без ответа. Шаги прошаркали на кухню, и там начало что-то рушиться и грохотать. Наконец Надя внесла мою рубашку, и тут я впервые увидел ее.
Она была совсем другая, не та, заполошная, что открыла мне дверь. Мне протягивала рубашку стройная молодая женщина – стройные ноги, узкие бедра в черной обтягивающей юбке, высокая в белой блузке грудь, – и солнце освещало ее всю, и волосы ее чудно светились, и не тапочки, а туфельки были на ногах: успела надеть. Хороша! И в глазах моих прочла: хороша. И улыбнулась. После я не раз пытался понять, что такое особенное в ее лице? По отдельности все, вроде бы, даже и некрасиво, лисичка, но глаз не отведешь.
– Не забывайте нас, – говорила она, прощаясь. – Он так сразу пошел к вам на руки, с ним это никогда не случалось.
Слова не значили ничего, но – голос… Я шел и слышал ее голос.
– От тебя пахнет женщиной! – закричала Вера.
Я разозлился:
– Ты окончательно с ума сошла.
– От тебя пахнет женщиной! – закричала Вера и заплакала. И была ссора, самая тяжелая за все дни. И тяжелым было примирение. Успокаивая Веру, я говорил ей ласковые слова, но думал не о ней.
У Веры были пышные волосы. Она причесывается, а я, бывало, смотрю на нее, и она улыбнется мне из глубины зеркала, она любила, когда в такие минуты я cмотрел на нее. Я смотрел и видел, как светились на солнце волосы той, не знакомой мне женщины. Странно, она фактически ничего не спросила о муже. «Как он там?» И то – на бегу. А Вера улыбалась мне из глубины зеркала.
У меня плохая память на имена-отчества, я всегда боюсь спутать: Василий Егорович или Егор Васильевич? Мне непременно надо записать. Но номера телефонов я запоминаю накрепко. И уже сама придумывалась фраза: ну как ваш маленький деспот?
Или что-нибудь в этом роде. Уличные телефоны-автоматы подманивали меня. «Он обожает мужчин», – сказала она. А тот, дурак, на стройке… Но вот это и было упреком немым: наш ночной разговор, хлеб и плоская коробка килек, которые он оставил мне. А в душе звучало: «Не забывайте нас…» Как-то на улице показалось издали, она идет, и екнуло сердце.
Был теплый апрельский день. Солнце. Весна. Мы сидели с Верой на Тверском бульваре, на скамейке. Вера была в новом легком песочного цвета пальто на кремовой шелковой подкладке – итог ее героических усилий, многих бессонных ночей за пишущей машинкой. Она впервые надела его.
Мимо прошла женщина, катила перед собой пустую коляску, малыша закинула себе за плечо, придерживая рукой. Весь вязаный, шерстяной, в шерстяной шапке с помпоном, он смотрел из-за ее плеча, два блестящих осмысленных глаза. Вера нежно положила мне голову на плечо:
– Вот такой мог бы быть у нас…
Вся рука моя напряглась, как от тяжести, я поспешил закурить, чтобы она не заметила, не обиделась.
Она как-то сказала: «Можно спать под одним одеялом и видеть разные сны». Мы уже видели разные сны.
В воскресенье, в тот час, когда все мамки и няньки гуляют с детьми, я поднялся на четвертый этаж, позвонил. Я знал, что скажу, если откроет старуха. Но что сказать Наде, как все будет, не представлял себе. Хотел купить букетик цветов.
Явно слишком. Купил погремушку Витьке. И вот с погремушкой в руке стоял перед дверью, ждал. Сердце колотилось так, что отдавало в ушах. Позвонил еще раз.
Длительно. Шаги. Голос Нади: «Галя, ты? Господи, что вы так скоро?» А я, охрипший вдруг, слова не мог сказать. Дверь открылась. В тюрбане на голове, в белом запахнутом купальном халате, в тапочках на босу ногу она стояла по ту сторону порога, я – по эту. Молча. Я переступил порог, обнял, чувствуя ее всю, целовал влажную ее шею, вдыхая ее запах.
– Сумасшедший! – сказала она и за спиной у меня толкнула дверь. Щелкнул замок.






