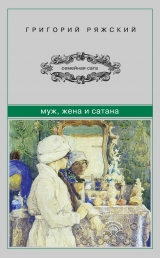
Текст книги "Муж, жена и сатана"
Автор книги: Григорий Ряжский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Сказал и выдохнул. И знак сделал рукой упреждающий Остроумову с Фейденбергом, что, мол, погодите еще маленько, пока разговор свой нужный в важные эти уши докончу. Те и не дернулись идти. Ждали. Отныне слово было за самим, от него и зависело.
– Вот так да! – удивленно воскликнул генерал-губернатор, разведя руками, и, внезапно потеряв равновесие, слегка пошатнулся. Тут же подскочил адъютант с беспокойно-угодливой мордой на суровом лице, привычным движением поддержал его сиятельство под бока, после чего распахнул каретную дверку, вытянул оттуда небольшой бархатный стульчик с резной спинкой и поднес под князя. Тот сел. Бахрушин ждал решения. Не то чтобы волновался, но было б неприятно получить сановный отказ, хоть и учтивый.
Князь театрально улыбнулся, сокрушенно покачал головой и короткой фразой пояснил свое удивление:
– Милый друг мой, вы просите совершенно о невозможном… – После этого взял паузу. Бахрушин молчал, стараясь ничем не выдать расстроенности своей от услышанного. Однако глаза его заметно потухли и кончики губ опустились чуть ниже, вместе с завершеньями пышных усов. И это не укрылось от глаз проницательного старика. Он хохотнул и неожиданно сказал: – Признаться, ехал к вам сейчас с известием более чем приятным. Но придется, видно, приятствие сие удвоить. – Александр Алексеевич в надежде вскинул на него глаза. – Да, Александр Алексеевич, могу известить вас, что улица нынешняя станет теперь Большой Бахрушинской, в почет и в память благодеяний и милосердия вашей большой семьи: так городская власть постановила, так оно теперь и станет. И заметьте – прижизненно называем, прижизненно! Так вы и сами тому виной – успели, как говорится, богоугодных дел натворить, да и немало к тому же. А что до прошенья вашего, так невозможное оно по фигуре всего лишь. Потому как не просить меня следовало об таком для вас, а попросту определить в известность. Считайте, что уж и определили. И получили от князя Долгорукова согласие. За сим, примите поздравленья от городских властей и… – он снова театрально огляделся по сторонам, – но только отчего не вижу угощенья, об котором управляющий ваш так бахвалился. Сразу видать, мошенник, вы уж, батенька, поосторожней с ними, они чужих денег считать не любят. Такие распорядители с легкостью по миру пустят – так, что и не сразу обнаружишь.
Последние слова городского главы Бахрушин уже пропустил мимо ушей. Дело было сделано, да еще с переизбытком удовольствия. Он склонился над князем, взял его руку и поднес к губам.
– Ваше сиятельство…
Одновременно сделал призывный жест врачу и архитектору, ожидавшим знака, – мол, подходите сюда, теперь уже можно. В этот момент раздались колокола, и приглашенный к празднику народ, перекрестившись в последний раз, начал толпою вытекать из храма на просторный двор перед главным фасадом, к павильону с готовыми для приема гостей изобильными столами. А среди них – старший и младший Бахрушины, Петр и Василий, еще ничего не ведающие о последних, добытых средним братом, славных новостях.
Через неделю, отойдя от событий, Бахрушины поручили Борису Викторовичу распланировать все необходимое для производства отдельных дополнительных работ по устройству фамильного склепа семьи меценатов Бахрушиных.
Первым из семьи после помещения останков главы династии Алексея Федоровича и его супруги в фамильный склеп был захоронен старший из Бахрушиных, Петр Алексеевич. Остальным предстояло жить еще годы и годы.
9
Предметы в квартире Гуглицких начали вести себя более чем странно, начиная с того самого дня, когда Прасковья обнаружила на кухонном полу перевернутый ковшик для варки яиц. Поначалу значения никто этому не придал. Да и кому было придавать кроме нее самой. Ни Аданьке, ни тем более Лёве она вообще говорить тогда ничего не стала – ну упал себе и упал, мало ль каким сквозняком залетным наскочило да перевернуло, хотя фортка лично ею самой была прихлопнута до тугости и повернут запор. Ошибиться она не могла, голова, слава богу, пока работала и память вместе с ней. Однако перекрестилась и забыла. А ближе к обеду другого дня, когда вернулась с рынка, выгуляла Черепа и перемыла брошенную хозяевами посуду, пришлось-таки заново вспомнить про вчерашнюю странность, какая, видать, так и не отмолилась, как надо.
Через пару дней, когда она снова была в доме одна, внимание Прасковьи привлекла вдруг настежь распахнутая дверца гоголевой клетки. Сам Гоголь сидел нахохленный, сжавшись в тугую тушку, что ему совершенно не шло и являлось абсолютно нетипичным для наглой, не привыкшей ни в чем себе отказывать птицы. Глаз его при этом был насторожен и недобр.
– Ну, чего на этот раз удумал? – махнула на него тряпкой Прасковья. – Ругаться постановил? Иль кусать будешь – чего распахнулся-то?
Однако клетка отпиралась снаружи, и при всем желании попугай не сумел бы так изловчиться, чтобы просунуть свой толстенный клюв в узкий промежуток между проволочными прутьями и повернуть запор. Да и к чему было ему такое, раз даже выбираться не стал из клетки, хотя и часто просился.
Это дошло не сразу, но дошло. И сильно озадачило. Происходящие в квартире безобразия еще не начали складываться в общую неблагополучную картину, но предвестия ее, как было уже понятно, постепенно стали проявляться с некоторой периодичностью. Клетку она тогда закрыла и запор вжала посильней. Но ощущение было нехорошим: неясное чувство, перемешивающее внутри нее идущий откуда-то снизу скверный холодок с дурной и опасной тяжестью, настойчиво тянущей плечи к паркету, не отпускало вплоть до прихода Аделины и Лёвы.
И вновь промолчала она, удержала в себе желание исповедаться домашним, подумала, примут за пугливую дуру и запомнят ей. Но это было в последний раз, когда она умолчала о зародившихся у нее подозрениях насчет присутствия в доме нечистой силы. Или не очень чистой. По крайней мере, именно такими словами в первом своем, пробном, признании она обозначила Аданьке это непонятное, что стало не на шутку беспокоить и отвлекать ее от привычного распорядка жизни. А к концу исповеди, которую исполнила спустя три дня после не отпускающих ее сомнений, припомнилось еще, неожиданно для самой, что и Череп стал вести себя, как побитый, не по-шумерски: жался больше к ногам, трясся как при морозе, поскуливал беспричинно, словно болело у него чего и не отпускало никак. А то вдруг ни с того, ни с сего начинал бросаться в пустоту перед собственным носом и остервенело лаять, целя тоже в никуда, в воздух коридорного угла, где не было и не могло быть никого.
За три дня странностей этих набралось, больше некуда. Шторы в гостиной сами забросили себя на подоконник, обе. И тюль туда же вместе с ними. Это – раз. Салфетка кружевная, крахмальная, какой Прасковья покрыла Буль этот, что размещался у нее в комнате и над которым Лёвка дрожал и не желал запускать ни в один обмен, съехала на полразмера вниз, потянув за собой фотографию в рамке, где она вместе со всеми робко улыбается привалившему счастью: сама она, Лёва с Аданькой, Череп у них на коленках и презрительно отвернувшийся Гоголь, тоже рядом со всеми, но только на столе и не вынутый из своей проволоки, чтобы не помешал аппарату щелкнуть. И это – два, даже если счет вести не от ковшика, а от тюля и штор. Ну и – три, последнее: наглазник у истукана Лёвонькиного. Пыль протирала на нем, так задрала его, часть эту железную, чтобы под ней пройтись и по бокам, и так оставила, пока бархотку обтряхнуть пошла. Так запчасть эта сама на место вернулась и сильно об наносник стукнулась, с медным грохотом или из чего она там сделана. Прасковья принеслась на звук и сразу же догадалась, что снова вмешательство в личную жизнь произошло, и опять без нее самой. Не могла железная часть сама упасть на место, ну никак не могла бы. Прасковья еще специально потрогала потом – под рукой было туго и упрямо. Нет, не может такое быть само по себе. А Гоголь так совсем глаза зажмурил, не было этого с ним раньше, никогда не бывало. Тихо посидел еще потом, не распахиваясь, и только через час или больше внезапно заорал, лихорадочно озираясь по сторонам:
– Гоголь-хор-роший! Гоголь-хор-роший! Гоголь-хор-роший! – совершенно выбросив ту часть, где он, Гоголь, еще и «дур-рак, дур-рак, дур-рак!».
Это третье, медное, с наглазником и наносником, доконало голову. Тогда и пошла к Аданьке сдаваться, подставлять себя под удар, под риск быть выброшенной на улицу, в никуда, как ненадежная домашняя дура.
Ада посмеялась, конечно, успокоила, как сумела, в щеку поцеловала и с Богом отпустила восвояси, убраться на кухне и заварить чай. Но вечером все же рассказала Лёвке. Тот криво ухмыльнулся, но на всякий случай отправился к рыцарям, поисследовать обе башки на предмет повреждений, если то, что рассказала жена, правда. Однако на обоих несгибаемых котелках все оказалось на месте, без следов несанкционированного взлома, как он и предполагал.
– Она у нас репа просто, без единой семечки в голове, – недовольно буркнул вернувшийся после обследования Лёва, имея в виду Прасковью. – Чудится ей, понимаешь, всякое, а мне переживай.
На этом все забылось. Но вспомнилось уже совсем скоро, через день или два.
Ненормальность обнаружилась в хозяйской спальне, на письменном столе у Ады. Вернее, не на самом столе, а рядом, на полу. Электрическая пишущая машинка системы «Оптима», на которой Ада Юрьевна обычно щелкала без передыха вплоть до той минуты, пока не возвращался Лёвка и в их маленькой прихожей не раздавался приветственный лай Черепа, лежала на коврике, перевернутая кверху днищем. Валялась, оставленная неизвестно кем, как самый обыкновенный яичный ковшик.
Это было не просто удивительно. Это был второй нечистый круг, определенно. И теперь уже Прасковья окончательно уверилась, что оно началось. Чем «оно» было и кого представляло – об этом она понятия не имела, а только без черта не обошлось. Или слуг его, диавольских. Ну как поверить в такое, что Аделина Юрьевна, пускай даже опаздывая на уроки, оставила свою пишущую машинку в таком ненормальном состоянии. Да и к чему ей такое, для чего? Если б даже подкрутить что надо в ней или подправить, то не на полу ж и не днищем наверх. Не корыто, чай.
На всякий случай трогать она ничего не стала, оставила как есть. И первой, как хозяйка вернулась, на неприятность указала, чтобы не подумали на саму.
И вновь все прошло для нее без последствий, тихо. Лёва решил, что Ада просто сдвинула свой агрегат, торопясь, и машинка, побыв какое-то время в состоянии неустойчивого равновесия, в результате опрокинулась сама – обычное притяжение земли, не более того. На другой день он отвез ее в ремонт, потому что, как Адка ни старалась, работать со сломанной кареткой у нее не выходило.
Именно этим случаем начался новый виток домашних странностей, счет которым с этого дня повели уже сами Гуглицкие. Шутки кончились, и Прасковья тут явно была ни при чем. И вообще, после того рыцарского удара металлом об металл, она предпочитала больше молчать, не влезать с предположениями о творящихся в доме пакостных делах, больших и поменьше.
Следующая неприятность также не заставила себя ждать. Это уже после того, как машинка вернулась в дом починенной, и Аделина, компенсируя не сделанные ею печатные дела, удвоила усилия по ее эксплуатации. Нужно было срочно завершить сжатый обзор по классикам девятнадцатого века, максимально усушив сюжеты, чтобы оставить эту часть самим ребятам, но параллельно начинить его датами, малоизвестными фактами и любопытными, как ей самой казалось, деталями, часто говорящими об авторе не меньше самого произведения. Этакий гербарий из классиков, любимых и остальных. То, что классиками объявляют писателей определенного масштаба лишь после того как их сочинения теряют идеологическую актуальность, когда их можно, не рискуя ничем, отдать школьникам, Аделина Юрьевна прекрасно понимала. Только не обязательно соглашалась насчет отсутствия в произведениях, одобренных для изучения в школе, такого риска для школьников, включая ее мальчиков и девочек. Да, страстно почитала Гоголя, обожала каждое слово, им написанное, всякую им же сочиненную фразу, только вот «Тараса Бульбу» старалась лишний раз не навязывать своим, отложить до поры, заменить другим, не менее значимым. Всего и так не охватить, к тому же не хотелось после этого объясняться еще, подбирая удобоваримые слова, отчего все же ее любимый автор, почитающийся величайшим гуманистом, с таким пристрастием описывает зверства шляхтичей, бесчинства жидов и доблесть казаков. Для чего там все это, зачем? Насилие, разжигание войн, непомерная жестокость, средневековый садизм, этот чертов национализм в паре с ксенофобией, антисемитизм и религиозный фанатизм, требующий истребления иноверцев, непробудное пьянство, возведенное в культ, неоправданная грубость даже в отношениях с близкими людьми. Ну по-че-му? И если честно, за Лёвку до слез обидно, как за ярко выраженного потомка тех самых иноверцев. Все – дальше бежать, раздавать материалы мальчикам и девочкам для подготовки к литературной олимпиаде.
Это был ее любимый факультатив, несмотря на то, что никаких денег за дополнительное внеклассное время не полагалось. Да это было и не важно. Главное, ребята, которых ей удалось заманить на разговоры о самом главном, оказались целиком нормальные, почти все: умненькие, хваткие, любопытные. Правда, несколько диковатые и изрядно одурманенные бесстыдством последнего десятилетия.
Господи, как же ей хотелось достучаться до них, доколотиться, сделать так, чтобы поверили, чтобы влюбились истово и бесповоротно, как сама она когда-то втюрилась раз и навсегда в невероятность пушкинского стиха, в душераздирающую печаль Достоевского, горечью своей и болью исходящую от каждого слова. В феноменальность гоголевского слога, не объяснимого ни глазом, ни умом; в особый, не сравнимый ни с каким другим причудливый мир его героев, его чудес, в неподражаемый смех его и пронзительный юмор, в его волшебный, забирающий тебя целиком и поражающий воображение абсурд. Боже, какое наслаждение, когда видишь, как вспыхивают тебе навстречу глаза, как что-то щелкает и ломается у них в середке, как медленно, малыми шажками начинают они подвигаться к тебе своей юной, нетвердой пока еще душой, чтобы, соединив ее с твоею, забрать у тебя то, что ты сама готова отдать…
«…жизнь служила Гоголю, а не Гоголь жизни, или, еще яснее, Гоголь творил гоголевскую жизнь. Нужно подойти к его произведениям, как подходят к прекрасной картине – не рассуждая о том, как звалась флорентийская цветочница, послужившая для художника моделью мадонны. Гоголем нужно наслаждаться, забыв классные сочинения и исторические данные и не оскверняя географическим названием города Н., куда в прекраснейший день русской прозы въехал Чичиков».
– Это Набоков, – на всякий случай прокомментировала она произнесенные ею слова. Разговор этот происходил днями, в ходе их последней факультативной встречи. О нем, о Владимире Набокове, она поговорить с ними пока не успела: на все не хватало отпущенных часов и потому приходилось постоянно мучить себя отбором наилучшего. Остальное вкрапливала попутно, рассыпая по мере надобности. – А сами-то вы помните этот въезд? – Никто не отреагировал так, как бы ей того хотелось. Она взяла паузу, а потом сказала им. Так сказала, чтобы сказанное прошибло башку и запомнилось. – Так вот и смотрите же, вспоминайте, вникайте, вслушивайтесь – вот вам пример, точнейший, удивительный для понимания того, зачем человек берет в руки перо и как он своей короткой, емкой, изумительно простой и микроскопически точной зарисовкой, не влияющей впрямую на сюжет, мастерски показывает нам, кто мы есть и откуда, быть может, берутся наши начала. Дышите самим воздухом этой прозы, черпайте из нее все, что сможете вычерпать каждый для себя, ввязывайтесь в их разговоры, втирайтесь к ним в доверие, шутите вместе с героями, говорите их словами, думайте их мыслями, смейтесь их смехом, плачьте как плачут они, страдайте их болью, молитесь их богам, делайте им добро и боритесь вместе с ними со злом, выручайте их в трудную минуту, хвалите их, если они сумеют сжать ваше сердце и еще долго потом не отпускать, гневайтесь на них, если они не правы, и никогда не забывайте, что они такие же живые, как и вы, что они есть и будут всегда – и тогда вы откроете для себя новую дверку, заветную, укрытую от других, и пройдете внутрь, с трепетом и надеждой, чтобы прикоснуться к тайне, которой вас одарит слово, наивысшее из земных чудес…
Сказала, будто выдохнула, и сама себе удивилась – с явно избыточным чувством, так ее заносило не часто. В этот раз, видимо, занесло из-за проклятого одеяла, которое под утро снова стащил с нее безвестный домашний черт, и из-за этого она плохо выспалась. Пришлось, не снижая градуса, добить тираду цитатой из «Мертвых душ», для пущего примера. Что и сделала.
«Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо. – Что ты думаешь, доедет это колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал другой.
Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскою булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой…»
– А, каково, чада мои дражайшие? Просто дрожь по хребту…
Так вот, про неприятность под номером вторым. Как раз в те самые дни она обзор свой для них заканчивала, для умненьких и любопытных, и уже почти закончила, оставалось добрать самую малость, с полстранички печатного текста, не больше. На этом месте ее и заело, каретку. Встала, и все, ни с места. Как будто расклинил кто изнутри. Ада чертыхнулась и отправилась на боковую, чтобы выспаться и, придя в школу пораньше, успеть доработать текст до занятий, в учительской, больше было негде.
С кареткой повторилось еще два раза. Потом стала защемляться бумага. Неожиданно начинала уходить в сторону, без видимых к тому причин: буквы от этого смазывались и разъезжались, уродуя всю страницу, и тогда Аделине приходилось, преодолевая отвращение к этой чертовой машинке, заправлять другой лист.
Странно, раньше за ней такого не водилось. Лёвка нехорошо выругался и снова отвез эту «Оптиму» в ремонт. Там посмотрели, сказали, все в норме, и вернули, не взяв. В тот же вечер все повторилось снова – бумага заминалась, буквы, будто пьяные, не оказывая сопротивления, утягивались к полям. Работа тормозилась, и Адка начинала тихо психовать.
Параллельно с этим расстройством стали возникать причины и для других. То вдруг одна из домашних Лёвкиных тапок, сброшенных у кровати, куда-то исчезала и обнаруживалась уже потом в совершенно не подходящем для нее месте. То по ночам, в самой райской середине предутреннего сна, край одеяла с Адкиной стороны внезапно отворачивался в сторону, обнажая часть ее ноги или плечо целиком, и это вынуждало ее проснуться, и хлопая сонными глазами, совершенно не понимать, отчего такое обнажение с ней произошло. Лёвка спал, и было так же очевидно, что сделал это не муж и не сама она. Получается, зря они с Лёвкой, хотя и добродушно, но все же неприкрыто подтрунивали над Прасковьей, ставшей за последнее время совсем уж запуганной и заметно добавившей молчаливости в свой и так не слишком разговорчивый характер.
И уже не получалось быстро заснуть в этих идиотских раздумьях, и утром Лёвке приходилось долго трясти ее за плечи и будить, чтобы не опоздала к первому уроку. И день получался разбитым, постоянно клонило в сон, к тому же в голову лезла всякая недостойная серьезного обдумывания ерунда.
Что-то в их доме явно было не так. Злой умысел Аделина отбросила сразу – просто некому было его проявлять: все свои и все – вот они, наперечет, включая домашних животных и двух неживых Лёвкиных верзил.
А тут еще снова с машинкой пишущей началось – теперь уже очередь пришла дурить ленте. Остальные части агрегата отдурили и вроде на какое-то время угомонились. С вечера, достукав очередную порцию текста и отправляясь спать, Аделина оставляла ее в рабочем положении, нормально протянутой вдоль каретки. Утром же лента беспричинно оказывалась в перевернутом виде. И что интересно, расстояние до кровати – три с половиной шага. Лёвка ночью не вставал, сама она тоже, оба спали безвылазно. Затем – утро, как положено, она – первая. Встает, набрасывает халат, делает свои три с половиной шага к письменному столу – лента перекручена, кошмар. И это значит, будут дефекты, работать на такой ленте нельзя. И жить так дальше нельзя. Все, точка. Приехали. Ку-ку!
Два последующих месяца чертовщина в доме Гуглицких не прекращалась: то отступая ненадолго, то вновь давая о себе знать.
– Полтергейст, не иначе, – без тени юмора определил ситуацию Гуглицкий, когда жизнь с загадочно ломающейся «Оптимой» сделалась для обоих окончательно невмоготу. Да и сам он, видя, в какой безвыходной растерянности находится его жена, не решился больше продлевать это издевательство. Сказал: знаешь, думаю надо тебе переходить на компьютер. Хватит этой хренью заниматься, весь мир уже там, только мы с тобой никак туда не въедем.
Адка, любимая его Адуська, подпрыгнула и повисла у него на шее, обхватив ее руками:
– Лёвочка, хочу самый быстрый и самый удобный, чтобы нормально, наконец, можно было работать. Хватит мазилку изводить эту проклятую с ненавистной копиркой. Все нормальные люди давным-давно Интернет этот туда-сюда гоняют без конца. Я тоже хочу. И принтер, Лёв. Лазерный. И сканер. И все-все остальное для счастливой жизни. Ты же любишь, когда твои рыцари полностью укомплектованы? Вот и я теперь люблю, да?
– Ну да, – согласился Гуглицкий, – само собой. Но только через месячишко, ладно? Раньше никак не получится. Я все это время за вещь буду выплачивать купцу одному ростовскому. Он рассрочку дал, беспроцентную. А я взял, больно уж вещь замечательная. Сумасшедшая. Все охренеют, когда я ее через полгода-год на рынок выставлю. Вот тогда заживем, Адунь, как нормальные люди, и черт с ним, с дефолтом этим. И с чертом нашим тоже черт.
– А что за вещь? – удивилась жена.
– Да не бери в голову, – отмахнулся он, – вещь как вещь. Ценности в ней нет никакой, поверь, это она только для узкого рынка такая замечательная, не для меня лично. Ну в том смысле, что броская и улетать будет всегда, без проблем, какие бы там ни случились потрясения. Разве что ядерная зима или чего-нибудь такого типа. Знаешь, она каждый раз, переходя от одного кретина к другому, будет только добавлять в цене. Но есть условие – кретины эти должны быть чудовищно богатыми. И чем он богаче и известней, тем больше она будет стоить после него – называется «Эффект ореола». Я обычно делаю первый заход и сразу же оттуда выпадаю, потому что не в их обойме. Они, как только заимеют привлекательную вещь со стороны, обязательно дорогую или сверхдорогую, так она тут же для всех остальных кончается, для всего нашего рынка. Дальше они ее тасуют только в своей среде: дарят, перепродают, снова покупают, оставляют в наследство, делят при разводах. В общем, по кругу вещь эта ходит, между ними, вместе с женами и недвижимостью. Тебе это знать необязательно, Адусь. Просто постарайся потерпеть ровно один месяц и обязательно все получишь. Персональный компьютер с Интернетом и все остальное к нему.
Наутро после этого разговора неожиданно все прекратилось, вся эта выводящая из себя, не дающая спокойно жить и дышать чертовщина с падением предметов и каждодневной поломкой «Оптимы». Было – и отрезало. Казалось, все, что происходило в их жилище в предыдущую пару месяцев с небольшим, явилось всего лишь коротким наваждением, сном, придумкой – больше Прасковьиной, чем их. День шел за днем, а нечистая сила вела себя так, словно забыла про них или же просто сменила адрес, предпочтя иметь новую жертву для своих идиотских домогательств взамен этих безропотных и уступчивых интеллигентов.
К концу первой недели безмятежной жизни на Зубовке история этой их общей глупости стала потихоньку забываться. Лёвка носился по городу с каким-то кортиком или кинжалом, Аделина активничала у себя в гимназии, наверстывая упущенные дела, которые пришлись на затянувшийся период застоя и недосыпа.
Но получилось так, что жену свою Лев Гуглицкий обманул. Не стал ждать объявленный им же месяц, видя, как страстно теперь мечтает она о компьютере, и сократил обещанный срок до десяти дней. Плюнул на долговое обязательство, решил, разберется как-нибудь: в крайнем случае, отдаст в счет частичного погашения наградной морской кортик, изготовленный по специальному заказу для Арвида Пельше, с золотой рукоятью и памятной надписью ЦК КПСС. Лёвка по случаю перехватил его пару лет назад у друга семьи дальней родни бывшего члена советского политбюро. Обменял на десятилетнюю «Шевроле». Ну а тачку эту принял уже у своих, цеховых, за часть боевого японского доспеха, а конкретно – за неполный комплект грудных пластин «гусоку» эпохи войн Сэнгоку с изображением гербов. Для обоюдного и полного удовлетворения сторон добил сделку двумя защитными наголенниками тех же времен. Вышло то на то. Вернее, оба они, что Лёвка, что продавец секонд-хенд тачки прекрасно знали, что доспех, вероятней всего, фуфловый и атрибуцию наверняка не пройдет, но зато выполнены элементы этого доспеха так, что, не будучи знатоком, навряд ли кто-либо сможет на глаз усомниться в подлинности предметов. Кроме того, коллегу-коллекционера уже ждал нетерпеливый купец, про которого было известно, что тот хватает все подряд, не торгуется и, заполучив вещь, уже не выпускает из рук никогда. В чистом виде невежественный собиратель-дилетант с необеспеченным знаниями капиталом – ровно то, что нужно любому образованному представителю Лёвкиной профессии, по ряду объективных причин не сделавшему нормального состояния.
Гуглицкий и сам знал на него выходы, но просчитал, что комбинацию все же лучше будет усложнить через кортик Пельше, потому что, если сложить, вычесть и снова сложить, то на выходе предприятия сумма получалась прилично больше.
* * *
Прасковья была дома, когда Лёва заносил в квартиру эти картонные коробки, красивые такие, цветастые, пахнущие складом, пенополиуретаном и новым Аданькиным счастьем. Гуглицкий привез их сам, на «бэхе». Занес в спальню и стал распаковывать. Потом пришла Ада; Прасковья покормила ее, и та присоединилась к мужу, чтобы помочь соединить друг с другом отдельные части этого свалившегося на нее добра. Угомонились не скоро, все возились с покупкой этой своей, настраивали там что-то, ругались потихоньку, спорили все про какое-то электрическое. Потом «грузили, загружали, разгружали, перегружали» чего-то, она не поняла. «Почту» отчего-то недобрым словом поминали. И смеялись громко потом, и смех был у них веселый, довольный. Только все равно ничего у них в спальне не получилось.
А на другой день явился мастер, какого Аданька вызвонила. Чудной такой, мальчишечка еще совсем, навроде старшего школьника. Худенький, очкастый, вежливый не по возрасту и в резиновых тапках на шнурках. Майка на нем с буквами была еще, огромными и не по-русски, и, главное дело, джинсы рваные по коленкам, с дырами, едва обметанными изнутри белой ниткой, а концы у ниток все одно торчат неприбранные. И молчун.
Прасковья ничего не сказала, конечно, не ее это дело мастеров хозяйских охаивать, а только все равно было неприятно, что в таком виде пацанчик к людям заявился, хоть и вызывали. А когда узнала ненароком, во сколько приход его обошелся, от Ады, так ахнула, натурально. Ушла к себе и долго сидела на кровати, все думала, что ж такое делается на свете, что соплячьи внуки такую власть нынче заимели. И за что – за простое электрическое включить?
Зато после него заработало, все как Аданька хотела, и она в щеку поцеловала еще Прасковью, радовалась, что наладилось, наконец, у них в спальне. Теперь там жужжало и пикало, и огонек зеленый, как у такси, мигал, и машина эта новая, источающая запах гуталина, листы выплевывала из себя, будто блины бумажные пекла. И все у них с Лёвой теперь было распрекрасно, только вот дети никак не хотели рожаться.
Но зато чудеса проклятые, что житья не давали, окончательно, видать, отгремели свое. И потому «Оптима» успешно отбыла на антресоль, пузырек с остатками мазилки улетел в мусорку, Череп заметно повеселел и перестал кидаться на пустую стенку, Гоголь же, единственный из гуглицкой семьи, кто не разделял общей радости, отряхнулся, подправил оперение тушки, натащив пуха ближе к пролысинам, и принялся за старое, привычно-злобное и беспричинное. Крикнул:
– Гоголь ур-род, ур-род, ур-род!
– Это что-то новенькое, – хмыкнул Лёва, подбирая выползающие из принтера один за другим бумажные листы с изображенным на них логотипом «LaserJet 6L» и рассматривая их на свет, – но, по крайней мере, самокритично.
Новая игрушка работала, и без сбоев, это было ясно. Ада прижалась к Лёвкиному плечу, зажмурилась и протянула, дурачась:
– А когда у нас Интернет будет, Лё-е-е-ва-а-а?
Гуглицкий удивился, искренне:
– А что, в нем своего Интернета нет, что ли, в ящике этом? Отдельно докупать, получается? Я-то думал, вместе все беру, комплектно с железом.
В этот момент на кухне что-то грохнуло. По характеру звука можно было угадать, что предмет довольно тяжелый и что упал на пол. А еще было слышно, как, ударившись о кафель, предмет покатился дальше, издавая по пути звуки, напоминающие колесный перестук аварийно тормозящего пустопорожнего состава. Оба они, Лёва с Адкой, тупо уставились друг на друга и, не сговариваясь, ринулись на кухню. Туда уже шлепала Прасковья, и на лице ее успело нарисоваться нескрываемое отчаяние. Напряжение, державшее все последнее время сообщество прописанных на Зубовке животных и людей, из всего состава отпустило ее последней. Однако частично настороженность осталась, не отступила совсем, как того требовал факт исчезновения нечистой силы. Все же к возвращению демона в жилище она, пожалуй, была больше готова, чем наоборот. И даже тайно стала думать, что демон этот, который хулиганил все месяцы этих мучений, и стал причиной Аданькиных недугов по женской линии. Но раздумьями своими ни с кем, само собой, поделиться не могла. Просто по вечерам закрывалась на щеколду и усердно, бормоча едва слышно, чтобы хозяева, не дай бог, не заругались, молилась за хозяйку на картонную иконку Божией Матери «Всех Скорбящих Радости», размещавшуюся у нее в комнате, стоймя, на Лёвином Буле. Ада Юрьевна, когда уже окончательно потеряла всякую надежду на беременность, картонку эту ей передала. Ну Прасковья и домаливала с той поры в одиночку: за хозяйку свою у Бога ребеночка просила и от самой себя.








