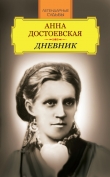Текст книги "Очарованье сатаны"
Автор книги: Григорий Канович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Старые власти не чинили Хацкелю Брегману никаких препятствий – евреи на то и евреи, чтобы не закрывать рот и перемывать друг другу и всему миру косточки. Но после того как к кормилу пришли голодранцы, распространителя слухов Брегмана пригласили на беседу в какой-то волостной комитет и велели, чтобы он перестал распространять среди народа враждебную пропаганду. К счастью или к несчастью Хацкеля, он притворялся, что не понимает значения этого слова, и продолжал, как прежде, сочинять для своих покупателей в соответствии с их вкусами и наклонностями новости в основном о новом Амане – Гитлере, поклявшемся уничтожить весь еврейский народ. И тут его снова вызвали в присутственное место, но на сей раз не в гражданский комитет, а в отделение милиции к строгому русскому начальнику, который по-военному кратко и доходчиво объяснил ему, что Гитлера строго-настрого запрещается поносить по-русски, по-литовски и на вашем, товарищ Хацкель, языке и что, дескать, он, Гитлер, примите, пожалуйста, к сведению, вовсе не враг Советского Союза, а друг, о чем свидетельствует и заключенный с ним два года тому назад мирный договор, ну а о друзьях, как всем известно, отзываются только с глубоким почтением.
– Поняли, товарищ Брегман?
– Понял.
– Вот и хорошо, – похвалил его русский начальник. – Надеюсь, больше вы своими сообщениями не станете вводить в заблуждение общественность и избавите нас от применения к вам неприятных мер пресечения – таких, как конфискация вашего “Филипса”, или закрытие вашей лавочки.
После визита к русскому начальнику в жизни Хацкеля Брегмана многое изменилось – испарились парижские и варшавские, лондонские и нью-йоркские племянники, кончились конверты с заморскими штемпелями и дорогими редкими марками; в прославленном “Филипсе” ни с того, ни с сего перегорели лампы; перестали поступать в продажу и все колониальные товары – цейлонский чай, марокканские финики, индийские ткани. Хацкель пал духом, замкнулся, ожесточился, весь ссохся, стал крепко хворать. Обеспокоенные отсутствием новостей земляки старались подбодрить его – кто обещал отвезти онемевший “Филиппс” в Каунас, к мастеру, который чуть ли не задарма починит приемник, кто в шутку ручался, что за любую хорошую новость будет платить не меньше, чем за марокканские финики, а кто тайком почем зря честил новое начальство, повинное в том, что и лампы перегорели, и цейлонского чая не стало, и Хацкель Брегман занемог.
Наследников у Хацкеля в Мишкине не было; его жену Годл прошлым летом хватил удар, а оба сына еще до прихода Красной Армии перебрались за океан в Америку, и устройством похорон занималась его родственница – шумная, большеротая белошвейка Миреле, которая при жизни Брегмана с ним, скупердяем, почти не разговаривала.
Договорившись с Данутой-Гадассой и погребальным братством, она выбрала место и время погребения – в воскресенье, пополудни.
Никакого завещания Хацкель не оставил, и было решено похоронить его на пригорке, рядом с ее родителями, тоже Брегманами, хотя он никогда не согласился бы лежать вместе с ними, но от мертвых никто согласия и не требует. Положили – и лежи себе смирненько.
– Мог бы хоть немного денег на памятник оставить, – жаловалась
Миреле на скаредного лавочника.
– Не переживай. Иаков какой-нибудь камень ему подберет, – морщась, со скрытой укоризной сказала Данута-Гадасса. – Будет и у Хацкеля памятник. Я это ему обязательно передам.
– Кому? – выпучила глаза Миреле.
– Хацкелю. Покойники, как и живые, всегда радуются хорошим новостям.
Перед каждыми похоронами ее охватывало странное волнение. За тридцать с лишним лет общения с мертвыми Данута-Гадасса не только не разучилась сочувствовать любому горю и прибавлять к нему лишнюю слезу, но и, сострадая, не прятала своей затаенной и непредосудительной радости от того, что похороны хоть как-то развеивали ее одиночество, она встречалась с большим числом своих знакомых, с которыми приятно было перемолвиться одним-другим словечком. Проститься с Хацкелем Брегманом придет, наверно, все местечко. Для большинства жителей (а евреи в Мишкине и составляли большинство) он был добрым вестником и утешителем, они прощали ему вранье и вымыслы потому, что ничто так не унижало и не корежило их душу, как повседневная, осточертевшая всем правда.
В предпохоронный день Данута-Гадасса ходила по пятам за Иаковым, следила, чтобы он никуда не отлучался, – в ее ли годы рыть могилы, когда руки не слушаются и суглинок тверже железа?..
– Только не вздумай никуда отлучаться, – предупредила она Иакова, имея в виду Элишеву. – Ты должен для господина Брегмана приготовить удобное жилище. Он ведь туда не на год переезжает.
– Постараюсь.
В ту субботу он и впрямь остался дома, не ускакал к Элишеве, а, когда на небе зажглась первая будничная звезда, перекинул через плечо лопату, поднялся на пригорок, поплевал на заскорузлые руки и стал размашисто, с каким-то задором и необычным рвением строить для
Брегмана удобное жилище.
Вырыв яму, он затопил сложенную им баньку, попарился, переоделся в чистое белье и лег спать, чтобы не сердить зевками тех, кто придет проводить местечкового вестника в последний путь. Данута-Гадасса собиралась что-то ему сказать – то ли про памятник, на который покойный не оставил денег, то ли про лошадь, которая своим протяжным и тоскливым ржанием пугает мертвых, но одумалась, зажгла не догоревшую свечу и, глядя на трепетное и недолговечное, как бабочка-однодневка, пламя, начала прясть по-польски еженощную молитву и по ее нитям, как по крутым ступеням, подниматься ввысь, к чертогам Бога; нити рвались, Данута-Гадасса их лихорадочно соединяла, и, когда до чертогов и Его сердца было уже рукой подать, вдруг за окном, в июньском небе, усыпанном звездами, раздался невообразимый гул, вслед за ним страшный грохот, и вверх взметнулось другое пламя, которое накрыло своей кровавой багровостью и звезды, и землю.
Данута-Гадасса в испуге на цыпочках – она не отдавала себе отчета, почему в таком грохоте привстала на цыпочки – добрела до комнаты сына и, задыхаясь, заглушая в себе крик, запричитала:
– Иаков! Иаков!
– Что случилось? – спросонья буркнул тот, подумав, что ее вконец доконала бессонница.
– Ты что, ничего не слышишь? Встань и подойди к окну…
Иаков заворочался на кровати, прислушался и, ослепленный грохочущим заревом, бросился в одном исподнем белье во двор.
Взрывы не прекращались.
Весь в белом, как привидение, Иаков стоял посреди двора и не сводил глаз с по-дожженного неба.
– Война, – сказал он.
Постоял, погладил привязанную к подгнившему колу лошадь и, вернувшись в избу, потерянно добавил:
– Танковый полигон бомбят… в Юодгиряе…
– Там, где Элишева? – Данута-Гадасса смекнула, что его сейчас заботили не русские танки, а дочь Гедалье Банквечера.
– Как только кончатся похороны Брегмана, я к ней подскочу.
– Если эти похороны вообще состоятся.
– А что, разве в войну мертвых не хоронят?
– Хоронят, хоронят, – промолвила Данута-Гадасса и вспомнила слова
Ломсаргиса, хозяина хутора, про немцев, которые скоро придут. Может статься, что Хацкель Брегман окажется последним евреем, похороненным на здешнем кладбище. – Я слышала, что в Польше немцы уже все еврейские кладбища заперли для живых и мертвых на железный засов.
Возьмут и наше запрут… Куда мы, Иаков, с тобой тогда денемся? И что с нами будет? А?
– Тебя, мама, немцы не тронут. Ты ведь…
Она не дала ему договорить.
– Что ты, сынок, знаешь обо мне? Что ты знаешь? Я сама не знаю, кто я… Забыла… Полька? Еврейка? Белоруска? Бабочка, летящая на огонь?
Божья коровка? – Данута-Гадасса тяжело отдышалась и вдруг запела: -
“Божья коровка, полети на небо…”
Ближе к полудню немецкие самолеты с крестами на бортах присвоили себе над Мишкине и небеса. Со звериным ревом они проносились над местечком, в котором, кроме евреев и нового, красного начальства, никакой другой мишени у них не было. Один из них спикировал и то ли для разминки, то ли для острастки сбросил бомбу на мебельную фабрику сосланного к белым медведям Брухиса. Раздался такой взрыв, что, казалось, его эхо отозвалось и на каторжных просторах Сибири. Потом все затихло. Слышно было только, как старомодно звенит костельный колокол, возвещая об окончании молебна.
– Что-то похоронщики задерживаются, – забеспокоилась Данута-Гадасса.
– Кто же торопится на кладбище? – сказал Иаков. – Что и говорить, не повезло Брегману – в такое время людям не до мертвых. Все думают о себе… о том, как бы в этой передряге выжить.
– Не все так думают, – возразила Данута-Гадасса, вглядываясь в кривую ленту проселка, расстеленную до самого местечка. – Твои глаза, Иаков, еще, слава тебе, Господи, не выедены слезами, они видят лучше моих. Глянь-ка на проселок! Кажется, везут.
– Вроде бы везут.
Ему не терпелось поскорей засыпать могилу, красиво огладить лопатой глиняное жилище Брегмана и, вскочив на застоявшуюся во дворе лошадь, умчаться в Юодгиряй, чтобы узнать, что с Элишевой, – ведь от танкового полигона и запасной летной полосы Красной Армии владения
Чеславаса Ломсаргиса отделяла только узкая межа конопляника.
Вскоре похоронную процессию разглядела и Данута-Гадасса.
Брегмана привез на своей вместительной телеге балагула Пинхас Косой, доставлявший Хацкелю в лучшие для обоих годы из Каунаса те самые ходкие колониальные товары, которыми тот успешно торговал.
Если не считать дальней родственницы покойного белошвейки Миреле, которая чуть ли не с удовольствием беспрестанно роняла крупные, как ягоды смородины, слезы, многомудрого и терпеливого рабби Гилеля, нервно крутившего вьющиеся пейсы, и деловитой троицы из местного похоронного братства, у могилы собрались единицы – даже на кворум – на миньян нехватало. Да это и неудивительно: немецкие самолеты, молнией пролетавшие над Мишкине, отпугнули большинство покупателей и слушателей Брегмана, озабоченных не столько тем, как проводить в последний путь почтенного лавочника, сколько при первой же надобности, а надобность такая, пожалуй, уже давно у всех созрела, найти путь к своему спасению, ибо, если немцы одолеют русских, ни одному еврею в местечке, да что там в местечке – во всей Литве несдобровать.
Рабби Гилель нараспев, с горестными паузами и обертонами начал творить заупокойную молитву не только по усопшему Брегману, но, похоже, по его “Филипсу” с добрыми и недобрыми новостями, по колониальным и отечественным товарам, по его исправным плательщикам и неисправимым должникам, по его соседям, упокоившмися под этими соснами, и – о, кощунство! – по всему местечку, которое скоро некому будет отпевать. Голос его звучал как никогда пронзительно и прощально, и, когда он замолк, никто не тронулся с места.
Через минуту все как будто опомнились, завозились, заохали, Миреле поспешила еще раз окропить холмик своими неиссякаемыми слезами, и похоронщики медленно и скорбно двинулись к выходу.
– Пшиходзи, пани, чиенжки часы (Приходят, пани, тяжелые времена), – на прощание по-польски сказал Дануте-Гадассе рабби Гилель. -
Особенно для нас – евреев.
– Куда же смотрит Бог? Он что, своих чад не любит? Избрал вас из всех народов – и не любит? – съязвила Данута-Гадасса. – Разве ему угодны войны… убийства?..
Глаза рабби Гилеля округлились, налились непривычной печалью; он не нашелся, что ответить, словно был повинен во всех несчастьях мира, и стал жалостливо оглядывать всех своих сородичей, пока балагула
Пинхас Косой не взял его под руку и не повел к своей фуре. Пройдя несколько шагов, рабби Гилель неожиданно обернулся и громко произнес:
– Я слишком мал и ничтожен, чтобы беспокоить Вседержителя своими вопросами или давать Ему какие-нибудь советы, хотя порой, как всякому еврею, мне очень, очень хочется это сделать…
Он поклонился кладбищу и взобрался вместе с всё еще хлюпающей носом
Миреле и двумя старухами, не пропускавшими ни одних похорон, в телегу.
Такого короткого и скоротечного прощания с умершим Данута-Гадасса не упомнит. Только рабби Гилель и плаксивая Миреле во время похорон никуда не торопились. А троица из похоронного братства делала друг другу какие-то знаки – мол, сами знаете, что творится, надо спешить домой, рабойсай (господа), к женам и детям.
Переминался с ноги на ногу и рослый Иаков, косясь на лошадь, которая то и дело своим заливистым ржаньем умаляла и заземляла торжественность заупокойной молитвы и требовала сочувствия и овса.
– Я, мам, поехал, – сказал Иаков, когда кладбище опустело.
– Но ты же ничего не ел.
– Элишева накормит… Ложись отдохни…
Говорливость матери раздражала его. Зная ее обидчивость, Иаков никогда не прерывал ее, слушал с натужным вниманием и сам невольно был вынужден произносить уйму ненужных и бессмысленных слов. Обычно он обходился их крайне малым запасом – хмыкал, мотал головой, сочувственно вздыхал, морщился или в ответ улыбался; слова не доставляли ему никакой радости. Все лучшее в человеке, на взгляд
Иакова, таилось в молчании и сберегалось, как деньги в Еврейском банке, и поэтому он всегда равнялся не на говорунов, подобных его брату-краснобаю Арону, а на кладбищенские сосны и надгробья, суровые и безмолвные, которые под корой и в камне хранили то, что ни на одном языке не выскажешь.
– Послушай… Я тебя долго не задержу. Мне в голову пришла вот какая мысль: что если ты там пока на какое-то время останешься?
– Где?
– В деревне. У Элишевы… Сейчас, по-моему, тебе лучше никому не мозолить глаза. Все равно, как я чувствую, никого уже на кладбище хоронить не будут. – Она помолчала и, сбиваясь на скороговорку, продолжала: – Меня, как ты сказал, не тронут. Для евреев я никогда не была еврейкой, а уж для немцев и подавно не буду. А ты…
– А ты думаешь, что в деревне я перестану им быть? Еврей везде еврей. И потом немцы пока только в небе…
– Скоро будут и на земле… Как в Польше. Я еще в прошлом году говорила, что ангел смерти к нам уже летит. Вот он и прилетел.
– Ладно, вернусь, поговорим. Отдыхай, – бросил он и зашагал к призывно трубившей лошади.
Надо было и впрямь отдохнуть, прилечь, растянуть опухшие, гудом гудевшие ноги, закрыть глаза, может, уснуть, но Данута-Гадасса вдруг спохватилась, что сегодня годовщина со дня смерти бедного Эфраима, единственного ее и Банквечера внука, и что на кладбище придет и невестка Рейзл, и ее отец – Гедалье Банквечер. Они всегда приходят в этот ужасный день. Боже ж ты мой, как она могла об этом забыть?!
Гедалье Банквечер прислонится к высаженной Иаковом молодой, стройной туе и, раскачиваясь из стороны в сторону, начнет хлюпающим от слез и самым большим в местечке носом долбить, как дятел, ствол, а Рейзл опустится на колени, сперва смахнет тряпкой с надгробья пыль, погладит рукой каждую буковку в имени и фамилии на камне и, пока не соберет все упавшие на плиту хвоинки и не рассыплет корм для птичек, поющих Эфраиму колыбельную, не отлепится от земли, похитившей у нее сразу же после родов (не за грехи ли мужа?) только что родившегося сына…
Данута-Гадасса на могилу внука приходила каждый день и, озираясь, нет ли кого вокруг, принималась тихонько напевать Эфраиму что-то по-польски или рассказывать сказки. Иногда к ней присоединялась любопытная коза, которая своим меканием как бы подтверждала достоверность их счастливых концовок; прилетали пчелы и шмели, которые усыпляли своим жужжанием и сказочницу-сумасбродку, и
Эфраима. Данута-Гадасса верила, что младенцы, не успевшие сказать
“мама”, не умирают, что они растут под землей, как трава и корни, слышат, как шумят деревья и щебечут птицы, и даже могут отзываться.
Она в полночь не раз слышала их голоса, а голосок внука звучал четче и различимей, чем все остальные.
– Ты меня, Эфраим, слышишь? – бывало, спрашивала она, и тут же пчелы и шмели переставали жужжать, коза мекать, вороны каркать, и в наступившей тишине, как вспугнутый вальдшнеп, взмывал к верхушкам сосен звонкий дискант внука…
Против своего обыкновения невестка Рейзл и сват Гедалье Банквечер пришли под вечер.
Побывав на могиле Эфраима, они, как и велит древний обычай, помыли у ржавого рукомойника руки и проследовали за Данутой-Гадассой в избу.
Радушная хозяйка усадила невестку и свата за стол, поставила крынку козьего молока, баночку свежего цветочного меда, ломтями нарезала хлеб, но Банквечеры – как она их ни уговаривала – к еде не притронулись.
– Простите, – сказала невестка. – Мы только на минуточку.
– Хоть меду отведайте. Прямо из ульев.
– Некогда… В Мишкине все с ума сошли. Содом и Гоморра. Одни бегут куда глаза глядят, другие ликуют и достают из клетей припрятанное впрок оружие, – объяснил портной.
– Достают оружие? – удивилась Данута-Гадасса.
– Русские власти в одно мгновенье испарились, а мой бывший подмастерье Юозас, такой смирный и тихий парень, по улицам с обрезом ходит…
– Надо было тебе, Рейзл, вместе с Ароном в Москву поехать, – желая продлить разговор и услышать что-то о старшем сыне, вставила
Данута-Гадасса.
– А что Москва? Неприступная крепость? Помяните мое слово, немцы и до нее доберутся. Дошли же они без боя до Парижа, – прошамкал
Гедалье Банквечер.
– А что Арончик пишет? – свернула в другой, безопасный, переулок хозяйка.
– Пишет, что доволен… что успевает в учебе… ходит в театр… хвастается, что видел Сталина, – без всякого восторга перечислила все успехи мужа Рейзл.
– Сталина видел? – не поверила Данута-Гадасса.
– На первомайском параде. Когда его училище проходило мимо трибуны,
Сталин как будто бы помахал рукой и нашему Арончику, – объяснил
Банквечер и, кряхтя, грузно поднялся из-за щербатого стола.
На Дануту-Гадассу помахивания Сталина никакого впечатления не произвели. Ее больше обрадовало то, что Арон доволен, что находится вдали от войны, в Москве, до которой немцы несмотря на все дурные пророчества свата вряд ли доберутся. Это до Мишкине два шага, только переплыви Неман, и ты уже в местечке возле костела или на рыночной площади возле лавки Брегмана.
На третий день войны, незадолго до прихода передовых немецких частей в Мишкине Данута-Гадасса из засиженного мухами кухонного окна увидела вооруженного незнакомца с белой повязкой на рукаве. Он по-хозяйски сновал между могилами и как будто что-то искал.
Выйдя на крыльцо, она напрягла зрение и, узнав в незнакомце бывшего подмастерья Гедалье Банквечера Юозаса, как стояла с кочергой в руке, так с ней и двинулась ему навстречу.
Юозас внимательно разглядывал надгробья и постукивал по ним концом своего обреза, словно испытывал их прочность.
– Ты что тут, Юозас, ищешь? – спросила Данута-Гадасса, пытаясь усмирить свое расшалившееся сердце. – Кого решил проведать на кладбище?
– Хорошие, говорю, камни… – спокойно ответил гость, достал из кармана медный портсигар и, чиркнув замусоленной зажигалкой, закурил папиросу.
– Тут у нас не курят! – одернула его Данута-Гадасса.
– Мне можно. Я не еврей. – Он смачно затянулся, нарочно выдул изо рта белое облачко и повторил: – Хорошие, говорю, камни. Еще вполне могут пригодиться. Зачем такому богатству зря пропадать?
– Ты что, сюда за камнями пришел? – поддела его Данута-Гадасса. Еще вчера она бы с ним не церемонилась и, не раздумывая, огрела бы
Юозаса по его тощей заднице кочергой, но, зацепившись взглядом за обрез, сдержала себя.
– Этими камнями целую улицу можно в местечке вымостить. Они ведь евреям уже никогда не понадобятся.
Данута-Гадасса поняла его намек.
– Эти камни Богу нужны.
– А ихнего Бога уже тоже никогда в Мишкине не будет. Тут останется только наш Бог.
От Юозаса несло самогоном, но он не был пьян, твердо стоял на ногах и говорил, не угрожая, даже с показной приязнью. Как-никак не один год портняжил у свата Гедалье Банквечера, в подпитии не буянил, трезвый голоса не возвышал, если о чем-то просил, то только шепотком, если отказывался – шепотком, чтобы никого не злить, и, хваля себя за выдержку и хитроумие, нежно поглаживал свою раннюю, розовую лысину.
– Что делать с камнями – более-менее ясно. А вот с Иаковом? – Он погладил свою лысину, уставился на кочергу и осведомился: – Правда, я что-то тут твоих сынков не вижу… Сбежали в Россию, бросили тебя, гойку, на произвол судьбы?
– Арон в Москве, – с каким-то мстительным злорадством сообщила
Данута-Гадасса. – А Иаков? Понятия не имею. Сам знаешь, куда коты бегают, когда приспичит. К кошкам…
– К кошкам, – передразнил ее Юозас. – У евреев врать научилась, – сказал он и снова закурил.
– А ты чему научился у них? Стоило ли тебе столько лет учиться шить, чтобы потом по улицам с обрезом шастать?
– А стоило ли твоему Арону у того же Банквечера за швейной машинкой штаны просиживать, чтобы людей в Сибирь вывозить? – вспылил Юозас.
Данута-Гадасса промолчала, хотя удар оказался куда чувствительней, чем она ожидала, и, пересилив себя, выдохнула: – Что Иакову передать?
– Ничего. Надо будет – найдем и его, и его кошку. Не к литовке же он бегает…
Юозас повернулся и, весело напевая себе под нос песенку про сердцеедов-уланов, ехавших мимо придорожной корчмы и положивших глаз на красавицу-шинкарку, медленно и чинно зашагал к кладбищенским воротам с кудлатыми, вырезанными стариком Эфраимом деревянными львами, которые дни напролет рычали на рыскающую по кладбищу смерть.
Данута-Гадасса долго смотрела ему вслед – в сутулую спину, пока она не скрылась за курганом, по преданию, насыпанным воинами великого князя Витовта, который милостиво разрешил евреям селиться в литовском княжестве.
Машинально сгребая кочергой игольчатую хвою у могилы утопленника
Цалика Брухиса, Данута-Гадасса думала о своих сыновьях – Ароне и
Иакове; о своей невестке Рейзл и об Элишеве, не успевшей перебраться в Палестину; о вооруженном подмастерье Юозасе, которому для мощения улиц так приглянулись кладбищенские камни; о себе, брошенной всеми на произвол судьбы, и о Боге, который в отличие от них все-таки останется в Мишкине, ибо, отверженный и преданный живыми, Он никогда не оставляет мертвых.
Во дворе замекала коза.
– Иду, иду! – успокоила свою любимую животину Данута-Гадасса и заторопилась за ведерком, чтобы подоить ее, беднягу.
– М-э-э-э-э…