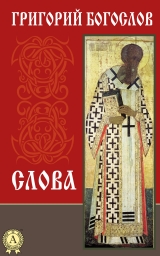
Текст книги "Слова"
Автор книги: Григорий Богослов
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Так, братия, будем поступать и так вести себя, и разномыслящих, пока можно, будем принимать и врачевать как язву истины; страждущих же неисцельно станем отвращаться, чтобы самим не заразиться их болезнью, прежде нежели сообщим им свое здоровье. И Бог мира, всяк ум превосходящего, будет с нами, во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава во веки веков. Аминь.
Слово 7, надгробное брату Кесарию, сказанное еще при жизни родителей
Может быть, думаете вы, друзья, братья и отцы, любезные делом и именем, что я охотно приступаю к слову, желая слезами и сетованием сопроводить ушедших от нас или предложить длинную и витиеватую речь, каковыми многие услаждаются. И одни готовятся скорбеть и проливать со мной слезы, чтобы вместе с моим горем оплакать свое, какое у кого есть, и научиться скорби в страданиях друга; другие же надеются насытить слух и получить удовольствие, предполагая, что и само несчастье обращу в случай показать себя, как бывало со мной прежде, когда, кроме прочего, довольно избыточествовал я предметами слова и щедр был на сами слова, пока не воззрел к истинному и высочайшему Слову, не предал всего Богу, от Которого все, и взамен всего не приял Бога. Нет, не так обо мне разумейте, если хотите разуметь справедливо. Не буду более надлежащего плакать об умершем я, который не одобряю этого в других. Не стану и хвалить сверх меры и приличия; хотя слово для обладавшего даром слова и хвала для любившего особенно мои слова есть такой дар, который ему приятен и приличнее всякого дара, и не только дар, но долг, который справедливее всякого долга. Однако же пролью слезы и почту удивлением, насколько это оправдывает данный на то закон, ибо и это не чуждо нашему любомудрию, так как память праведника пребудет благословенна (Притч. 10:7). Над умершим пролей слезы и, как бы подвергшийся жестокому несчастию, начни плач (Сир. 38:16), говорит некто, равно предотвращая нас и от нечувствительности и от неумеренности в скорби. Потом покажу немощь человеческого естества, упомяну и о достоинстве души. Как сетующим подам должное утешение, так скорбь от телесного и временного возведу к духовному и вечному.
Начну с чего для меня всего приличнее начать. Всем вам известны родители Кесаря; и видимы и слышимы вами их добродетели; вы подражаете и удивляетесь им, а незнающим, ежели есть таковые, рассказываете о них, избирая для этого – один то, другой другое. Да и невозможно было бы одному пересказать все; такое дело, сколько бы кто ни был неутомим и ревностен, требует не одного языка. Из многих же и великих качеств, похвальных в них (да не подумают, что преступаю меру, хваля своих!), одно всех важнее и не уступает прочим в знаменитости; это – благочестие. Скажу и то, что эти почтенные люди украшены сединами, равно заслуживают уважения и за добродетель и за престарелость. Тела их истощены летами, но души юнеют Богом.
Отец, бывший дикой маслиной, искусно привит к маслине доброй и до того напоен ее соками, что ему поручено прививать других, вверено врачевание душ. Сподобившись высокого сана и почтенный высоким председательством у людей этих, как второй Аарон или Моисей, приближается он к Богу, и другим, стоящим издали, преподает Божии глаголы. Он кроток, не гневлив, спокоен по наружности, горяч духом, обилен дарами видимыми, но еще более обогащен сокровенными. Но для чего описывать, кого вы сами знаете? Если и надолго простру слово, – не скажу, сколько бы надлежало и сколько каждый из вас знает и желает слышать. Лучше предоставить всякому думать по – своему, нежели, изображая чудо словом, убавить большую часть его.
А мать издревле и в предках посвящена Богу, не только сама обладает благочестием, как неотъемлемым наследием, но передает его и детям. Действительно, от святого начатка и примешение свято (Рим. 11:16). И она до того возрастила и приумножила это наследие, что некоторые (скажу и это смелое слово) уверены и уверяют, будто бы совершенства, видимые в муже, были единственно ее делом, и (что чудно) в награду за благочестие жены дано мужу большее и совершеннейшее благочестие.
Всего же удивительнее то, что оба они и чадолюбивы, и христолюбивы; вернее же сказать, больше христолюбцы, нежели чадолюбцы. Для них и в детях одно было утешение, чтобы прославлялись и именовались по Христе; под благочадием разумели они добродетель и приближение детей к совершенству. Они милосерды, сострадательны, многое спасают от тли, от разбойников и от миродержителя; сами из временного жилища переселяются в постоянное, и детям собирают драгоценнейшее наследие – будущую славу. Так достигли они маститой старости, равно уважаемые и за добродетель и за возраст, исполненные дней как преходящих, так и пребывающих. В том только не имеют они первенства между земнородными, в чем каждый из них препятствует другому стоять первым. Для них во всем исполнилась мера благополучия; разве иной исключит последнее событие, которое не знаю как назвать – испытанием ли, или Божиим смотрением. Но я назвал бы смотрением, потому что, предпослав одного из детей, который по возрасту мог скорее поколебаться, тем свободнее могут они сами отрешаться от жизни и со всем домом возноситься к горнему.
Все это говорено мной не с намерением восхвалить родителей, ибо знаю, что едва ли бы кто успел в этом, хотя бы на похвалы им посвятил и целое слово. Я хотел только из свойства родителей показать, какова должна быть добродетель Кесаря. Не удивляйтесь же и не почитайте невероятным, что при таких родителях явил он себя достойным таких похвал. Напротив, удивительно было бы, если бы, презрев домашние и близкие примеры, подражал он другим. И действительно, начало было таково, какое и приличествовало человеку, который имел благородное происхождение и обещал впоследствии жизнь превосходную. А середину сокращу: красота, величественность роста, во всем приятность и, как бы в звуках, стройность, – такие были преимущества в Кесарии, которым удивляться не наше дело, хотя для других и кажутся они немаловажными. Перейду же к последующему, о чем трудно и умолчать, хотя бы захотел.
В таких правилах воспитанные и наставленные по достаточном упражнении здесь (в Назианзе – ред.) в науках, в которых, по быстроте и высокости дарований (трудно и сказать, сколько) превзошел он многих (могу ли без слез вспомнить об этом и от горести против обещания не изобличить себя в нелюбомудрии?), когда наступило время оставить нам родительский дом, – мы в первый еще раз разлучились друг с другом. Я, по любви к красноречию, остался в процветавших тогда палестинских училищах, а он отправился в Александрию, в этот город, который и тогда, и доныне был и почитался, неточным местом всякого образования.
Какое же из совершенств его наименую первым, или важнейшим, о чем умолчу без величайшего ущерба слову? Кто доверчивее его был к наставникам? Кто дружелюбнее со сверстниками? Кто больше его избегал сообществ и бесед с неблагонравными? Кто вступил в теснейшее общение с людьми отличнейшими, как с чужеземцами, так и из соотечественников наиболее одобряемыми и известными? Он знал, что короткое обращение с людьми немало способствует к навыку и в добродетели и в пороке. А за такие качества, кто более его отличаем был начальством, уважаем в целом городе? И хотя, по обширности города, все оставались в безвестности, однако же, кто был известнее его целомудрием, славнее умом? Какого рода наук не проходил он? Или, лучше сказать, в какой науке не успел более, нежели как успевал другой, занимаясь ею одной? Кто, не только из сверстников по учению и летам, но из старших возрастом и начавших учиться прежде него, мог с ним, хотя несколько, сравниться?
Он изучал все науки как одну, и одну как все. Быстрых по дарованиям сверстников побеждал трудолюбием, и неутомимых в занятиях – остротой ума; вернее же сказать, скорых превосходил скоростью, трудолюбивых – прилежанием, а преимуществовавших в том и другом – и тем и другим. Из геометрии, из астрономии и из науки, для других опасной (астрологии – ред.), избирал он полезное, сколько нужно, чтобы, познав стройное течение и порядок небесных тел, благоговеть перед Творцом; а что в этой науке есть вредное, того избегал, и движению звезд не подчинял ни существ, ни явлений, как делают иные, сослужебную себе тварь поставляющие наряду с Творцом; напротив, само движение звезд, как и все прочее, приписывал он, сколько должно, Богу. Что же касается науки чисел и их отношений, также чудного врачебного знания, которое углубляется в свойство естеств и темпераментов и в начала болезней, чтобы, исторгая корни, отсекать и ветви, то найдется ли человек столько невежественный, что дал бы Кесарию второе место, а не предпочел лучше стать первым после него и иметь совершенство между вторыми? И все это не осталось незасвидетельствованным; напротив, Восток, Запад и все страны, где только впоследствии бывал Кесарии, служат знаменитыми памятниками его учености.
Когда же в единую душу свою, как в большой корабль, нагруженный всякими товарами, собрав все добродетели и сведения, отправился он в свой родной город, чтобы и других наделить сокровищами своей учености; тогда случилось нечто удивительное. И как воспоминание об этом меня особенно восхищает, а может быть и вам доставит удовольствие, то не излишним будет пересказать о том кратко. Мать в материнских и чадолюбивых молитвах своих просила Бога, чтобы ей обоих нас, как отпустила вместе, так и возвратившимися увидеть вкупе. Ибо мы, когда бывали вместе, казались какой – то четой, если не для других, то для матери, достойной благожеланий и лицезрения, хотя теперь и разлучены по злобной зависти.[69]69
То есть дьявола, который, своей прелестью склонив прародителей к ослушанию, подверг всех нас осуждению и смерти.
[Закрыть] А тогда Бог, Который внемлет праведной молитве и награждает любовь родителей к благонравным детям, подвиг нас, без всякого с нашей стороны соумышления и соглашения, одного из Александрии, а другого из Греции, одного сушей, а другого морем, прибыть в одно время и в один город. Это была Византия, город первопрестольный ныне в Европе, в котором Кесарий через некоторое время приобрел такую славу, что ему предложены были отличия в обществе, знатное супружество и место в Сенате. Даже по общему приговору отправлено к великому Царю[70]70
Констанцию, которого не было тогда в Константинополе.
[Закрыть] посольство с прошением – первый из городов, если Царь желает сделать его действительно первым и достойным этого наименования, почтить и украсить первым из ученых мужей, а благодаря этому заставить, кроме прочего, говорить о Византии, что она, при иных преимуществах, изобилуя многими мужами, отличными в знании философии и других наук, имеет еще у себя врачом и гражданином Кесария. Но об этом довольно. А что с нами тогда встретилось, хотя казалось иным одной случайностью, не имевшей ни основания, ни причины, как и многое в нашей жизни приписывается случаю; однако же для боголюбивых ясно показывало не дело случая, но исполнение молитвы благочестивых родителей, по которой собираются к ним дети и с суши, и с моря.
Не умолчу и том прекрасном качестве Кесария, которое иным представляется, может быть, маловажным и не стоящим упоминания, но мне и тогда казалось и теперь кажется весьма важным, если только похвально братолюбие. И когда ни буду говорить о делах Кесария, не перестану причислять этого к первым совершенствам. В Византии, как сказал я, удерживали его почестями, и ни под каким предлогом не соглашались отпустить. Однако же превозмог я, во всем уважаемый и высоко ценимый Кесарием; я убедил его исполнить моление родителей, свой долг к отечеству, а также и мое желание; убедил продолжить путь, и притом вместе со мной, предпочесть меня не только городам и народам, почестям и выгодам, которые отовсюду обильно или уже лились к нему, или льстили надеждой, но едва и не самому Государю и его приказаниям. Что до меня, то с этого времени, отбросив всякое честолюбие, как тяжкое иго властелина или мучительную болезнь, решился я посвятить себя любомудрию и стремиться к горней жизни; или лучше сказать, такое желание началось во мне раньше, но образ жизни принят после. Кесарий же первые плоды учености посвятил своей родине, и своими трудами заслужив должное уважение, потом увлечен был желанием славы и, как меня уверял, желанием сделаться полезным для города. Он отправился к царскому двору, что мне не совсем нравилось и не по моему было расположению, ибо (извинюсь перед вами) для меня лучше и выше быть последним у Бога, нежели занимать первое место у земного царя. Однако же поступок Кесария не заслуживал и укоризны; ибо жизнь любомудренная как всего выше, так и всего труднее; она и возможна не для многих, а только для тех, которые призваны к этому высоким Божиим Умом, благопоспешествующим в благом предприятии. Но немаловажно и то, ежели кто, избрав второй род жизни, сохраняет непорочность и больше помышляет о Боге и о своем спасении, нежели о своей славе; кто, действуя на позорище этого мира, хотя принимает почести, как сень или личину разнообразного и временного, однако же сам живет для Бога и блюдет в себе образ, о котором знает, что получил его от Бога и за который обязан дать отчет Даровавшему. А я знаю, что таков точно был образ мыслей Кесария. Ему дается первое место между врачами; для чего не потребовалось и больших усилий, а стоило только показать ему свои сведения, или даже одну предварительную часть своих сведений. Вскоре включен он в число приближенных к Государю и получает самые высокие почести. Между тем предлагает высшим чиновникам пособия своего искусства безмездно, зная, что к возвышению всего вернее ведет добродетель и известность, приобретенная честными средствами. А благодаря этому далеко превзошел он славой тех, ниже которых был чином. Все любили его за целомудрие и поверяли ему свое драгоценнейшее (здоровье – ред.), не требуя с него Гиппократовой клятвы; даже простодушие Кратесово в сравнении с Кесариевым было ничто. Всеми он уважаем был более и того, чего стоил; и хотя ежедневно удостаивался важных отличий, однако же и сами Государи, и все первые после них люди в государстве, почитали его достойным впредь еще больших почестей. Всего же важнее то, что ни слава, ни окружающая роскошь не могли повредить благородства души его. Напротив, при многих и важных отличиях, одно только достоинство считал он первым, – и быть и именоваться христианином; а все прочее, в сравнении с этим, казалось ему игрушкой и суетой. Другим предоставлял он забавляться тем, как бы в театре, который наскоро строят и потом разбирают, или скорее ломают, нежели устанавливают; что и действительно видим в многочисленных переворотах жизни и в переменчивости счастья, так что подлинное и несомненно постоянное благо одно, именно благочестие. Таковы были плоды Кесариева любомудрия и под хламидой (сенаторской одеждой – ред.)! В таких мыслях он жил и умер, явив и доказав, по внутреннему человеку, перед Богом еще большее благочестие, нежели какое было видимо людьми.
Но если должно мне обойти молчанием другие его дела, покровительство сродникам, впадшим в несчастье, презрение к надменным, уважение к друзьям, свободу перед начальниками, подвиги за истину, весьма часто и за многих сочиняемые слова, не только сильные доводами, но отличающиеся благочестием и одушевлением, то вместо всего этого нужно сказать об одном знаменитейшем из всех его дел.
Рассвирепел на нас царь (Юлиан Отступник – ред.) злоименный, он вознеистовствовал прежде на себя, отвергшись веры во Христа, а потом стал уже нестерпим и для других. Не смело, не по примеру других христоненавистников, передался он в нечестие, но прикрывал гонение личиной кротости, и подобно тому пресмыкающемуся змию, который владел его душой, всякими ухищрениями завлекал несчастных в одну с собой бездну. Первой же из его хитростей и козней было – страждущих за христианство наказывать, как злодеев, чтобы нам не иметь и чести Мучеников, ибо и в этом завидовал христианам этот великий муж. А вторая лесть состояла в том, что делу своему придавал имя убеждения, а не насилия; чтобы произвольно уклоняющимся в нечестие тем больше было стыда, чем меньше предлежало им опасности. И он привлекал кого деньгами, кого чинами, кого обещаниями, кого разного рода почестями, предлагая их в глазах всех не по – царски, но совершенно раболепно. На всех же старался действовать очаровательностью речей и собственным примером. Кроме многих других, делает он покушение и на Кесария. Какое тупоумие и даже безумие – надеяться, что уловит Кесария, моего брата и сына таких родителей!
Да позволено будет продлить слово и насладиться повествованием, как услаждались присутствовавшие при этом чудном деле! Доблестный муж, оградившись знамением Христовым и вместо щита прикрывшись великим словом, предстает перед сильным по оружию и великим по дару слова, не теряет твердости, слыша льстивые речи, а является, как борец, готовый подвизаться словом и делом против сильного в том и другом. Итак, поприще открыто, вот и подвижник благочестия! С одной его стороны Подвигоположник Христос, вооружающий борца Своими страданиями, с другой – жестокий властелин, то обольщающий приветливыми речами, то устрашающий обширностью власти. И зрителей также два рода: одни остаются еще в благочестии, другие увлечены уже властелином; но те и другие внимательно наблюдают, какой оборот примет дело; и мысль, кто победит, приводит их в большее смущение, нежели самих ратоборцев. Не убоялся ли ты за Кесария, не подумал ли, что успех не будет соответствовать его стремлению? Но не сомневайтесь: победа со Христом, победившим мир. Всего более желал бы я пересказать теперь, что было тогда говорено и предлагаемо; потому что в этом споре немало расточено тонких оборотов и красот, которые не неприятно было бы для меня возобновить в памяти. Но это вовсе не приличествовало бы времени и предмету слова. Кесарий решил все словоухищрения его, отверг скрытные и явные обольщения, как детские игрушки, и громко возвестил, что он христианин и будет христианином: однако же Царь не удалил его от себя совершенно. Ему сильно хотелось пользоваться и хвалиться ученостью Кесария; и тогда произнес он следующие, часто повторяемые всеми слова: «Благополучный отец! злополучные дети!» Ибо этим поруганием он благоволил почтить вместе и меня, известного ему по афинскому образованию и благочестию.
Между тем Кесарий, сберегаемый до второго представления к Царю, которого гнев Божий благовременно вооружил против персов, возвратился к нам, как блаженный изгнанник, как победоносец, не обагренный кровью и прославленный бесчестием более, нежели блистательными отличиями. Такая победа, по моему суждению, гораздо выше и почтеннее могущества Юлиана, высокой багряницы и драгоценной диадемы. И повествованием об этом превозношусь я более, нежели как стал бы превозноситься, если бы Кесарий разделял с ним целое царство. Если он уступает злым временам, то делает по нашему закону, который повелевает бедствовать за истину, когда потребуют обстоятельства, и не изменять благочестию из робости, но также и не вызываться, пока можно, на опасность, как страшась за свою душу, так щадя и тех, которые повергают нас в опасность.
Когда же мрак рассеялся, далекая страна прекрасно решила дело, оружие очищенное (Пс. 7:13) низложило нечестивца, а христиане снова восторжествовали; нужно ли говорить, с какой тогда славой и честью, при каких и скольких засвидетельствованиях, принят опять к царскому двору Кесарий, как будто он через это оказывал, а не сам получал, милость? Новая почесть заняла место прежней. И хотя государи менялись по времени однако же доброе мнение о Кесарии и его первенство при дворе было непоколебимо. Даже государи препирались между собой в том, кто из них более ласкал Кесария и кто имел больше права назвать его искреннейшим другом и приближенным. Таково было благочестие Кесария, и таково воздаяние за благочестие! Пусть слышат об этом и юноши, и мужи, и пусть той же добродетелью снискивают подобную знаменитость все, которые домогаются ее и почитают ее частью благополучия! Только плод добрых трудов славен (Прем. 3:15).
Но вот еще чудное событие в жизни Кесария, которое служит сильным доказательством богобоязненности, вместе и его собственной, и родителей его. Кесарий проживал в Вифинии и был начальником по такой части, которая близка к самому государю. Он был хранителем царской казны и имел под своим смотрением сокровища. А этим государь пролагал для него путь к высшим чинам. Но во время недавнего в Никее землетрясения, которое, как сказывают, было ужаснее прежних и почти всех застигло и истребило вместе с великолепием города, из знатных жителей едва ли не один, или весьма с немногими, спасается от гибели Кесарий. И спасение совершилось невероятным для него самого образом: он был покрыт развалинами и понес на себе только малые признаки опасности, насколько нужно было для него, чтобы принять страх наставником высшего спасения, и оставив служение непостоянному, из одного царского двора поступив в другой, совершенно перейти в горнее воинство. Он сам встретился с такой мыслью и ревностно возжелал ее исполнения, как уверял меня в письмах своих; а я воспользовался случаем присоветовать то, к чему и прежде не переставал увещевать, сожалея, что великие его дарования обращены на худшее, что душа столь любомудрая погружена в дела общественные и уподобляется солнцу, закрытому облаком.
Но спасшись от землетрясения, Кесарий не спасся от болезни, потому что был человек: и первое принадлежало ему собственно, а последнее было ему общим со всеми; первым одолжен он благочестию, а в последнем действовала природа. Так утешение предшествовало горести, чтобы мы, пораженные его смертью, могли похвалиться чудным его спасением в то время. И теперь сохранен для нас великий Кесарий; перед нами драгоценный прах, восхваляемый мертвец, переходящий от песнопений к песнопениям, сопровождаемый к алтарям мученическим, чествуемый и святыми руками родителей, и белой одеждой матери, заменяющей в себе горесть благочестием и слезами, которые препобеждаются любомудрием и псалмопениями, которыми укрощается плач; перед нами приемлющий почести, достойные души новосозданной, которую Дух преобразовал водой.
Таково тебе, Кесарий, погребальное от меня приношение! Прими начатки моих речей, ты часто жаловался, что скрываю дар слова, и вот, на тебе надлежало ему открыться! Вот от меня тебе украшение, и знаю, что оно для тебя приятнее всякого другого украшения! Не принес я тебе шелковых волнующихся и мягких тканей, которыми ты не увеселялся и прежде, потому что украшал себя одной добродетелью. Не принес и тканей из чистого льна, не возлил многоценных благовоний, которые ты и при жизни отсылал в женские чертоги и которые благоухают не долее одного дня; не принес чего – либо другого, столь же ничтожного и уважаемого людьми ничтожными; так как все это, вместе с прекрасным телом твоим, покрыл бы ныне этот холодный камень. Прочь от меня с теми языческими игрищами и представлениями, которые совершались в честь несчастных юношей и при которых за маловажные подвиги предлагались маловажные награды! Прочь с теми обрядами, в которых насыпями, приношением начатков, венцами и свежими цветами упокоивали усопших людей, покоряясь более отечественному закону и неразумию горести, нежели разуму! Мой дар – слово, оно, переходя далее и далее, достигнет, может быть, и будущих времен и не попустит, чтобы переселившийся отсюда совершенно нас оставил, но сохранит его навсегда для слуха и сердца, явственнее картины представляя изображение возлюбленного. Таково мое приношение! Если оно маловажно и не соответствует твоим достоинствам, то по крайней мере благоугодно Богу, как соразмерное силам. Притом, мы воздали часть, а другую, кто останется из нас в живых, воздаст при годичном чествовании и поминовении.
А ты, божественная и священная глава, войди на небеса, упокойся в недрах Авраамовых (что ни знаменовали бы они), узри лик Ангелов, славу и великолепие Блаженных, или лучше, составь с ними один лик и возвеселись, посмеиваясь с высоты всему здешнему, так называемому, богатству, ничтожным достоинствам, обманчивым почестям, заблуждению чувств, превратностям этой жизни, беспорядку и недоразумениям как бы среди ночного сражения! И да предстоишь Великому Царю, исполняясь горнего света, от которого и мы, приняв малую струю, сколько может изобразиться в зеркале и гаданиях, да взойдем наконец к Источнику блага, чистым умом созерцать чистую истину и за здешнее ревнование о добре обрести ту награду, чтобы насладиться совершеннейшим обладанием и созерцанием добра в будущем! Ибо это составляет цель нашего тайноводства, как прорицают и Писание и богословы.
Что остается еще? Предложить исцеляющие слова скорбящим. Для плачущих действительнейшее пособие то, которое подано сетующим с ними. Кто сам чувствует равную горесть, тому удобнее утешать страждущих. Притом, слово мое обращается особенно к тем, за которых было бы мне стыдно, если бы они не превосходили так же всех в терпении, как превосходят во всякой другой добродетели. Ибо они хотя больше всех чадолюбивы однако же больше всех и любомудры, и христолюбивы. Как сами всего более помышляют о переселении отсюда, так и детей научили тому же, или, лучше сказать, целая жизнь определена у них на помышление о смерти. Если же горесть омрачает мысли и, подобно гноетечению из глаз, не позволяет чисто рассмотреть, что должно, то да примут утешение старцы от юного, родители от сына, подававшие многим советы и приобретшие долговременную опытность – от того, кто сам имеет нужду в их советах. Не удивляйтесь же, если будучи юным, даю уроки старцам; и то ваше, если умею видеть иное лучше седовласых.
Сколько еще времени проживем мы, почтенные и приближающиеся к Богу старцы? Долго ли еще продлятся здешние злострадания? Непродолжительна и целая человеческая жизнь, если сравнить ее с Божественным и нескончаемым естеством. Еще более краток остаток жизни и, так сказать, прекращение человеческого дыхания, окончание временной жизни. Чем предварил нас Кесарий? Долго ли нам оплакивать его, как отшедшего от нас? Не поспешаем ли и сами к той же обители? Не покроет ли и нас вскоре тот же камень? Не сделаемся ли в скором времени таким же прахом? В эти же краткие дни не столько приобретем доброго, сколько увидим, испытаем, а может быть, сами сделаем худого; и потом принесем общую и непременную дань закону природы. Одних сопроводим, другим будем предшествовать; одних оплачем, для других послужим предметом плача, и от иных воспримем слезный дар, который сами приносили умершим. Такова временная жизнь наша, братия! Таково забавное наше появление на земле – возникнуть из ничего и, возникнув, разрушиться! Мы то же, что беглый сон, неуловимый призрак, полет птицы, корабль на море, следа не имеющий, прах, духовение, весенняя роса, цвет, временем рождающийся и временем облетающий. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет (Пс. 102:15); прекрасно рассуждал о нашей немощи божественный Давид. Он то же говорит в следующих словах: изнурил силы мои, сократил дни мои (Пс. 101:24), и меру дней человеческих определяет пядями (Пс. 38:6). Что же сказать вопреки Иеремии, который и к матери обращается с упреком, сетуя на то, что родился и притом по причине чужих грехопадений (Иер. 15:10)? Видел всяческое, говорит Екклесиаст; обозрел я мыслью все человеческое, богатство, роскошь, могущество, непостоянную славу, мудрость, чаще убегающую, нежели приобретаемую; неоднократно возвращаясь к одному и тому же, рассмотрел опять роскошь и опять мудрость, потом сластолюбие, сады, многочисленность рабов, множество имения, виночерпцев и виночерпиц, певцов и певиц, оружие, оруженосцев, коленопреклонения народов, собираемые дани, царское величие и все излишества и необходимости жизни, все, чем превзошел я всех до меня бывших царей; и что же во всем этом? Все суета сует, всяческая суета и томление духа (Еккл. 1:2,14), то есть какое – то неразумное стремление души и развлечение человека, осужденного на это, может быть, за древнее падение. Но сущность всего, говорит он, Бога бойся (Еккл. 12:13), здесь предел твоему недоумению. И вот единственная польза от здешней жизни – самим смятением видимого и обуреваемого руководствоваться к постоянному и незыблемому. Итак, будем оплакивать не Кесария, о котором знаем – от каких зол он освободился, но себя самих; ибо знаем, для каких бедствий оставлены мы и какие еще соберем для себя, если не предадимся искренно Богу, если, обходя преходящее, не поспешим к горней жизни, если, живя на земле, не оставим землю и не будем искренно последовать Духу, возводящему в горнее. Это прискорбно для малодушных, но легко для мужественных духом.
Рассмотрим еще и то: Кесарий не будет начальствовать, но и у других не будет под начальством; не станет вселять в иных страха, но и сам не убоится жестокого властелина, иногда недостойного, чтобы ему начальствовать; не станет собирать богатства, но не устрашится и зависти, или не повредит души несправедливым стяжанием и усилием присовокупить еще столько же, сколько приобрел. Ибо таков недуг богатолюбия, что не имеет предела в потребности большего и врачует себя от жажды тем, что непрестанно пьет. Кесарий не сложит новых речей, но за речи же будет в удивлении, не будет рассуждать об учении Гиппократа, Галена и их противников, но не станет и страдать от болезней, из чужих бед собирая себе скорби; не будет доказывать положений Евклида и Птолемея и Герона, но не станет и сетовать о надменных сверх меры невеждах; не станет показывать своих сведений в учении Платона, Аристотеля, Пиррона, Демокритов, Гераклитов, Анаксагоров, Клеанфов, Эпикуров, и еще не знаю кого из почтенных стоиков или академиков, но не будет и заботиться о том, как решить их правдоподобия. Нужно ли мне упоминать о чем – либо другом? Но что, конечно, всякому дорого и вожделенно, у него не будет ни жены, ни детей. За то ни сам не станет их оплакивать, ни ими не будет оплакиваем; не останется после других и для других памятником несчастья. Он не наследует имения, за то будет иметь наследников, каких иметь всегда полезнее и каких сам желал, чтобы переселиться отсюда обогащенным и взять с собой все свое. И какая щедрость! Какое новое утешение! Какое великодушие в исполнителях! Услышана весть, достойная общего слышания, и горесть матери истощается прекрасным и святым обетом – все, что было у сына, все его богатство, отдать за него в погребальный дар, и ничего не оставлять ожидавшим наследства.








