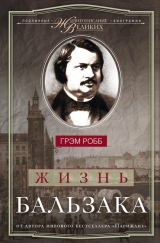
Текст книги "Жизнь Бальзака"
Автор книги: Грэм Робб
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Оба современника вспоминали о Бальзаке уже после его смерти. Но похоже, даже в юные годы, еще не став «тем самым Бальзаком», он производил на людей сильное впечатление. Многие считали его глупым и неуклюжим, оскорбительно или нелепо уверенным в себе, одновременно открытым и замкнутым. Почти все, кто знали его, вспоминают его черные, «магнетические» глаза – как будто они принадлежали другому человеку. Почти все воспоминания о молодом Бальзаке окрашены либо завистью, либо просто изумлением, что из Оноре вышел великий писатель: «Главный клерк был довольно жизнерадостным малым, который любил пошутить… “Знаете ли вы, что мы нашли в столе Бальзака? – спросил он меня однажды, расхохотавшись. – Книгу Монтеня! Бальзак читает Монтеня! Ха-ха-ха!” Через несколько месяцев я услышал, что Бальзак покинул контору, и главный клерк, снова в приступе гомерического хохота, сообщил мне: “Вы можете себе представить? Бальзак пишет в газетах! Он приходил и показывал нам свою статейку о какой-то бездарной постановке… Какая нелепость!..” Признаюсь, я склонен был ему поверить»126.
Оноре ближе сходился с пожилыми людьми. Гийонне де Мервиль был «симпатичным, остроумным человеком»127, предпочитавшим дело еде и напиткам. Он поддерживал отношения со своим «милым и славным учеником» и каждый год приглашал его на праздничный ужин, иногда соблазняя его тем, что специально для него пригласил «молодую красавицу»128. Бальзак посвятил своему бывшему наставнику «Случай из времен террора» (Un Épisode sous la Terreur). Отчасти ему труднее было заводить друзей среди сверстников потому, что он выработал для себя идеал дружбы: «С юности, в школе, я ищу… нет, не друзей, но друга. Я разделяю мнение Лафонтена, и мне еще предстоит найти то, что в таком ярком свете рисует мне мое требовательное и романтическое воображение»129.
Так семь лет спустя Бальзак убеждал в своей невинной преданности герцогиню д’Абрантес. Но в то время у него не было близких друзей еще по одной причине: он то и дело пытался раздразнить других или манипулировать ими. Один из клерков, Эдуар Монне, вспоминает, что по вечерам в конторе мэтра Пассе часто пили пунш или играли на музыкальных инструментах. Когда достали карты, Бальзак, как всегда, решил скаламбурить и спросил: «Монне, где твои моннеты?» И так до бесконечности. (Став музыкальным критиком, Монне сменит имя на Пола Смита.) Отец Бальзака подвергался такому же обращению. Оноре нравилось доводить его до белого каления, когда он притворялся, будто всерьез считает, что фигуры на китайских вазах и ширмах на самом деле всецело реалистичны: им недостает перспективы из-за необычного устройства зрачка азиатов130.
Стремление манипулировать другими просто забавы ради – или для того, чтобы сделать других интереснее, чем они были на самом деле, – прощается зрелому писателю. Бальзак от природы был талантливым актером и великим ценителем собственных представлений; в силу своего нарциссизма он часто не замечал, как оскорбляет чувства других.
Если Бальзаку предстояло иметь дело с женщинами, он тщательнее продумывал свое поведение. На одной вечеринке в доме мэтра Пассе он уверял однокашника по Вандомскому коллежу, что с помощью «магнетических лучей» может убедить красивую молодую женщину поцеловать его. Неудача его не обескуражила. «Скоро, – хвастался он, – я буду обладать тайной этой загадочной силы. Я заставлю всех мужчин подчиняться мне, а всех женщин – восхищаться мною». В другой раз Монне проходил мимо дома на улице Тампль. Задрав голову, он увидел в зарешеченном окне Бальзака. Тот завязывал галстук при свече: «Я до сих пор вижу на его лице самодовольную улыбку; и, если бы я хотел нарисовать аллегорию самоуверенности и проворства, мне не потребовался бы другой натурщик». После возвращения в Париж Бальзак стал брать уроки у танцовщика из Оперы. На пригородных балах, где его сестры должны были ослеплять потенциальных женихов, он пробовал применить свои навыки в действии. После тяжелой неудачи он заметил, что женщины смеются над ним, и «поклялся завоевать общество другими средствами, а не изяществом и достижениями, созданными для гостиных»131.
С 1816 по 1818 г. Бальзак был прилежным студентом, но не в школе права. Куда интереснее ему казалась программа Сорбонны. Там читали лекции три молодых профессора, и к ним набивались полные залы132. Гизо, будущий премьер-министр, преподавал современную историю. Вильмен, который в 1816 г. перешел в Сорбонну из коллежа Карла Великого, замечательно давал литературу. Старые нравственные суждения уступали сочетанию исторических фактов и личным впечатлениям. К литературным произведениям предлагалось относиться не как к сборникам непогрешимых истин, но как к точке зрения на общество. Романтизм проник и в ученые круги. Самое интересное, в то же время широкое распространение получили сочинения заграничных авторов: Гете, Байрона, Вальтера Скотта и драматурга, который до тех пор считался слишком вульгарным, чтобы его можно было помещать в учебный план, – Вильяма Шекспира.
Самым влиятельным из трех любимых преподавателей считался Виктор Кузен. Как ни странно, он преподавал философию, не требуя от учеников приходить к тем же выводам, что делал он сам. Он первым представил французам Канта и познакомил поколение писателей-романтиков с радостью чтения без понимания. Попытка Кузена очистить прочную теорию от всех предыдущих систем напоминает фундаментальный подход структуралистов; но Кузен был против «геометрического» мышления. Он посмел поставить темную, субъективную психологию в основу философии и определить «безучастную эмоцию Красоты» целью всех искусств или, если следовать его знаменитой фразе, «искусством для искусства».
Бальзак в карикатурном виде изобразил Кузена в 1832 г. как человека, который пытался ко всеобщему удовлетворению объяснить, почему Платон – это Платон133. В то время он считал, что писателям следует предлагать «устоявшиеся мнения», а не посылать читателей рыскать в океанах сомнений и размышлений. Впрочем, в 1818 г. антенны Бальзака были настроены на все, что сулило интеллектуальные приключения. После лекций он бежал в библиотеку или бродил по Латинскому кварталу, выискивая на лотках редкие и интересные издания. Затем он несся домой «с пылающей головой» – ему не терпелось поделиться с сестрами тем, что он узнал. Он хотел собраться с мыслями и дать объяснение буквально всему. В Музее естественной истории он слушал Кювье, «величайшего поэта нашего века», человека, который раскапывал допотопные цивилизации в каменоломнях Монмартра, «воссоздавал миры из выбеленных временем костей; подобно Кадму, отстраивал города при помощи зубов; он вновь населил тысячу лесов зоологическими диковинками»134.
Бальзаку захотелось стать философом. В 1818 г. он начал работать над «Лекцией о бессмертии души». Полученное им юридическое образование позволяло подвергать критике все известные системы мышления, и он стал нащупывать собственную систему. Стоит обратить внимание, что его рассуждения весьма напоминают ход мыслей его отца-атеиста. Бессмертие, заключает Бальзак, едва начав, – это опасная фантазия, продукт высокомерия и суеверия. Человек – простая субстанция, а понятие «нематериальная субстанция» сама себе противоречит. Из всех объяснений существования Вселенной больше всего Бальзаку нравилась мысль эпикурейцев, которые уверяли, что мир был создан, когда Бог был пьян135. Это, конечно, была профессиональная шутка скептика; но интересно, что Бальзак обвиняет Творца в отказе от контрацепции.
Теория «страха влияния» не в состоянии объяснить ход мыслей в ранних записках Бальзака, в числе которых и неоконченное эссе о природе поэтического гения. Предшественники скорее подбадривали его. По большей части он находил предшественников в учебниках и антологиях: Пифагор, Платон и философы-материалисты XVIII в. Во всяком случае, интеллектуальные достижения человечества не слишком занимали Бальзака. Уверенный в размерах своего аппетита, он составил список из 164 дисциплин, которые представляют интерес для человечества. В их числе некромантия, ясновидение, демонология, гастрономия, космография, зоология, метеорология, уранография, астрономия, диоптрика, акустика, пневматология, психология, хирургия, медицина, патология и так далее – вплоть до мегалантропогении, дифференциального исчисления, агрономии, пресвитерианства, нумизматики и, наконец, дипломатии136.
Философская составляющая первого литературного труда Бальзака, опубликованного частично лишь в изданных в 1990 г. «Избранных произведениях», бесценна с точки зрения хода развития его мысли. Здесь, на больших голубоватых листах бумаги, заметны первые признаки желания сблизить позитивизм с мистицизмом и тем самым, возможно, примирить противоположные подходы к познанию своих родителей. Оба подхода сулили скорое обретение истины. Или, как размышляет Рафаэль в «Шагреневой коже» (La Peau de Chagrin), вспоминая свои отроческие занятия, он «собирался взять приступом небо без помощи лестницы»137. Рассуждая уверенно и пылко, но оставив большие поля слева, словно для комментариев учителя, Бальзак в самом деле приходит к некоторым весьма оригинальным выводам. Так, он считал, что можно решить загадку гения, изучая основы языка, – и это за сто лет до Соссюра!
Величайшая ценность ранних заметок Бальзака почти случайна. Вера человека в бессмертие в то время уже интересует его так же, как абстрактные хитросплетения. Примечательно, что он сохранил свои юношеские сочинения и заметки, нацарапанные на небольших клочках бумаги. Для него они стали первой главой великой жизни, ранним доказательством рождения гения, иными словами, вклада в «мегалантропогению». Ибо само название лекции также намекает на «бессмертие» ее автора.
Философские труды клерка из конторы поверенного знаменуют собой важную веху. Возвращение к истокам бытия было способом начать все сначала. Он воссоздаст свою жизнь на собственных условиях: «Время еще не начало свой бег; Смерть еще не родилась; солнце взошло в первый раз». Продолжая рассуждать, Бальзак доходит до волнующего и важного заключения. Он называет литературное самовыражение средством открытия и закалки личности:
«Многие пишут для того, чтобы другие прочли их мысли; но человек, который желает крепко держаться за что-то прочное, будет писать, чтобы заставлять своего читателя думать. Вот моя цель.
По крайней мере, мне дарована смелость начать с самого расхолаживающего предмета»138.
Даже в тот период трудно понять, как Бальзаку на все хватало времени. По его собственному признанию, часто выражаемому в самых мрачных его письмах, он занимал годы у будущего, как герой «Шагреневой кожи». «Есть еще люди, которые считают “Шагреневую кожу” романом», – пишет он в 1838 г.139 Помимо службы в конторе, он с успехом окончил два курса юридического факультета и вступил на новую стезю. Он позволил себе лишь одну интерлюдию, которая, возможно, спасла его от перегрева: летние каникулы со старым другом отца, Вилле-лаФеем, которому было семьдесят лет – самый подходящий возраст для Оноре.
Вилле-ла-Фей был мэром городка Лиль-Адам, расположенного к северо-западу от Парижа, на Уазе, в долине, окруженной лесами. Юный философ и бывший священник с вольтерьянскими взглядами прекрасно поладили. Оноре ходил на танцы и охотился на кабана. Его хозяин приглашал в дом хорошеньких девушек и, по рекомендации местных врачей, добывал для своего гостя ослиное молоко. Возможно, это было признаком слабого здоровья: обычно ослиное молоко прописывали при туберкулезе. Вилле-ла-Фей хотел помочь своему молодому другу в его «великом труде». Бальзак описывал Лиль-Адам как «рай для своего вдохновения»140.
Они наведались в соседнее поместье, чей хозяин, миллионер-мизантроп, имевший обыкновение появляться в Опере, посыпав свой парик вместо пудры золотым песком, воссоздал в парке свои любимые итальянские пейзажи при полном отсутствии вкуса. Вместе с хозяином в этом романтическом Диснейленде жил орангутан. Бальзак видел, как орангутан пытался играть на скрипке: «Он вопросительно смотрел на молчаливую деревяшку, и в его бессмысленной мудрости заключалась таинственная неполнота». Бальзак посочувствовал животному. «Инструмент становится душой для художника и источником мелодии лишь после долгого периода учебы»141.
И вот появился случай – «величайший романист»142. Оноре предстояло извлечь выгоду из стечения трех неблагоприятных обстоятельств. Бернар Франсуа в апреле 1819 г. достиг пенсионного возраста, но пенсию в полном объеме ему так и не назначили. Пропали какие-то бумаги, дело затянулось, и Бернар Франсуа забрасывал письмами министерство. Может быть, ему решили отомстить за трактат о бешенстве, в котором он, как всегда провидчески, предлагает продавать владельцам собак особые лицензии? Он напомнил министру о своем «необычайном рвении» в составлении неизданной истории военных поставок, за которую он «получил хвалу столь лестную, что не считает себя достойным ее».
И все напрасно. Бальзакам, которые до тех пор жили вполне безбедно, пришлось потуже затянуть пояса, особенно после того, как Бернар Франсуа вложил большую сумму в банк своего работодателя: в 1817 г. банк обанкротился. Семье пришлось перебираться в городишко Вильпаризи в 15 милях к северо-востоку от Парижа, где только что купил дом один из кузенов г-жи Бальзак.
Еще одно событие того времени настолько странно и страшно, настолько выходит за рамки обычного, что биографы предпочитают просто не упоминать о нем. Луи Бальса, дядю Бальзака по отцовской линии, осудили за то, что он задушил крестьянку на шестом месяце беременности. 16 августа 1819 г. его казнили на площади в Альби. Процесс тянулся целый год, но парижские родственники, обладавшие кое-какими связями, ничего не сделали, чтобы помочь ему. Казненный на гильотине брат мог сильно скомпрометировать Бернара Франсуа, который старался не тормозить бюрократическую машину. Луи Бальса приговорили на основании «доказательств», состоявших из противоречивых слухов, сплетен его сокамерников и, главным образом, его «очень дурной репутации». Перед тем как его повели на казнь, он снова объявил себя невиновным, заявив, что сын богатых родителей – той самой семьи, что дала Бернару Франсуа его первую работу, – заплатил ему 200 франков, чтобы он признал отцом нерожденного ребенка себя. Как ни странно, к его словам не прислушались. Много лет спустя, если верить слухам, записанным в 1934 г., человек, на которого указал как на истинного виновника Луи Бальса, признался в своем преступлении на смертном одре143.
Ни в одном сохранившемся письме Бальзаков нет упоминаний о том процессе. И все же известно, что Бернар Франсуа был в курсе дела; ему сообщил обо всем племянник, приезжавший из Альби. Знал ли о происходящем и Оноре? В его ранних романах героев довольно часто казнят на гильотине. Возможно, с тем давним случаем связана его знаменитая попытка спасти от казни Себастьяна Петеля в 1839 г. Возможно, тот случай стал для Оноре лишним зловещим доказательством того, что респектабельность, даже в родной семье, – не более чем видимость.
Вполне возможно, ускорить отъезд Бальзаков в Вильпаризи могли соседские сплетни. Сам Бальзак оценивал скорость распространений слухов в парижских жилых кварталах примерно в девять миль в час. Когда в 1820 г. на ступеньках Оперы убили герцога Беррийского, через десять минут об этом стало известно в сердце острова Сен-Луи144.
Теперь все взгляды родных с надеждой обратились к Оноре. Ему пришлось взять на себя ответственность за семью. В начале 1819 г. он сдал экзамены на первую ступень бакалавра права. Затем, в наихудшее время, 1 июля, факультет права закрыли. Один из преподавателей не вовремя начал дискуссию о том, следует ли возвращать конфискованное имущество эмигрантам, которые прибывали во Францию вместе с Бурбонами. Вызвали войска; начались стычки, и правительство запретило все лекции145. Бальзак с облегчением воспользовался этим предлогом и сообщил мэтру Пассе, что не вернется к нему.
Семья же предпочла разыграть настоящую мелодраму. «Неблагодарного сына» упрекали в эгоизме. Подумать только, он захотел стать писателем! Мало того, Пассе предлагал ему работу на полный день, и можно было надеяться, что после короткого периода ученичества к нему перейдет практика мэтра. Учитывая обстоятельства, решение Оноре, конечно, сильно огорчило родителей. Тем не менее они согласились финансировать его «поиски себя», причем весьма щедро.
Жизнь в семье Бальзак очень хорошо можно описать словом «непоследовательность». С расстояния в 170 лет иногда кажется, будто смотришь на них в кривое зеркало. Ретроспективно все они кажутся немного нелепыми и, несмотря на свои недостатки, милыми. Впрочем, Бальзаки сохраняли свои странности с любой точки зрения. Хотя Оноре до тех пор не демонстрировал никаких выдающихся способностей, родители поддержали его безрассудную затею – возможно, из любви к игре. Писатели всегда бедствовали; меценаты после революции перевелись. Иными словами, его поиски могли завершиться самым непредсказуемым и печальным образом. И все же это было куда занятнее виста и триктрака.
В спектакле задействовали и друзей семьи; их попросили высказать свое мнение о карьере Оноре. Впрочем, о выгодном предложении мэтра Пассе Бальзаки умалчивали. По словам одного знакомого, главным достоинством Оноре был его изящный почерк: из него вышел бы превосходный счетовод146. Другие винили Бернара Франсуа в излишней мягкости, и он охотно соглашался. «Это потому, что никто меня все равно не слушает, – говорил он в тот год своей старшей дочери. – Его разбаловали праздностью и удовольствиями, тогда как ему следовало идти по тропе лишений и сурового труда, которая ведет к успеху». Вместо желания стать главным клерком, продолжал он, Оноре решил, что ему лучше заучивать наизусть названия пьес и имена актеров и актрис. «Не то чтобы я презирал такого рода знания; но, когда они встают на пути работы, это уже существенно…»147
Оноре сильно рисковал. Ему дали два года на то, чтобы добиться успеха или – что, наверное, представлялось его родителям более вероятным и желанным – поражения. В августе 1819 г. ему сняли обшарпанную комнатку возле библиотеки Арсенала на восточной окраине Маре. Бальзаки уехали в Вильпаризи, приказав Оноре не попадаться знакомым на глаза. Всем сообщили, что он поехал навестить родных в Альби. Может быть, родители боялись, что их сочтут безответственными, а может, они забавлялись своим «заговором». В соответствии с правилами игры Оноре велели через сестер присылать родным письма якобы из Альби, сообщать вымышленные новости о родственниках Бальса – кроме, разумеется, того дядюшки, которого казнили на гильотине.
Родители надеялись, что бедность и одиночество приведут старшего сына в чувство. Оноре распрощался с родными и вернулся, взволнованный и решительный, в дом-тюрьму своего детства.
Глава 3
Мечты (1819—1820)
Сохранились фотографии якобы той комнаты в мансарде, в которой Бальзак начал новую жизнь148. К сожалению, нумерация домов на улице Ледигьер давным-давно изменилась. Дом, который раньше значился под номером 9, снесли во время прокладки бульвара Генриха IV, который соединяет квартал Маре с островом Сен-Луи и выходит на площадь Бастилии. Узкий переулок, который на самом деле является местом второго рождения Бальзака, ничем не выдает своей роли в истории литературы. На нем по-прежнему стоят в основном жилые дома и несколько скромных магазинчиков. Переулок выказывает равнодушие даже к собственному названию: он называется либо Ледигьер, либо Ледигьере, в зависимости от того, с какой стороны в него поворачивать.
Сама комната описана в нескольких романах Бальзака, которые он считал отрывками автобиографии. «Ничто не может быть ужаснее, чем мансарда с грязными желтыми стенами, пахнущая бедностью». Комнатка была маленькая, с низким потолком; но Бальзак всегда умел находить более широкую перспективу: «Комната придает своего рода магию нашему окружению. Хлипкий стол, за которым я писал… странные рисунки на обоях, моя мебель, все оживало, каждый предмет становился моим скромным другом – молчаливые сообщники в ковке моего будущего»149.
«Помню, как весело, бывало, я завтракал хлебом с молоком, вдыхая воздух у открытого окна, откуда открывался вид на крыши, бурые, сероватые или красные, аспидные и черепичные, поросшие желтым или зеленым мхом. Вначале этот пейзаж казался мне скучным, но вскоре я обнаружил в нем своеобразную прелесть. По вечерам полосы света, пробивавшегося из-за неплотно прикрытых ставней, оттеняли и оживляли темную бездну этого своеобразного мира. Порой сквозь туман бледные лучи фонарей бросали снизу свой желтоватый свет и слабо означали вдоль улиц извилистую линию скученных крыш, океан неподвижных волн… Словом, поэтические и мимолетные эффекты дневного света, печаль туманов, внезапно появляющиеся солнечные пятна, волшебная тишина ночи, рождение утренней зари, султаны дыма над трубами – все явления этой необычайной природы стали для меня привычны и развлекали меня. Я любил свою тюрьму, – ведь я находился в ней по доброй воле»150.
Бальзак точно знал, на что будет похожа его тюрьма, еще до того, как увидел ее. В 20-х гг. XIX в. мансарды принято было считать типичным жильем поэтов. Во Франции имелись свои Чаттертоны; они либо погибали в живописной нищете, либо успевали сочинить слезливую оду к собственным похоронам. Видимо, и Бальзак некоторое время играл в любимую игру романтиков под названием «Слава или смерть», в которой он был одновременно «и игроком, и ставкой»151. На друзей, навещавших его в его поэтическом уединении, наверняка производили нужное впечатление и огарок сальной свечи в бутылке, и шаткий стол, и стул, из которого сыпалась солома, и импровизированная кровать, кое-как прикрытая грязными занавесками, и доказательства здорового питания: хлеб, орехи, фрукты и вода, не купленная, а набранная в ближайшем фонтане152.
К 1834 г., когда Бальзак диктовал критику введение к своим «Философским этюдам», его комнатка стала наиболее ценным экспонатом в вопиюще ложном автопортрете: «Именно в дни нужды, на которую его обрек отец, в ту пору противник его поэтического призвания – в дни, о которых поведал нам Рафаэль в “Шагреневой коже”, – мсье де Бальзак, уединившись в мансарде неподалеку от библиотеки Арсенала, в 1818, 1819 и 1820 гг. не прекращал трудиться. Он сравнивал, анализировал и обобщал результаты трудов, произведенных философами и врачами Античности, Средневековья и двух предыдущих столетий»153.
Последним и по счету, и, наверное, по значению (после ярких картин и описаний) следует то, что Бальзак наверняка с отвращением назвал бы «реальностью». Франсуа Видок, исправившийся преступник, ставший главой Управления национальной безопасности и «отцом» уголовного розыска в его современном виде, как-то сообщил писателю, что реальность иногда бывает драматичнее, чем все, что можно прочесть в романах.
«Бальзак: Ах! Мой дорогой Видок! Значит, вы верите в реальность? Как очаровательно! Никогда бы не подумал, что вы так наивны. Реальность! Прошу, расскажите, что это такое. Вы ведь в самом деле бывали в этой сказочной стране. Бросьте! Это мы – люди, которые делают реальность»154.
Поэтому, наверное, почти бессмысленно упоминать о том, что бальзаковская «башня из слоновой кости» вовсе не была мансардой. Это была комната в респектабельном третьем этаже; и если полуголодное существование и поддерживало его разум «в состоянии необычайной ясности»155, либо он решил так сам, либо просто забывал сходить за продуктами. Узник улицы Ледигьер никогда и не бывал один. Старая экономка Бальзаков передавала письма в Вильпаризи и обратно, приносила Оноре выстиранное белье, картошку и фрукты из сада. Навещал его и Теодор Даблен, единственный друг семьи, знавший, что Оноре не поправляется после болезни в Альби, а залег на дно в столице156. Даблен, торговец скобяным товаром на пенсии, был человеком очень практичным; именно он порекомендовал Оноре заняться счетоводством. Бальзак уважал откровенные мнения, и, когда дело дошло до его творчества (или до того, что Даблен саркастически называл его «детьми»), он уже достаточно созрел, чтобы выслушать неприятную правду. В нескольких письмах он просит «вероломного» Даблена прийти и покритиковать его труд: «У вас сложилось впечатление, что я живу далеко от вас, но это философская ошибка. Если бы вы прочли Ньютона, вы бы поняли, что я всего в шаге от вас»157. Время от времени к нему заходили и родственники: Бальзаки сняли квартиру на улице Тампль, служившую им своего рода отдушиной. Когда супруги ссорились, г-жа Бальзак часто уезжала в Париж на несколько дней.
Естественно, комнатка на улице Ледигьер часто фигурировала в разных обличьях, потому что ее обитатель также во многом был плодом собственного воображения. У Бальзака было несколько разных масок. Его сохранившиеся портреты до странности не похожи друг на друга, что подтверждает: его многочисленные персонажи стали не просто плодом его фантазии. Он вложил в них изрядную толику себя самого. Именно в тот период он примерил на себя, по крайней мере временно, будущий распорядок. Он был драматургом, романистом, сатириком, социологом, который днем предавался праздности, а по ночам трудился, словно раб на галерах. Он был одновременно отшельником и праздношатающимся (flâneur), и даже, если верить одному из его писем, оборотнем. Бальзак постепенно понял, что образ – одно из орудий его труда, не менее важный, чем гусиное перо или чернильница. Естественно, его первый независимый поступок совершенно в его духе. Мать прислала ему зеркало и пришла в ярость, узнав, что он купил себе другое – квадратное, в позолоченной раме. Зачем понадобились Оноре два зеркала?
Возможно, ответ таится в неизданном тексте, озаглавленном «Теория сказки». Описание Бальзака напоминает кошмар биографа; оно приоткрывает дверь в тайное убежище писателя: «Вчера, вернувшись домой, я увидел бесчисленное количество своих двойников. Все они прижимались друг к другу, тесно, как сельди в бочке. Бесконечные отражения моего лица уходили к какому-то магическому горизонту – подобно тому, как свет лампы, стоящей посреди гостиной, бесконечно отражается в двух стоящих напротив зеркалах»158.
Даже и в отсутствие гостей Бальзак редко бывал один. Есть даже доказательство – научное доказательство – того, что «комната, набитая Бальзаками» не просто вымысел писателя: «Однажды я пошел с г-жой де Жирарден на улицу Бак к гипнотизеру Дюпоте. Из любопытства он велел женщине-медиуму взять меня за руку. Едва положив мою руку к себе на живот, медиум вздрогнула и выпустила ее. “Ну и душа! – вскричала она. – Это целый мир! Он пугает меня!”»159
В наши дни критики редко вспоминают о прорицаниях; впрочем, общие выводы кажутся не менее убедительными, чем те, к которым привели более общепринятые виды анализа.
Многочисленные голоса достигают неблагозвучного крещендо в ранних письмах и заметках Бальзака. Он нащупывает произведение, которое отражало бы его шатания, точнее, многочисленные выводы, с каждым из которых он был искренне согласен. Он продолжает заниматься в библиотеке Арсенала; если не для того, чтобы вобрать в себя все достижения человеческой мысли, начиная с Античности, то, по крайней мере, для того, чтобы вести воображаемый спор с философами прошлого. Он перевел на французский язык малопонятную «Этику» Спинозы (незаметный, но важный вклад в историю французской философии) и попытался воссоздать интеллектуальную атмосферу двухсотлетней давности. Бальзак выводит на ринг Декарта с его главными комментаторами и, выйдя следом, наносит несколько ударов: «Je pense, donc je suis, говорите вы, “я мыслю, следовательно, я существую”, но, по-моему, вы могли бы также сказать: Je suis, donc je pense, “я существую, следовательно, я мыслю”… вы сомневаетесь в материальном существовании. Поэтому вам следовало бы усомниться и в собственных сомнениях»160. Несмотря на характерное неприятие мучительных размышлений Декарта над тем, что не поддается точной оценке, его философские эссе вовсе не так поучительны, какими кажутся. Они показывают двадцатилетнего Бальзака лишь с одной стороны. Декарт и Спиноза заглушались другими, более громкими и назойливыми голосами.
«– Милая сестрица, ты хотела узнать, как я устроился… Представь себе, я нанял слугу!
– Слугу, милый братец?! О чем ты только думаешь?
– Он зовется “Я-сам”… Он начинает подметать комнату, но у него это не слишком хорошо получается.
– Не поднимайте столько пыли!
– Но, сударь, я не вижу никакой пыли.
– Придержите язык и работайте, софист!»161
Любопытно, что уже тогда вымышленное создание служило предлогом для того, чтобы оттянуть время.
Ввиду этого постоянного брожения мифов и реальности едва ли имеет значение то, что «воздушная гробница»162, из которой впервые появились на свет бальзаковские персонажи, более не существует. Подобно композитору Гамбара из одноименной повести, Бальзак, «не напиваясь пьяным… находился в таком состоянии, когда все умственные силы перевозбуждены, когда стены комнаты начинают мерцать, когда мансарды теряют крыши, а душа улетает в мир духов»163.
Через неделю после устройства – покрасив стены в белый цвет, сделав ширму из синей бумаги, повесив зеркала – «холостяк с третьего этажа»164 приступил к работе. Он очень скоро отказался от своих философских изысканий, возможно вздохнув при этом с облегчением. Впав в другую крайность, он задумал сюжет комической оперы, озаглавленной «Корсар». Она была основана на последних романтических веяниях того времени: поэме Байрона о пирате Конраде. Центральным ее местом должна была стать песня веселых пиратов, которые радуются вольной жизни в синем море. К сожалению, «Корсар» Бальзака столкнулся с непредвиденной трудностью: «Где же, черт возьми, мне найти композитора?»165
Решив, что потомкам понятнее будет произведение, написанное рифмованным александрийским стихом, он приступил к созданию трагедии в пяти актах под названием «Кромвель». Трудная задача, особенно для человека, который в то время страдал от ужасной зубной боли: «Обычно трагедия состоит из 2000 строк, то есть от 8 до 10 тысяч мыслей, не считая все другие мысли, необходимые для замысла, а еще общий план, действующие лица, декорации, обычаи того времени и т. д.»166 Возможно, торговец скобяным товаром был прав, увидев в Бальзаке прирожденного счетовода. Задача написать 2000 строк, удовлетворявших всем правилам французского стихосложения, особенно если учесть, что создатель – не поэт от природы, требовала определенного автоматизма, качества, необходимого, по мнению Бальзака, всем великим писателям. Бейль считал черепицы на крышах; Спиноза полировал линзы; Бальзак, позже, методично прочитывал все статьи в биографическом словаре Мишо167. Побочные преимущества «Кромвеля» менее очевидны.








