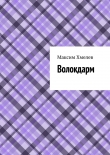Текст книги "Первые люди"
Автор книги: Говард Фаст
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– Почти год, – ответил Фелтон.
– И это не тревожит вас?
– Почему это должно меня тревожить? Мы очень близки с сестрой, но ее работа не предполагает светского общения. В наших отношениях часто бывали долгие паузы, прежде чем я получал от нее весточку. Мы жертвы общения по переписке.
– Я понимаю, – кивнул Эггертон.
– Однако, судя по вашим вопросам, мне становится ясно, что вызовом к вам я обязан своей сестре.
– Именно так.
– С ней все в порядке?
– Насколько нам известно, да, – спокойно ответил министр.
– Тогда чем я могу быть вам полезен?
– Помогите нам, если это возможно, – так же спокойно сказал Эггертон. Я собираюсь рассказать вам, что произошло, мистер Фелтон, и тогда, надеюсь, вы постараетесь нам помочь.
– Возможно, – согласился Фелтон.
– Я не буду рассказывать вам о сути проекта. Вы знаете о нем столько же, сколько любой из нас, а может быть, даже и больше – вы ведь были у его истоков. Поэтому вы понимаете, что такой проект должен быть или воспринят очень серьезно, или самым грубым образом высмеян. На сегодняшний день он обошелся государству в одиннадцать миллионов долларов, и это совсем не смешно. Проект с самого начала был уникальным и исключительным. Я намеренно употребляю эти слова. Успех проекта зависел именно от создания исключительной и уникальной окружающей среды. Поэтому мы и согласились не посылать в резервацию комиссию в течение пятнадцати лет. Конечно, за эти годы мы провели ряд совещаний с участием мистера и миссис Арбалейд и некоторых из их коллег, включая профессора Гольдбаума.
Однако в ходе совещаний нам стало ясно, что о каких-либо результатах информации мы не получим. Нас уверяли, что эксперимент удался, что все великолепно и замечательно, но не более того. Мы честно выполняли обязательства, принятые нашей стороной, но в конце пятнадцатилетнего периода вашей сестре и ее мужу было объявлено о намерении послать в резервацию группу экспертов. Но они попросили отсрочки, ссылаясь на то, что данный момент был критическим для успешного осуществления программы в целом. Их аргументы показались нам убедительными, и мы предоставили им отсрочку на три года. Несколько месяцев назад этот срок подошел к концу. Миссис Арбалейд приехала в Вашингтон и подала прошение еще об одной отсрочке. Мы отказали ей, и она согласилась на приезд нашей комиссии в резервацию через десять дней. Затем она вернулась в Калифорнию.
Эггертон сделал паузу и внимательно посмотрел на Фелтона.
– И что вы там обнаружили? – спросил Фелтон.
– А вы не знаете?
– Боюсь, что нет.
– Хорошо, – медленно сказал министр. – Понимаете, я чувствую себя совершенным идиотом, когда вспоминаю об этом. Мне становится страшно. Когда я пытаюсь об этом рассказать, получается полная бессмыслица. Мы действительно поехали туда, но ничего не увидели.
– Как?
– Я вижу, вас это не очень удивляет, мистер Фелтон?
– Видите ли, меня никогда не удивляло ничего из того, что делает моя сестра. Вы имеете в виду, что заповедник был пуст – в нем не было и следа чего бы то ни было?
– Я имею в виду совсем другое. Я мечтал бы, чтобы увиденное нами имело черты человеческой жизни и было земным. Или чтобы ваша сестра и ее муж оказались неразборчивыми в средствах обманщиками, надувшими правительство на одиннадцать миллионов. Это бы было намного приятнее, чем то, что мы увидели. Понимаете, мы не знаем, что произошло в резервации, потому что ее вообще нет.
– Что?
– Именно так. Резервации нет вообще.
– Послушайте, – улыбнулся Фелтон. – Моя сестра замечательная женщина, и она не могла исчезнуть вместе с восьмью тысячами акров земли. Это на нее не похоже.
– Я не нахожу вашу шутку удачной, мистер Фелтон.
– Вы правы. Извините меня. Но только что остается думать, если это полная бессмыслица. Как мог участок в восемь тысяч акров земли исчезнуть с того места, где он находился? Там что теперь – провал?
– Если бы газетчики узнали об этой истории, они сделали бы еще более сногсшибательный вывод, мистер Фелтон.
– Вы не могли бы объяснить, в чем дело?
– Именно этого я и хочу. Только не объяснить, а описать. Этот участок находится на территории Национального заповедника в Фултоне, характернейшей из областей с холмистым рельефом и богатой лесами. Участок был обнесен колючей проволокой и контролировался военизированной охраной. Я отправился туда вместе с членами нашей комиссии генералом Мейерсом, двумя военными врачами, психиатром Гормэном, сенатором Тотенвелом из Комитета обороны и педагогом Лидией Джентри. Мы пересекли страну на самолете и проехали оставшиеся шестьдесят миль пути на двух правительственных машинах. К резервации вела грунтовая дорога. У границы участка нас остановила охрана. Резервация была перед нами. Но как только охранники подошли к первому автомобилю, она исчезла.
– Просто так? – прошептал Фелтон. – Совсем бесшумно?
– Именно так. Бесшумно. Одно мгновение – и вместо раскидистых секвой перед нами оказалась серая пустынная земля. Ничто.
– Ничто? Это только слово. А вы пытались войти туда?
– Да, пытались. Лучшие ученые Америки пытались это сделать. Я лично не очень большой смельчак, мистер Фелтон, но и я набрался смелости пройти по серой кромке земли и коснуться ее рукой. Было очень холодно и неприятно. Так холодно, что вот эти три пальца покрылись волдырями.
Эггертон протянул к Фелтону руку, чтобы тот мог убедиться.
– И тогда я испугался. С тех пор страх не покидает меня.
Фелтон понимающе кивнул.
– Страх, ужасный страх, – вздохнул Эггертон.
– И вы предприняли все, что могли, в этой ситуации?
– Мы перепробовали все, мистер Фелтон. Даже, признаюсь, к нашему стыду, атомную бомбу. Мы пробовали делать и разумные вещи, и глупости. Сначала мы впали в панику. Потом преодолели ее. Мы перепробовали все, что можно.
– Вы по-прежнему держите всю эту историю в секрете?
– Пока да, мистер Фелтон.
– А вы не пробовали вести наблюдения с воздуха?
– Сверху ничего не видно. Такое впечатление, что над этим местом висит густая мгла.
– Что думают об этом ваши люди?
Эггертон улыбнулся и покачал головой.
– Они ничего на понимают. Я скажу вам. Сначала некоторые считали, что это особого рода силовое поле. Но математические расчеты ничего не дают. К тому же такой холод. Ужасный холод! Я затрудняюсь вам что-либо сказать. Я не ученый и не математик. Но и ученые ничего не могут понять, мистер Фелтон. Я смертельно устал от этой истории. Именно поэтому я и попросил вас приехать в Вашингтон и переговорить с нами. Я думал, что вы должны что-нибудь об этом знать.
– Должен был бы, – кивнул Фелтон.
Впервые за все это время Эггертон оживился. Все его движения говорили о крайнем возбуждении. Он приготовил для фелтона новый коктейль. Потом, облокотившись на стол, министр застыл в нетерпеливом ожидании.
Фелтон достал из кармана письмо.
– Это письмо от моей сестры, – сказал он.
– Вы же говорили мне, что около года не получали он нее вестей!
– Это письмо я получил год назад, – ответил Фелтон с горечью в голосе. – Но я не вскрывал его. Этот конверт был вложен в другой, в котором находилась и записка. В ней сестра говорила, что здорова и счастлива, и просила вскрыть второй конверт только в случае крайней необходимости. Все же это моя сестра, и мы многое понимаем одинаково. По-моему, сейчас настал тот самый момент, вам так не кажется?
Министр медленно вздохнул, но ничего не сказал. Фелтон вскрыл письмо и начал читать его вслух.
12 июня 1964 г.
Мой дорогой Хэрри!
Сейчас, когда я пишу это письмо, прошло двадцать два года с тех пор, как мы виделись в последний раз. Как это много для двух людей, которые так любят и уважают друг друга, как мы! Теперь, когда ты счел необходимым вскрыть это письмо и прочесть его, приходится твердо смотреть в лицо правде. Как это ни страшно, мы больше никогда не увидимся. Я знаю, у тебя есть жена и трое детей, и уверена, что они прекрасные люди. Самое тяжелое для меня – это осознавать, что я их никогда не увижу и не узнаю. Только это огорчает меня. Во всем остальном мы с Марком очень счастливы. Я думаю, ты поймешь, почему.
Что касается неприятностей, которые заставили тебя вскрыть письмо, скажи этим людям, что мы не причинили никому никакого вреда и никого не ущемили. Никому ничто не грозит, и не стоит вообще касаться этого дела. В нем негативный фактор превалирует над позитивным, и эффект отсутствия сильнее эффекта присутствия.
Позже я расскажу тебе обо всем более подробно, но, возможно, лучше вообще ничего не объяснять. Некоторые из наших детей могли бы справиться с этой задачей успешнее, но ты ведь ждешь именно моего рассказа.
Странно, что я до сих пор называю их детьми и думаю о них, как о детях, когда, в сущности, мы – дети, а они – взрослые. Но в них по-прежнему сохранилось очень много детского – мы видим это лучше, чем они. Я имею в виду кристальную чистоту и невинность, которые так быстро исчезают в реальном мире.
А теперь я расскажу тебе, что вышло из нашего эксперимента, вернее из той его части, которую мы успели осуществить. Это необычнейшие два десятка лет из прожитых когда-либо человеком на Земле. Все это непостижимо и одновременно очень просто. Мы составили группу из прекрасных детей, окружили их любовью и вниманием и привили им истину. Но, я думаю, что самым сильным фактором оказалась любовь. В течение первого года работы мы избавились от тех супружеских пар, которые проявили меньше любви к детям, чем от них требовалось. Этих детей было не трудно любить. И теперь, когда прошли годы, я могу определенно сказать, что все они стали нашими детьми в любом своем проявлении. Дети, родившиеся у супружеских пар, работающих с нами, присоединялись к остальным. Ни у кого не было мамы и папы в обычном смысле. Это был единый живой организм, где все мужчины были отцами всех детей, а женщины – их матерями.
Нет, это было совсем не просто, Хэрри. Нам приходилось бороться с трудностями, много работать, все время проверяя себя и снова возвращаясь к пройденному. Мы напрягали все наши силы, буквально доводя себя до изнеможения, чтобы среда, в которой росли дети, была пропитана истиной и невиданным здравым смыслом, надежностью и правдой, ранее в мире никогда не существовавшими.
Где найти слова, чтобы рассказать о пятилетнем мальчике, американском индейце по происхождению, написавшем великолепную симфонию? Или о двух шестилетних детях – мальчике-банту и девочке-итальянке, сконструировавших прибор для измерения скорости света? Поверишь ли ты, что мы, взрослые, затаив дыхание слушали, как шестилетние дети объясняли нам, что так как скорость света величина всюду постоянная, независимо от движения материальных тел, расстояние между звездами не может определяться в единицах света, в связи с тем что вступает в силу иной уровень отсчета. Поверь мне, что я и повторить грамотно не могу то, что они нам с такой легкостью объясняли. Я имею об этом такое же представление, как необразованная эмигрантка, чей ребенок постиг все чудеса образования. Я слишком мало понимаю во всем этом, слишком мало.
Я могла бы приводить пример за примером удивительных и чудесных проявлений этих шести-, семи-, восьми– и девятилетних детей, но что бы ты тогда подумал о несчастных, измученных и нервных отпрысках, чьи родители хвастаются их повышенным коэффициентом IQ в 160 единиц и в то же время клянут судьбу, что она не дала им нормальных детей? Но в том-то и дело, что наши дети были и есть нормальные дети. Возможно, это первые нормальные дети, появившиеся на Земле за всю долгую историю. Если бы ты хоть раз мог услышать, как они смеются и поют, ты бы понял это. Если бы ты мог увидеть, какие они высокие и стройные, как они красивы в движениях! У них такие проявления, каких я никогда раньше на видела у детей.
Я предчувствую, дорогой Хэрри, что многое в моем рассказе может шокировать тебя. К примеру, то, что большую часть времени наши дети на носят одежды. Половые различия всегда были для них совершенно естественной вещью, и их восприятие секса было таким же органичным, как для нас то, что мы едим и пьем. И даже более органичным, потому что они не страдали жадностью ни в сексе, ни в пище, и у них не было никаких язв – ни в желудке, ни в душе. Они целуют друг друга и заботятся друг о друге и делают много такого, что во внешнем мире было бы квалифицировано как недопустимое или низкое. Но что бы они ни делали, от них веет красотой, свободой и радостью. Возможно ли это? Признаюсь тебе, что именно такого рода впечатления составляли мою жизнь почти двадцать лет. Я нахожусь среди детей, безгрешных и здоровых, и они похожи то ли на богов, то ли на кумиров.
Я позже опишу тебе историю жизни детей с их каждодневными буднями. То, чем я делюсь с тобой сейчас, только оборотная сторона их выдающихся способностей и талантов. У нас с Марком никогда не возникало сомнения относительно результатов нашего эксперимента. Мы знали, что если будем контролировать окружающую среду, наши дети, как мы и предполагали первоначально, узнают гораздо больше, чем их ровесники во внешнем мире. В свои семь лет они легко оперировали научными понятиями, изучаемыми обычно на уровне колледжа или высшей школы. Этого и следовало ожидать, и мы были бы очень разочарованы, если бы их способности не развились в достаточной степени. Но огромной радостью и одновременно неожиданностью для нас стало то, на что, впрочем, в глубине души мы надеялись и рассчитывали, удивительный расцвет умственных способностей, как правило, блокированный во внешнем мире.
Вот как это произошло. В первый раз – с китайским ребенком на пятый год нашей работы. Во второй – то же проявилось в маленьком американце, потом в бирманце. Самое странное, что такая метаморфоза не показалась нам чем-то необыкновенным. Мы даже не совсем понимали, что происходит. Так продолжалось до седьмого года нашей работы, когда детей, прорвавших этот барьер, стало пятеро.
Однажды мы с Марком прогуливались в лесу. Я очень отчетливо помню тот прекрасный калифорнийский день, прохладный и чистый. На лужайке мы заметили группу детей. Их было примерно двенадцать. Пятеро образовали небольшой круг, а шестой находился в центре. Они сидели на корточках, и их головы почти соприкасались. До нас донесся их радостный, хотя и несколько приглушенный смех. Остальные дети сидели футах в десяти от них и внимательно наблюдали за происходящим.
Когда мы подошли ближе, дети, сидящие поодаль, приложили палец к губам, подавая нам знак, чтобы мы молчали. Мы с Марком остановились и продолжали следить за этой странной игрой, не нарушая ее ни единым словом. Примерно через десять минут находящаяся в центре круга маленькая девочка вскочила на ноги и взволнованно закричала:
– Я поняла вас, я поняла вас, я поняла вас!
В ее голосе звучала необычайная радость. Ничего подобного мы раньше никогда не слышали, даже от наших детей. И в тот же миг все дети бросились к ней. Они обнимали и целовали ее и исполнили в ее честь танец, полный ликования и радости. Мы с Марком постарались скрыть удивление и любопытство. Впервые мы увидели в наших детях то, что было выше нашего понимания. Но тем не менее нам удалось сразу выработать реакцию на случившееся.
Дети подбежали к нам, ожидая поздравлений. Мы улыбались и радовались вместе с ними.
– Теперь моя очередь, мама, – сказал мне сенегальский мальчик. – У меня тоже почти получается. Теперь мне могут помочь уже шесть человек. Мне будет легче.
– Вы ведь гордитесь нами! – выпалил другой мальчуган.
Мы согласились, что гордимся ими, но от дальнейших объяснений постарались уклониться. В тот же вечер на совещании педагогов Марк рассказал о случившемся.
– Я тоже заметила нечто подобное на прошлой неделе, – подтвердила преподаватель семантики Мэри Хенгель. – Я наблюдала за ними, но они не заметили меня.
– Сколько там было детей? – спросил профессор Гольдбаум.
– Трое. Четвертый был в центре круга. Их головы соприкасались. Я подумала, что они так играют, и ушла.
– Они не делают из этого секрета, – заметил кто-то из педагогов.
– Да, – сказала я, – они совершенно уверены в том, что нам ясно, что они делают.
– Но ни один из детей не говорил при этом ни слова! – воскликнул Марк. – Я могу поклясться.
– Да, они только слушали, – подтвердила я. – Они смеялись, как смеются какой-нибудь веселой шутке. Впрочем, точно так же смеются дети, если им очень нравится какая-нибудь игра.
В разговор снова включился профессор Гольдбаум. Он сказал очень серьезным голосом:
– Вы знаете, Джин, вы всегда считали, что мы должны вскрыть огромные ресурсы заблокированных в нас умственных резервов. Я думаю, наши дети нашли способ сделать это. Мне кажется, они учатся читать мысли.
Ответом на слова профессора была тишина, вдруг наступившая в аудитории. Первым заговорил Артвотер, один из наших психологов. Он, с трудом подбирая слова, произнес:
– Я не думаю, что в это просто поверить. Я исследовал все тесты и статьи по телепатии, опубликованные у нас в стране, включая чепуху Дьюка и прочие глупости. Нам известно, что колебания, происходящие в мозгу человека, настолько слабы, что не могут служить средством общения.
– Есть еще статистический фактор, – заметила математик Рода Лэннон. Если бы человек обладал такой способностью хотя бы в потенциале, должны были быть зарегистрированные свидетельства этого.
– Я не отрицаю, что такие явления могли быть зарегистрированы, добавил один из наших историков, Флеминг. – Но можем ли мы определить точно, что в ходе истории, изобилующей убийствами и разрушениями, было результатом телепатии?
– Я думаю, что могу согласиться с профессором Гольдбаумом, – сказал Марк. – Наши дети становятся телепатами. Меня не убедил ни статистический аргумент, ни аргумент, высказанный историком. Я считаю, что это не так, потому что основная цель, которую мы в нашей работе преследовали, создание особой среды, и поэтому мы вправе рассчитывать на особые результаты. В истории не было зарегистрировано ничего подобного нашему эксперименту – воспитанию высокоодаренных детей в специально созданных условиях. Кроме того, телепатия – это такая способность, которая или раскрывается в детстве, или не раскрывается никогда. Я думаю, что профессор Хенингсон согласится с моим предположением, что в нормальном человеческом обществе барьеры в развитии умственной деятельности закладываются уже в детстве.
– Более того, – подтвердил наш ведущий психиатр профессор Хенингсон, ни один ребенок в нашем обществе не избавлен от этой участи. Умственные барьеры навязываются всем и каждому. В раннем детстве блокируются целые участки головного мозга. Это абсолютный закон человеческого общества.
Профессор Гольдбаум странно смотрел на нас. Я хотела что-то сказать, но остановилась, предоставляя возможность высказаться, профессору. Вот его слова:
– Меня удивляет, что мы только теперь начинаем осознавать, что произошло то, что мы должны были сделать сами. Что такое человек? Он квинтэссенция своей памяти, замкнутой в области мозга, и каждый новый момент жизни восстанавливает структуру его воспоминаний. Я не могу сказать точно, на каком уровне происходит развитие у наших детей, но, допустим, они достигнут стадии, когда память станет для всех единой, т.е. общей. Естественно, что между обладателями общей памяти не может быть ни лжи, ни хитрости и обмана, ни слепого расчета, ни греховности, ни многого другого.
Гольдбаум внимательно посмотрел каждому из нас в глаза. Мы начинали понимать, что он имеет в виду. Я хорошо помню свои ощущения в тот момент удивление и радость открытия. Слезы выступили у меня на глазах, и я почувствовала, как сильно бьется мое сердце.
– Мне кажется, я понял, в чем тут дело, – продолжал профессор Гольдбаум. – И думаю, я должен поделиться этим с вами. Я гораздо старше вас, и я пережил страшные годы террора, возможно, самые страшные в человеческой истории. Я тысячу раз задавал себе вопрос, в чем смысл существования человечества, если вообще можно говорить о каком-то смысле и возникновение человечества не случайность, не результат случайного сцепления молекул? Я знаю, что каждый из нас задавал себе этот вопрос. Кто мы такие? Какова наша цель? Каков здравый смысл и оправдание наших жалких потуг, нашей ничтожной борьбы и больной плоти? Мы убиваем, мучаем, терзаем, как ни один биологический вид на планете. Мы оправдываем убийства, лицемерие и предрассудки, мы разрушаем тела наркотиками и губительной пищей. Мы обманываем себя и других, и мы ненавидим, ненавидим, ненавидим.
То, что произошло с нашими детьми, не что иное, как альтернатива такой жизни. Если дети смогут свободно заглядывать в память близких – у них возникнет общая память и весь жизненный опыт, все знания, все мечты станут для них общими и потому бессмертными. Если даже кто-нибудь из них умрет, он по-прежнему останется жить в других, потому что они – одно целое. Смерть потеряет то значение, которое мы придаем ей в нашем понимании, и утратит свой темный и таинственный смысл. Человечество обратится, наконец, к реализации своего природного назначения – станет единым, прекрасным союзом, единым целым. Говоря словами старинного поэта Джона Донна, выразившего то, что каждый из нас однажды почувствовал, – человек не может быть одиноким как остров. Какой думающий человек прожил жизнь без мысли об одиночестве человечества во Вселенной? Мы живем во тьме, поодиночке сражаясь со своим слабоумием, и в конце концов умираем, понимая всю бесцельность жизни. Не удивительно поэтому, что мы достигли немногого. Странно другое – что мы столького добились. Но все, что мы знаем и сделали, не может сравниться с тем, что будут знать и создадут выращенные нами дети.
Вот что говорил нам этот старый человек, Хэрри. Он первым понял все, что произойдет потом. Уже через год после этого все наши дети были связаны друг с другом телепатически, и каждый ребенок, родившийся в резервации, расширял их круг. Только мы, взрослые, навсегда были лишены возможности присоединиться к ним. Мы были из старого эшелона, они – из нового. Их путь был навсегда закрыт для нас. Они с легкостью могли читать наши мысли и делали это. Но мы были не в состоянии понять, как нашим детям удается проникать в посторонний разум и читать мысли на расстоянии.
Я не знаю, как рассказать тебе, Хэрри, о следующих годах нашей жизни в резервации. В нашем маленьком, замкнутом мире человек стал тем, чем должен был быть изначально. Мне трудно объяснить тебе это. Я сама не вполне могу понять, а тем более разъяснить, что означает находиться одновременно в сорока телах. Или что значит присутствие других в индивидуальности каждого как единого целого? Что значит чувствовать одновременно как мужчина и женщина? Могли ли дети объяснить нам все это? Вряд ли. Но насколько мы поняли, изменения должны произойти до наступления половой зрелости. Именно поэтому дети так естественно воспринимают этот рубеж. С этого момента они на всю жизнь становились простыми и открытыми. Они чувствовали неестественность в нас и не понимали, как мы можем жить, замкнувшись в своем одиночестве, и знать, что в конце концов каждого ждет смерть.
Мы счастливы, что все это им стало понятно не сразу. Сначала дети научились читать мысли друг друга, соприкасаясь головами. Но мало-помалу их владение дистанцией росло. К пятнадцати годам они могли уже зондировать мысли в любой точке планеты. Мы благодарим бога, что этого не случилось раньше. К этому времени они были уже готовы воспринимать все, что происходит в реальном мире. В более раннем возрасте такая информация могла бы оказаться губительной для них.
Я должна добавить, что двое наших детей, девяти и одиннадцати лет, погибли от несчастного случая. Но у остальных это вызвало лишь легкое сожаление. Они не испытывали ни горя, ни чувства потери и не проронили ни единой слезы. У них совсем иное представление о смерти. Для наших детей смерть – это только потеря плоти. Личность же бессмертна, и она сознательно продолжает жить в других. Когда мы заговорили о кладбищенской могиле и памятнике, они понимающе улыбнулись и сказали, что мы, конечно, можем сделать это, если нам кажется, что это нужно. Хотя позже, когда умер профессор Гольдбаум, их горе было глубоким и искренним, потому что он умер, как умирают все люди на земле.
Разумеется, каждый из наших детей оставался полноценной личностью с уникальным и неповторимым характером. Юноши и девушки влюблялись друг в друга, и их отношения ничем не отличались от обычных, но при этом все остальные разделяли их опыт. Ты можешь понять это? Я не могу. Для них все происходит иначе. Только преданность матери своему беспомощному ребенку может сравниться с любовью, связывающей наших детей. Впрочем, их любовь, возможно, даже глубже и сильнее материнской.
Эта метаморфоза произошла на наших глазах. Вначале дети иногда были раздражительны, сердиты и непослушны. Но после установления телепатической связи мы никогда больше не слышали, чтобы кто-то поднял голос в досаде или раздражении. Как они сами нам объясняли, когда между ними возникало разногласие, они вместе искореняли его, когда один заболевал, вместе лечили. К тому времени, когда им исполнилось девять лет, они совсем перестали болеть. Трое или четверо из детей специально занимались врачеванием, телепатически входя в тела своих товарищей и исцеляя их.
Их жизнь настолько удивительна, что я не могу описать ее словами. Даже после двадцати лет, проведенных бок о бок с нашими детьми, я имею смутное представление о ней. Но мне совершенно ясно, что они достигли той степени свободы, здоровья и счастья, которую не испытывал никогда ранее ни один человек. Что касается их внутренней жизни, она выше моего понимания.
Однажды я беседовала об этом с Арлен, высокой красивой девочкой, попавшей к нам из сиротского приюта в Идаго. Ей было тогда четырнадцать лет. Мы говорили об уникальности человеческой личности, и я сказала, что не понимаю, как она может развиваться как личность, будучи одновременно частью целого, составленного из многих других личностей.
– Но я остаюсь собой, Джин. Я не могу перестать быть собой.
– Но ведь другие – это тоже ты?
– Да, но я – это они.
– Кто же тогда управляет твоим телом?
– Я, конечно.
– А если твои товарищи захотят управлять твоим телом вместо тебя?
– Зачем?
– Ну, например, если бы ты сделала что-нибудь, с их точки зрения, недостойное? – неуверенно спросила я.
– Как я могла бы? – удивилась Арлен. – Вы можете сделать что-нибудь недостойное?
– Боюсь, что да. И делаю.
– Я вас правильно понимаю? Почему же тогда вы это делаете?
Вот так обычно и заканчивались все наши беседы. У нас, взрослых, для общения были только слова. У наших детей к десятилетнему возрасту уровень общения развился настолько, что он значительно превосходил пределы человеческой коммуникации, точно так же, как слова превосходят темные инстинкты животных. Если кто-то из детей видел что-то интересное, у него не было необходимости рассказывать об этом другим – остальные уже все видели его глазами. Меня особенно удивляет, что и сны они видели общие.
Я могла бы часами пытаться объяснить тебе то, что находится за пределами моего понимания, но это ничего не прояснит, не правда ли, Хэрри? У тебя, я думаю, и без того масса проблем, и я должна постараться, чтобы ты понял одно: произошло то, что и должно было произойти. Видишь ли, к десяти годам дети узнали все, что знаем мы, все, чему мы могли их научить. В результате оказалось, что мы сформировали единый разум, свободный и раскрепощенный, включающий в себя выдающиеся способности сорока прекрасных детей. Их единый разум был настолько чистым, подвижным и рациональным, что мы для них могли стать только объектом сострадания.
Один из педагогов, работающих у нас, – Аксель Кромвель, чье имя ты узнаешь без труда. Он один из наиболее выдающихся физиков мира, и именно он был лично ответственен за первую атомную бомбу. Он пришел к нам, как уходят в монастырь. Это был акт его искупления. Кромвель и его жена учили детей физике, но когда детям исполнилось восемнадцать лет, они сами стали учить Кромвеля. Годом позже Кромвель уже не мог угнаться за ними. Их аргументы были непостижимы, и символы, которыми они оперировали, выходили за пределы нашего понимания.
Приведу такой пример. На отдаленной части нашей бейсбольной площадки лежал валун весом, наверное, десять тонн. (Я должна заметить, что физическое развитие детей было в своем роде таким же выдающимся, как и умственное. Они значительно побили все существующие спортивные рекорды. Ты не представляешь, как здорово они ездят верхом. Их движения могут быть такими быстрыми, что нормальный человек по сравнению с ними кажется малоподвижным. Их излюбленная игра – бейсбол.)
Мы хотели взорвать валун или выкатить его с поля с помощью бульдозера. Но у нас ничего не выходило. В один прекрасный день мы обнаружили, что валуна на поле нет. На его месте лежал лишь толстый слой рыжей пыли. Мы спросили детей, что случилось, и они объяснили нам, что превратили валун в пыль. Как будто это было не более чем столкнуть маленький камень ногой с дороги! Как им это удалось? Попробую объяснить. Валун потерял свою молекулярную структуру и превратился в пыль. Дети рассказывали нам, как они этого добились, но мы не могли понять. Они пытались объяснить Кромвелю, как это может произойти под воздействием направленной сконцентрированной мысли. Но и Кромвель не мог их понять, как и все мы.
Я упомяну еще об одном. Наши дети построили силовую атомную установку, снабжавшую нас неограниченным количеством энергии. Они сконструировали так называемое свободное поле для легковых и грузовых автомобилей, и все наши машины теперь могли подниматься в воздух и передвигаться так же свободно, как по земле. Силой мысли дети могли воздействовать на атом, перемещать электроны, создавать один элемент из другого. Все это они делали так просто, как будто хотели лишь развлечь нас.
Теперь, я думаю, ты понимаешь, что представляют собой наши дети. И я должна рассказать тебе самое главное из того, что ты должен знать.
Через пятнадцать лет со дня создания резервации состоялось совместное собрание педагогов и воспитанников. Их было уже пятьдесят четыре, включая детей, родившихся у педагогов в резервации и составляющих теперь единое целое с основной группой. Я могу добавить, что это произошло несмотря на то, что первоначальный коэффициент IQ у этих детей был сравнительно низким. Наше собрание было серьезным и официальным. Причиной этого был назначенный на ближайшее время приезд комиссии. Это должно было произойти через месяц. От всех детей выступал Михаэль, итальянец по происхождению. Дети сами выбрали его для выступления – им достаточно было одного голоса.