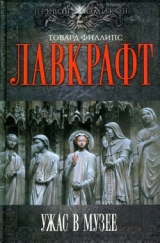
Текст книги "Ужас в музее"
Автор книги: Говард Филлипс Лавкрафт
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Говард Филлипс Лавкрафт, Зелия Бишоп
Локоны Медузы [60]60
Это третье из произведений Лавкрафта, созданных по заказу Зелии Бишоп. Написанная Лавкрафтом в мае-августе 1930 г., повесть была существенно сокращена А. Дерлетом для публикации в журнале «Weird Tales» (январь 1939 г.), а в полном виде она впервые появилась в сборнике «Ужас в музее» (1989).
[Закрыть]
(перевод М. Куренной)
I
Путь к Кейп-Жирардо пролегал по незнакомой местности, и, когда лучи предзакатного солнца приобрели сказочный густо-золотой оттенок, я понял, что надо спросить дорогу, иначе мне не добраться до города к ночи. Мне совершенно не хотелось мотаться по унылым равнинам южного Миссури после наступления темноты, поскольку грунтовые шоссе здесь находились в прескверном состоянии и в открытом автомобиле ноябрьский холод пробирал до костей. Вдобавок на горизонте собирались тучи – и потому я принялся внимательно обследовать плоские коричневатые поля, исчерченные длинными серыми и голубыми тенями, в надежде заметить какой-нибудь дом, где можно будет получить нужные сведения.
То был пустынный, безлюдный край, но наконец я разглядел крышу среди купы деревьев на берегу маленькой речушки – дом стоял примерно в полумиле от шоссе, по правую руку от меня, и к нему наверняка вела аллея или тропа, которую я вскоре увижу. За неимением поблизости другого жилья я решил попытать счастья там и премного обрадовался, завидев за кустами на обочине полуразрушенные резные каменные ворота, увитые сухими, мертвыми стеблями плюща и густо заросшие подлеском, каковое обстоятельство объясняло, почему издалека я не различил подъездную дорогу, тянущуюся через поля. Проехать здесь явно не представлялось возможным, а посему я аккуратно припарковал автомобиль у ворот, где плотные кроны вечнозеленых деревьев послужили бы для него защитой в случае дождя, и двинулся к дому пешком.
Пробираясь сквозь заросли кустарника в сгущающихся сумерках, я начал испытывать дурные предчувствия, порожденные, вероятно, зловещей атмосферой разрухи и запустения, что витала над старыми воротами и заброшенной подъездной аллеей. Судя по затейливой резьбе на каменных воротных столбах, здесь некогда находилось весьма и весьма богатое поместье; и я видел, что изначально дорогу с обеих сторон окаймляли ряды лип, часть которых к настоящему времени погибла, а остальные уже никак не походили на культурные насаждения среди окружающей дикой поросли.
Колючки дурнишника и репьи крепко цеплялись за одежду, и вскоре я уже начал задаваться вопросом, а живет ли здесь вообще кто-нибудь. Может, я понапрасну трачу время и силы? На миг я почувствовал искушение вернуться обратно и попытать удачи на какой-нибудь ферме дальше по шоссе, но уже в следующий момент вид показавшегося впереди дома возбудил во мне любопытство и азарт искателя приключений.
Было что-то чарующе-притягательное в окруженном деревьями обветшалом здании, явившемся моему взору, ибо оно свидетельствовало об изяществе и роскоши минувшей эпохи, воплощенных в чертах, характерных для архитектуры южных штатов, а не здешних краев. То был типичный плантаторский особняк, построенный по классическому архитектурному образцу начала XIX века: двухэтажный, с мансардой и большим ионическим портиком, колонны которого поддерживали треугольный фронтон на уровне мансарды. Здание явно находилось в состоянии крайнего упадка: одна из мощных колонн сгнила и обвалилась, а верхняя наружная галерея (или длинный балкон) угрожающе провисла. Насколько я понял, прежде рядом с ним стояли другие строения.
Поднимаясь по широким каменным ступеням на низкую веранду, к входной двери с веерообразным оконцем над ней, я вдруг здорово занервничал и сунул в зубы сигарету, собираясь закурить, но уже секунду спустя отказался от этой затеи, сообразив, что высохшее дерево повсюду вокруг может запросто вспыхнуть от малейшей искры. Хотя теперь представлялось очевидным, что дом необитаем, я все же не посмел нарушить царящий здесь величественный покой, предварительно не постучавшись, а посему с усилием приподнял залипшее дверное кольцо, изъеденное ржавчиной, и несколько раз осторожно брякнул в дверь, отчего все строение, как мне почудилось, сотряслось и жалобно затрещало. Ответа не последовало, но я снова постучал скрипящим массивным кольцом – столько же из желания рассеять тишину запустения, сколько с намерением привлечь внимание возможного обитателя сей руины.
Со стороны реки доносилось печальное воркование голубя, а журчание самого потока слышалось еле-еле. Словно в полусне, я подергал древний засов и крепко толкнул большую шестифиленчатую дверь. Она оказалась незапертой и неохотно открылась под моим напором, цепляясь за порог и визжа ржавыми петлями.
Я вступил в просторный, погруженный в полумрак холл, но уже в следующий миг пожалел о таком своем шаге. Не потому, что в этом сумрачном пыльном холле, обставленном старинной мебелью в стиле ампир, меня встретили полчища призраков, а потому, что я сразу понял: дом вовсе не пустует. Ступени широкой резной лестницы поскрипывали под тяжестью неуверенных шагов – кто-то медленно спускался вниз. Потом я увидел высокую сгорбленную фигуру, которая на мгновение вырисовалась на фоне большого палладианского окна [61]61
Палладианское окно– арочное окно в раннеклассическом стиле, названном по имени итальянского архитектора Андреа Палладио (1508–1580). Особняки в этом стиле были распространены в Америке конца XVIII – начала XIX в.; образчиком таковых является Белый дом в Вашингтоне.
[Закрыть]на лестничной площадке.
Первый приступ ужаса быстро прошел, и, когда человек спустился по последнему лестничному маршу, я уже приготовился поприветствовать домовладельца, чье уединение нарушил. В полумраке я увидел, как он полез в карман за спичками и зажег маленькую керосиновую лампу, стоявшую на шатком пристенном столике у подножия лестницы. В тусклом свете взору моему явился очень высокий, сутулый, изможденный старик, неряшливо одетый и небритый, но с осанкой и манерами истинного джентльмена.
Не дожидаясь, пока он подаст голос, я принялся торопливо объяснять свое появление здесь:
– Прошу прощения, что вошел без спроса, но, когда на мой стук никто не отозвался, я решил, что дом пустует. Вообще-то я хотел узнать дорогу к Кейп-Жирардо – в смысле, самый короткий путь. Рассчитывал добраться дотуда засветло, но теперь, конечно…
Когда я сделал паузу, переводя дыхание, старик заговорил – именно таким учтивым тоном, какой я ожидал услышать, и с мягким акцентом, столь же характерным для южных штатов, как вся архитектура ветхого особняка.
– Скорее, вы должны извинить меня за то, что я не сразу отозвался на ваш стук. Я веду крайне уединенный образ жизни и обычно не жду посетителей. Поначалу я принял вас за праздного любителя достопримечательностей. Когда же вы постучали вторично, я пошел открывать, но я несколько нездоров и вынужден передвигаться очень медленно. Радикулит, знаете ли, – пренеприятный недуг. Ну а добраться до города засветло у вас точно не получится. Выбранная вами дорога – а я полагаю, вы пришли от главных ворот, – не самый лучший и не самый короткий путь. Вам надо повернуть налево на первую же дорогу после ворот – я имею в виду настоящее шоссе. Там еще есть три или четыре проселка, которые следует пропустить, но мимо шоссе вы всяко не проскочите: прямо напротив него, чуть справа, растет огромная ива. Когда свернете, проедете два перекрестка, а на третьем повернете направо. Потом…
Сбитый с толку замысловатыми объяснениями (скорее усложнявшими дело для человека, совершенно незнакомого с местностью), я не удержался и перебил старика:
– Погодите минутку, пожалуйста! Да разве ж я смогу последовать всем вашим указаниям в кромешной тьме, коли никогда прежде не бывал здесь? Разве сумею отличить шоссе от проселков при слабом свете фар? Вдобавок, мне кажется, скоро разразится гроза, а у меня машина с открытым верхом. Похоже, я попаду в серьезную переделку, если не отступлюсь от намерения добраться до Кейп-Жирардо сегодня. По-моему, лучше и вовсе не пытаться. Я не люблю обременять людей своими проблемами или доставлять беспокойство любым другим образом – но с учетом сложившихся обстоятельств не могли бы вы приютить меня на ночь? Я не причиню вам никаких хлопот – мне не нужно ни еды, ни питья, ничего такого. Просто позвольте мне приткнуться в каком-нибудь уголке, чтобы проспать там до рассвета, и я буду вполне доволен. Автомобиль я оставлю на дороге у ворот – если он, на худой конец, намокнет под дождем, ничего страшного.
Излагая эту внезапную просьбу, я заметил, как лицо старика утрачивает прежнее кроткое выражение и принимает до странности изумленный вид.
– Вы хотите переночевать здесь?
Он казался настолько пораженным моей просьбой, что мне пришлось подтвердить:
– Ну да, хочу переночевать у вас – почему бы и нет? Честное слово, я не буду вам в тягость. Что еще мне остается делать? Я в ваших краях впервые, дороги здесь – чистый лабиринт, а сейчас вдобавок ко всему темно; и я готов поспорить, что максимум через час хлынет ливень…
Теперь настала очередь хозяина дома перебить меня, и в его звучном, мелодичном голосе послышались странные нотки:
– Ах, так вы впервые в наших краях! Ну разумеется, иначе вы не только не попросились бы ко мне на ночлег, а и близко не подошли бы к дому. Нынче сюда никто не наведывается.
Он умолк, и мое желание остаться тысячекратно усилилось, возбужденное намеком на некую тайну, почудившимся мне в лаконичных словах старика. Безусловно, все здесь дышало притягательно странной атмосферой, и в вездесущем запахе затхлости, казалось, таились тысячи секретов. Я снова обратил внимание на крайнюю ветхость всего вокруг, заметную даже при тусклом свете единственной керосиновой лампы. Я зябко поежился от холода и с сожалением осознал, что дом не отапливается. Однако, охваченный любопытством, я все равно горел желанием остаться и узнать побольше о престарелом отшельнике и его мрачном обиталище.
– Пускай так, – ответил я. – Насчет других мне дела мало, но сам я очень хотел бы найти пристанище до утра. И все же… может, местные жители обходят ваш дом стороной потому только, что он пришел в чрезвычайный упадок? Разумеется, чтобы содержать в порядке столь обширное поместье, необходимы огромные деньги, – но, если вам не потянуть такие расходы, почему вы не подыщете себе жилище поменьше? Какой смысл торчать тут до скончания дней, терпя многие лишения и неудобства?
Старик, похоже, нисколько не обиделся и промолвил самым серьезным тоном:
– Конечно, вы можете остаться, коли желаете, – насколько мне известно, вамздесь ничего не грозит. Но все в округе говорят, что в доме обитает нечистая сила. А я… я живу здесь потому, что мне нельзя иначе. Есть здесь нечто такое, что я считаю своим долгом охранять. Жаль, конечно, что у меня нет денег, здоровья и честолюбия, дабы надлежащим образом заботиться о доме и поместье.
Заинтригованный сильнее прежнего, я тотчас поймал хозяина на слове и медленно проследовал за ним по лестнице, когда он знаком пригласил меня подняться наверх. Уже совсем стемнело, и снаружи доносился тихий шум начавшегося наконец дождя. В данных обстоятельствах я обрадовался бы любому пристанищу, а этот окутанный атмосферой тайны дом казался мне вдвойне привлекательным. Для неисправимого любителя всего причудливого и загадочного трудно было найти более подходящий приют.
II
Угловая комната на втором этаже находилась в менее запущенном состоянии, чем весь остальной дом, и именно в нее хозяин привел меня. Он поставил маленький фонарь на стол и зажег лампу побольше. По опрятности и обстановке комнаты, а равно по пристенным стеллажам, забитым книгами, сразу стало ясно, что я не ошибся, предположив в домовладельце истинного джентльмена с развитым вкусом и прекрасным образованием. Безусловно, он был отшельником и чудаком, но при этом не опускался ниже достойного уровня и имел разносторонние интеллектуальные интересы. Когда старик знаком предложил мне сесть, я завел разговор на общие темы и с удовольствием обнаружил, что он довольно словоохотлив. Во всяком случае, он явно обрадовался заинтересованному собеседнику и даже не пытался увести разговор в сторону от предметов личного свойства.
Он носил имя Антуан де Рюсси и происходил из старинного, влиятельного, знатного рода луизианских плантаторов. Больше ста лет назад его дед – младший сын в семействе – перебрался в южный Миссури и с принятым в роду широким размахом основал новое поместье, возведя сей особняк с колоннами, а вокруг него – многочисленные хозяйственные и жилые строения, являющиеся неотъемлемой частью любой крупной плантации. Когда-то в хижинах позади особняка – на плоском участке земли, ныне затопленном рекой, – проживало двести негров, и всякий, кто слышал по вечерам их пение, смех и игру на банджо, в полной мере проникался очарованием жизненного уклада и общественного устройства, навеки, увы, оставшихся в прошлом. Перед домом, в окружении могучих дубов и раскидистых ив, простиралась подобием широкого зеленого ковра лужайка, всегда ухоженная, обильно политая и подстриженная, с плиточными дорожками, обсаженными цветами. Риверсайд (так называлось поместье) в те дни являл собой прелестный, идиллический уголок, и мой хозяин хорошо помнил времена, когда здесь еще сохранялись следы былого процветания.
Дождь теперь лил как из ведра. Упругие частые струи хлестали по ненадежной крыше, стенам и окнам, и вода просачивалась сквозь тысячи щелей и трещин, стекая тонкими струйками на пол в самых неожиданных местах. Крепчающий ветер с грохотом сотрясал изгнившие и расхлябанные наружные ставни. Однако я не обращал на все это ни малейшего внимания и даже не думал о своем автомобиле, оставленном под деревьями у ворот, ибо предвкушал услышать интересную историю. Увлеченный воспоминаниями, мой хозяин отказался от своего принятого было намерения проводить меня в спальню и продолжил рассказ о прежних, лучших днях. Я понял, что вот-вот прояснится вопрос, почему он живет один-одинешенек в древнем ветхом особняке, в котором местные жители видят обиталище некой злотворной силы. История, излагаемая чрезвычайно благозвучным голосом, вскоре приняла столь захватывающий оборот, что я напрочь забыл про сон.
– Да… Риверсайд построили в тысяча восемьсот шестнадцатом году, а в двадцать восьмом здесь родился мой отец. Доживи он до наших дней, ему сейчас было бы за сто лет, но он умер молодым – таким молодым, что я едва его помню. Он погиб на войне, в шестьдесят четвертом году… [62]62
…погиб на войне, в шестьдесят четвертом году… – Речь идет о Гражданской войне в США (1861–1865), в которой отец рассказчика участвовал на стороне южан.
[Закрыть]служил в седьмом Луизианском пехотном полку, ибо посчитал своим долгом записаться в армию в родном штате. Мой дед был слишком стар для сражений, однако он дожил до девяноста пяти лет и помогал моей матери растить меня. Надо отдать им должное – воспитание я получил хорошее. В нашем роду всегда сохранялись крепкие традиции и высокие понятия о чести, и дед позаботился о том, чтобы я воспитывался так, как воспитывались все де Рюсси, поколение за поколением, со времен Крестовых походов. Мы понесли серьезные финансовые потери, но не разорились – и после войны смогли жить вполне обеспеченно. Я учился в хорошей школе в Луизиане, а потом окончил Принстонский университет. Позже мне удалось превратить плантацию в весьма прибыльное хозяйство, хотя вы сами видите, в каком упадке она находится сейчас.
Моя мать умерла, когда мне было двадцать, а двумя годами позже скончался и дед. Без них мне стало очень одиноко, и в восемьдесят пятом году я женился на одной дальней родственнице из Нью-Орлеана. Наверное, моя жизнь сложилась бы иначе, доживи супруга до преклонных лет, но она умерла при родах нашего сына Дэниса. После того у меня остался один только Дэнис. Я не пытался жениться вторично, а посвятил все свое время мальчику. Он был похож на меня и на всех де Рюсси: высокий, худой, темноволосый и чертовски горячего нрава. Я дал сыну такое же воспитание, какое сам получил от деда, хотя в вопросах чести он не особо нуждался в наставлениях и поучениях. Полагаю, это было у него в крови. Никогда не встречал более благородной и пылкой души – я едва сумел удержать Дэниса, когда он собрался сбежать на Испанскую войну [63]63
Испанская война– т. е. испано-американская война 1898 года.
[Закрыть]в одиннадцатилетнем возрасте! Романтически настроенный чертенок, с самыми высокими понятиями о чести и долге, какие сейчас вы назвали бы викторианскими, – никаких проблем с приставаниями к черномазым девчонкам и тому подобное. Я отдал сына в ту же школу, где учился сам, а потом отправил в Принстонский университет. Он был выпускником тысяча девятьсот девятого года.
В конечном счете Дэнис решил стать врачом и год проучился на медицинском факультете Гарварда. Потом он вдруг загорелся идеей соблюсти старинную французскую традицию нашего семейства и убедил меня послать его в Сорбонну. Я так и сделал – с немалой гордостью, хотя и знал, сколь одиноко мне будет без любимого сына. Боже, как я жалею об этом своем шаге! Я думал, мальчик вроде него застрахован от всех парижских соблазнов. Дэнис снимал комнату на рю Сен-Жак – неподалеку от университета, в Латинском квартале, но, судя по его письмам и письмам его друзей, совсем не знался с беспутными прожигателями жизни, а водил знакомство главным образом с молодыми соотечественниками – серьезными студентами и художниками, которые думали больше о работе, нежели об эпатажных выходках да кутежах.
Но, разумеется, многие из знакомых Дэниса делили время между усердной учебой и пороком. Все эти эстеты, декаденты, знаете ли. Любители экспериментов в сфере чувственного восприятия – малые типа Бодлера. Само собой, мой мальчик нередко сталкивался с ними и невольно наблюдал за их жизнью. Они состояли в разных безумных сектах и отправляли всевозможные нечестивые культы – имитировали ритуал поклонения дьяволу, церемонию черной мессы и тому подобное. Думаю, в конечном счете им это не особо вредило – скорее всего, большинство из них через год-другой забывали о своих дурачествах. Сильнее всех прочих подобной бредятиной увлекался один парень, которого Дэнис знал еще со школы – и с отцом которого я сам водил знакомство, коли на то пошло. Некто Фрэнк Марш из Нью-Орлеана. Ученик Лафкадио Хирна, [64]64
Хирн,Патрик Лафкадио (1850–1904) – писатель, журналист и ученый-востоковед ирландско-греческого происхождения, с 1869 г. проживавший в США, а с 1890 г. – в Японии.
[Закрыть]Гогена и Ван Гога – истинное олицетворение бульварных девяностых. Бедняга – а ведь у него были задатки великого художника.
Марш был самым давним приятелем Дэниса в Париже, и потому они часто виделись – вспоминали прежние дни в академии Сен-Клэр и все такое прочее. Сын много писал мне о нем, но меня в ту пору не насторожили рассказы о группе мистиков, в которую входил Марш. Похоже, тогда представители левобережной богемы [65]65
…представители левобережной богемы… – Латинский квартал расположен на левом берегу Сены.
[Закрыть]повально увлекались каким-то доисторическим магическим культом Египта и Карфагена – несусветной чушью, якобы берущей начало в забытых источниках сокровенной истины, сохранившихся среди останков древнейших африканских цивилизаций – в Великом Зимбабве [66]66
Великое Зимбабве(Большое Зимбабве) – название, данное древнему каменному городу, руины которого расположены на территории современного Зимбабве. Период расцвета этого поселения приходится на XIII – начало XV в.
[Закрыть]и мертвых городах-колониях Атлантиды на нагорье Хоггар [67]67
Хоггар(Ахаггар) – нагорье в центральной Сахаре, где обнаружены доисторические наскальные рисунки, но не остатки древних городов, упоминаемых в рассказе.
[Закрыть]в Сахаре. В означенном культе было много разного вздора, связанного со змеями и человеческими волосами. По всяком случае, тогда я называл это вздором. Дэнис часто приводил в письмах странные высказывания Марша насчет фактов, кроющихся за легендой о змеелоконах горгоны Медузы и позднейшим египетско-эллинистическим мифом о Беренике, [68]68
Береника,тж. Вероника (ок. 266–221 до P. X.) – жена египетского царя Птолемея III, которая во время похода мужа в Азию обрезала волосы и посвятила их Афродите, моля богиню вернуть ей супруга живым и здоровым. Помещенные в храм волосы загадочным образом исчезли, а вскоре придворный астроном заявил, что обнаружил их на небе, где они превратились в созвездие, с той поры именуемое Волосы Береники (Вероники).
[Закрыть]которая во спасение своего мужа-брата принесла в жертву свои волосы, впоследствии помещенные богами на небо и превращенные в созвездие Волосы Береники.
Думаю, все эти дурацкие дела не производили особого впечатления на Дэниса до того рокового вечера, когда во время проведения очередного странного ритуала на квартире Марша он встретился с верховной жрицей. Большую часть приверженцев культа составляли юноши, но возглавляла оный молодая женщина, которая называла себя Танит-Исидой, [69]69
Танит– финикийская богиня любви и плодородия, почитавшаяся в образе луны; Исида– египетская богиня, культ которой позднее распространился на все античное Средиземноморье; покровительница плодородия, магии и супружества.
[Закрыть]хотя и не скрывала, что ее настоящее имя – данное ей в последнем воплощении, как она выражалась. – Марселина Бедар. Она утверждала, что является внебрачной дочерью маркиза де Шамо. Кажется, до своего увлечения весьма прибыльной игрой в магию она была средней руки художницей и заодно натурщицей. По слухам, Марселина какое-то время жила в Вест-Индии – вроде бы на Мартинике, – но сама она ничего не рассказывала о своем прошлом. В роли верховной жрицы она усиленно демонстрировала аскетизм и благочестие, но полагаю, студенты поискушеннее не воспринимали это всерьез.
Однако Дэнис был весьма и весьма неискушенным юношей, и он написал мне целых десять страниц разного сентиментального вздора о богине, которую повстречал на своем жизненном пути. Если бы я тогда сознавал, насколько он наивен и простодушен, я бы принял какие-нибудь меры, но мне просто не пришло в голову, что подобная мальчишеская влюбленность может иметь серьезные последствия. Я был до смешного уверен, что щепетильность в вопросах личной чести и фамильная гордость непременно уберегут Дэниса от любых крупных неприятностей.
С течением времени, однако, письма сына стали меня тревожить. Он все чаще и чаще упоминал о Марселине и все реже – о своих друзьях, а потом вдруг начал сокрушаться по поводу «глупой и оскорбительной неучтивости», с какой все они отказываются знакомить сию особу со своими матерями и сестрами. Похоже, Дэнис не задавал Марселине никаких вопросов о ее прошлом, и я нисколько не сомневаюсь, что она наплела ему с три короба романтических небылиц насчет своего происхождения, божественных откровений и многих унижений, претерпленных ею от окружающих. В конце концов мне стало ясно, что Дэнис совсем перестал знаться со старой компанией и почти все время проводит в обществе обольстительной жрицы. По ее настойчивой просьбе он никогда не говорил товарищам, что они с ней продолжают встречаться, а потому никто из них и не попытался расстроить эту любовную связь.
По-видимому, Марселина думала, что он баснословно богат, – ведь Дэнис выглядел настоящим аристократом, а люди определенного разряда считают всех американских аристократов богачами. Во всяком случае, она наверняка увидела в сложившейся ситуации редкий шанс сочетаться законным браком с молодым человеком, представляющим поистине выгодную партию. Ко времени, когда наконец моя тревога вылилась в прямые предостережения и советы, было уже слишком поздно. Мой мальчик вступил в законный брак и уведомил меня, что бросает учебу и приезжает в Риверсайд с молодой женой. Он писал, что Марселина принесла великую жертву, отказавшись от места главы магического культа, и что отныне она станет обычным частным лицом – хозяйкой Риверсайда и матерью будущих де Рюсси.
Я постарался отнестись к случившемуся спокойно. Я знал, что принятые у изощренных европейцев жизненные нормы и принципы сильно отличаются от наших, американских, – и в любом случае я не знал об этой женщине ничего по-настоящему плохого. Да, положим, она обманщица – но зачем же обязательно подозревать в ней некие худшие качества? Полагаю, ради моего мальчика я старался смотреть на все сквозь розовые очки. Представлялось очевидным, что в данной ситуации разумнее всего оставить Дэниса в покое, покуда его молодая жена следует правилам поведения, принятым в роду де Рюсси. Надо дать ей шанс проявить себя – возможно, она не нанесет особого ущерба фамильной чести, вопреки моим опасениям. Посему я не стал возражать или требовать от сына раскаяния. Сделанного не воротишь – и я приготовился встретить Дэниса с распростертыми объятиями, кого бы он ни привез с собой.
Они прибыли через три недели после того, как я получил телеграмму с сообщением о свадьбе. Спору нет, Марселина оказалась настоящей красавицей, и я хорошо понял, почему мой мальчик потерял голову из-за нее. В ней чувствовалась порода, и я до сих пор считаю, что в ее жилах имелась примесь благородной крови. На вид ей было немногим больше двадцати лет – среднего роста, тонкая и стройная, с царственной осанкой и грациозной пластикой тигрицы. Лицо темно-оливкового цвета, похожего на цвет старой слоновой кости, и огромные черные глаза. Мелкие, классически правильные черты (хотя, на мой вкус, недостаточно четкие) – и самая роскошная грива смоляных волос из всех, какие мне доводилось видеть в жизни.
Неудивительно, что Марселина привнесла в свой магический культ тему волос: обладательнице столь густой и пышной шевелюры такая мысль должна была естественным образом прийти на ум. Крупные крутые локоны придавали ей вид восточной принцессы с рисунков Обри Бердслея. [70]70
Бердслей, Обри Винсент (1872–1898) – английский художник-график, автор изысканных иллюстраций к поэме А. Поупа «Похищение локона» и трагедии О. Уайльда «Саломея».
[Закрыть]Ниспадая волнами по спине, волосы спускались ниже колен и сияли, переливались на свету, точно некая живая субстанция, обладающая собственным нечестивым существованием. При виде них я бы и сам невольно вспомнил Медузу или Беренику, даже если бы Дэнис не упоминал сии имена в своих письмах.
Иногда мне чудилось, будто они слегка шевелятся, словно пытаясь разделиться на пряди или скрутиться в локоны, но, скорее всего, то была просто игра воображения. Марселина постоянно расчесывала волосы и, похоже, умащала каким-то бальзамическим средством. Однажды они представились мне (странная, нелепая фантазия!) неким самостоятельным живым существом, требующим ухода и регулярного кормления. Дурацкая мысль, конечно, – но она усугубила смутное беспокойство, которое вызывала у меня эта женщина со своими роскошными волосами.
Ибо должен признать: несмотря на все свои старания, я так и не сумел проникнуться симпатией к своей снохе. Я сам не понимал толком, в чем тут дело, но что-то в ней вызывало у меня легкое безотчетное отвращение и порождало жутковатые болезненные ассоциации. Цвет ее кожи наводил на мысли о Вавилоне, Атлантиде, Лемурии [71]71
Лемурия– термин, введенный в 1864 г. английским зоологом Ф. Склэтером для обозначения гипотетического древнего континента, якобы простиравшегося от Мадагаскара на западе до Зондского архипелага на востоке и п-ова Индостан на севере. Этим он хотел объяснить тот факт, что ископаемые останки лемуров, ныне характерных только для фауны Мадагаскара, встречаются также в Индии и Юго-Восточной Азии. Лемурия и ее древние обитатели фигурируют также в сочинениях теософов и писателей-фантастов.
[Закрыть]и ныне забытых ужасных царствах доисторического мира, а ее бездонные темные очи порой казались мне глазами какого-то богопротивного лесного существа или звероподобной богини, слишком древней, чтобы в полной мере походить на человека. Волосы же Марселины – небывалой густоты и длины ухоженная смоляная грива с сочным маслянистым блеском – приводили меня в содрогание, точно огромный черный питон. Она, безусловно, замечала мое невольное отвращение (хотя я старался скрывать свои чувства), но не показывала виду.
Однако страстная влюбленность Дэниса не шла на убыль. Он положительно пресмыкался перед женой, оказывая ей повседневные мелкие услуги с прямо-таки тошнотворной угодливостью. Она, казалось, отвечала взаимностью, но я видел, что ей стоит немалых трудов изображать ответные восторг и умиление. Думаю, Марселина здорово раздосадовалась, узнав, что мы не так богаты, как она предполагала.
В общем, дело было плохо, и прискорбные тенденции набирали силу. Дэнис, ослепленный своей мальчишеской любовью, начал отдаляться от меня, когда заметил мою неприязнь к Марселине. Так продолжалось месяц за месяцем, и я понимал, что теряю единственного сына, который являлся смыслом моей жизни на протяжении последней четверти века. Признаюсь, я испытывал горькую обиду – любой отец на моем месте чувствовал бы то же самое. Но я ничего не мог поделать.
Первые несколько месяцев Марселина довольно успешно справлялась с ролью жены, и наши друзья приняли ее без всяких придирок и вопросов. Однако мне не давала покоя мысль о том, что могут написать своим родственникам приятели Дэниса, оставшиеся в Париже, когда новость о его женитьбе распространится. Несмотря на любовь сей особы к секретности, брак не мог держаться в тайне вечно – собственно говоря, Дэнис сам сообщил о нем нескольким ближайшим своим друзьям (строго конфиденциально), едва лишь поселился с женой в Риверсайде.
Я стал все больше времени проводить в своей комнате, ссылаясь на нелады со здоровьем. Как раз тогда у меня начал развиваться радикулит, а потому отговорка звучала вполне убедительно. Дэнис, казалось, не замечал моего недуга и вообще не интересовался мной и моими делами. Бессердечное равнодушие сына причиняло мне боль. У меня появилась бессонница, и я часто по ночам ломал голову, пытаясь понять, почему же все-таки новоиспеченная сноха вызывает у меня такое отвращение и даже смутный страх. Безусловно, прежняя мистическая чепуха была здесь ни при чем, ибо Марселина покончила со своим прошлым и никогда о нем не вспоминала. Она даже не занималась живописью, хотя в свое время, насколько я знал, баловалась красками.
Как ни странно, мое беспокойство разделяли одни только слуги. Черномазые сразу же отнеслись к ней крайне враждебно, и в считаные недели все они уволились, кроме самых преданных слуг, сильно привязанных к нашей семье. Немногие оставшиеся – кухарка Делила, старый Сципион, его жена Сара и дочь Мери – держались по возможности вежливо, но всем своим видом недвусмысленно давали понять, что прислуживают новой госпоже только по обязанности, но никак не по любви. Все свободное время они проводили в своих комнатах в заднем флигеле особняка. Наш белый шофер, Маккейб, выказывал Марселине скорее наглое восхищение, нежели неприязнь, а другим исключением являлась древняя зулуска, которая, по слухам, приехала из Африки более ста лет назад, а ныне жила в маленькой хижине на положении своего рода семейного пенсионера. При виде Марселины старая Софонизба неизменно выражала самые униженные знаки почтения, и однажды я видел, как она целует землю, по которой ступала госпожа. Чернокожие страшно суеверны, и я задался вопросом, не морочит ли Марселина нашим слугам головы своей мистической чепухой, чтобы преодолеть их нескрываемую неприязнь.








