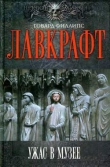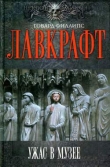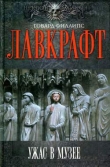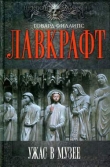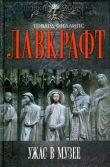Текст книги "Хребты Безумия"
Автор книги: Говард Филлипс Лавкрафт
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Ну, если ты решился, отправляемся сегодня же вечером. Думаю, картины тебе понравятся: как уже было сказано, я дал себе волю, когда писал. Путь недалекий, иногда я даже добираюсь пешком; взять такси в такой район – значит привлечь к себе внимание. Можно доехать поездом от Саут-Стейшн до Бэттери-стрит, а там два шага пешком».
Что ж, Элиот, после этой речи мне ничего не оставалось, как только сделать над собой усилие, чтобы не бегом, а обычным шагом отправиться за первым, какой попадется, свободным кебом. На Саут-Стейшн мы сели в надземку и около полуночи, спустившись по ступеням на Бэттери-стрит, двинулись вдоль старой береговой линии мимо причала Конститьюшн. Я не следил за дорогой и не вспомню, в который мы свернули переулок, знаю только, что это был не Гриноу-лейн.
Наконец повернув, мы двинулись в горку по пустому переулку, старинней и обшарпанней которого я в жизни не видел; с фронтонов осыпалась краска, окна в частом переплете были побиты, остатки древних каминных труб сиротливо вырисовывались на фоне освещенного луной небосклона. Все дома, за исключением разве что двух-трех, стояли здесь еще со времен Коттона Мэзера. Два раза мне попадались на глаза навесы, а однажды – островерхий силуэт крыши, какие были до мансардных, хотя местные знатоки древностей утверждают, будто таких в Бостоне не сохранилось.
Из этого переулка, освещенного тусклым фонарем, мы свернули в другой, где было так же тихо, дома стояли еще теснее, а фонарей не было вовсе. Через минуту-другую мы обогнули в темноте тупой угол дома по правую руку. Вскоре Пикман вынул электрический фонарик и осветил допотопную десятифиленчатую дверь, судя по всему безнадежно источенную червями. Отперев ее, он провел меня в пустой коридор, отделанный роскошными некогда панелями из темного дуба – без особой, разумеется, затейливости в рисунке, но явственно напоминавшими о временах Эндроса, Фиппса и ведовства. [29]29
…о временах Эндроса, Фиппса и ведовства. – Эдмунд Эндрос (1637—1714) и Уильям Фиппс (1651—1695) управляли колонией Массачусетс в 1686—1689 и 1692—1694 гг. соответственно. На то же время пришелся пик «охоты на ведьм» в Новой Англии.
[Закрыть]Потом Пикман провел меня в комнату налево, зажег масляную лампу и предложил располагаться как дома.
Имей в виду, Элиот, я человек, что называется, искушенный, но, оглядев стены, признаюсь, оторопел. Там были картины Пикмана – те, которые на Ньюбери-стрит не только не напишешь, но даже не покажешь, и он был прав в том, что «дал себе волю». Ну-ка еще по стаканчику – мне, во всяком случае, позарез нужно выпить!
Не стану и пытаться описать тебе эти картины: от одного взгляда на них становилось дурно. Это был такой смердящий, кощунственный ужас, что язык тут бессилен. Ты не обнаружил бы в них ни причудливой техники, как у Сидни Сайма, ни устрашающих транссатурнианских пейзажей и лунных грибов Кларка Эштона Смита. [30]30
Смит, Кларк Эштон (1893—1961) – американский поэт, скульптор, художник и автор фантастических рассказов, на протяжении 15 лет поддерживавший активную переписку с Лавкрафтом.
[Закрыть]Задний план обычно составляли старые кладбища, лесные дебри, береговые утесы, кирпичные туннели, старинные комнаты, отделанные темным деревом, или просто каменные своды. Любимым местом действия было кладбище Коппс-Хилл, которое располагалось поблизости, в двух-трех кварталах.
Фигуры на переднем плане воплощали в себе безумие и уродство: Пикману особенно удавались мрачные, демонические портреты. Среди его персонажей было мало полноценных людей, их принадлежность к роду человеческому ограничивалась теми или иными отдельными чертами. Стояли они на двух ногах, но клонились вперед и слегка напоминали собак. Отталкивающего вида кожа походила во многих случаях на резину. Ну и мерзость! До сих пор они стоят у меня перед глазами! За какими занятиями они были изображены, в подробностях не выспрашивай. Обычно кормились, но чем – не скажу. Временами они были показаны группами на кладбище или в катакомбах, нередко – дерущимися из-за добычи, а вернее, из-за находок. И какую же дьявольскую выразительность Пикман умудрялся придать незрячим лицам их жертв! Его персонажи запрыгивали иной раз по ночам в открытые окна, сидели, скорчившись, на груди у спящих, тянулись к их шеям. На одной картине, изображавшей Висельный холм, они окружали кольцом казненную ведьму, в лице которой прослеживалось явственное с ними сходство.
Но только не подумай, будто мне сделалось дурно от жутких сюжетов и антуража. Мне не три года, я всякого навидался. Дело в их лицах, Элиот, в их треклятых лицах, что буквально жили на картине, бросая злобные взгляды и пуская слюни! Бог мой, они вправду казались живыми! Адское пламя, зажженное красками, бушевало на полотнах мерзкого колдуна; кисть его, обращенная в магический жезл, рождала на свет кошмары. Дай-ка, Элиот, мне графин!
Одна из картин называлась «Урок» – лучше бы мне никогда ее не видеть! Слушай… можешь вообразить кружок невиданных тварей, похожих на собак, что, сидя на корточках, учат малое дитя кормиться так же, как они? Наверное, это подмененный ребенок: помнишь старые россказни о том, как таинственный народец крадет человеческих детей, оставляя взамен в колыбелях собственное отродье? Пикман показал, что случается с украденными детьми, как они вырастают, и после этого я начал замечать зловещее сходство в лицах людей и нелюдей. Показывая разные степени вырождения, от легких его признаков до откровенной потери человекоподобия, он глумливо протягивал между ними нить эволюции. Собаковидные твари произошли от людей!
Я еще не успел задуматься о том, как бы он изобразил собственное отродье этих тварей, навязанных людям подменышей, как мой взгляд уперся в картину, отвечавшую на этот вопрос. На ней было старинное пуританское жилище: мощные потолочные балки, окно с решетками, скамья со спинкой, громоздкая мебель семнадцатого века; семья сидела кружком, отец читал из Библии. Все лица выражали почтительное достоинство, лишь одно кривилось в дьявольской усмешке. Оно принадлежало человеку молодому, но уже не юноше, который явно находился здесь на правах сына набожного главы семейства, но на самом деле происходил от нечистого племени. Это был подменыш, и Пикман, в духе высшей иронии, придал ему заметное сходство с собой самим.
Пикман успел зажечь лампу в соседней комнате, открыл дверь и, любезно ее придерживая, спросил, хочу ли я взглянуть на его «современные этюды». От страха и отвращения мне отказал язык, и я ничего из себя не смог выдавить, но Пикман, похоже, понял меня и остался очень доволен. Заверяю тебя еще раз, Элиот: я вовсе не мимоза и не шарахаюсь от всего, что хоть чуточку расходится с привычными вкусами. Я не юноша и достаточно искушен; думаю, ты, зная меня по Франции, понимаешь, что такого человека не так-то легко выбить из колеи. Помни также, что я уже пришел в себя и кое-как притерпелся к ужасным холстам, на которых Новая Англия была представлена как какой-то придаток преисподней. Так вот, несмотря на это, в соседней комнате я невольно вскрикнул и схватился за дверь, чтобы не упасть. В первой комнате толпы гулей и ведьм переполняли мир наших предков, в этой же они вторгались в нашу повседневную жизнь!
Боже, что это была за живопись! Один этюд назывался «Происшествие в метро», там стая этих мерзких тварей выбиралась из неизвестных катакомб через трещину в полу станции подземки «Бойлстон-стрит» и нападала на людей на платформе. Другой изображал танцы среди надгробий на Коппс-Хилл, фон был современный. На нескольких дело происходило в подвалах; монстры протискивались через дыры и проломы в каменной кладке, сидели на корточках за бочками и печами и, злобно сверкая глазами, поджидали, пока спустится по лестнице первая жертва.
На одном полотне, самого отталкивающего вида, было представлено поперечное сечение холма Бикон-Хилл, пронизанного сетью ходов, в которых кишели, подобно муравьиным армиям, зловонные монстры. Неоднократно встречались изображения танцев на современных кладбищах, а один сюжет почему-то поразил меня больше остальных: в неведомом сводчатом помещении несколько десятков тварей теснились вокруг одной, которая, держа в руках популярный путеводитель по Бостону, очевидно, что-то зачитывала из него вслух. Все указывали на один из ходов, морды были перекошены в пароксизме безудержного, оглушительного хохота – я почти что слышал его адское эхо. Название картины гласило: «Холмс, Лоуэлл и Лонгфелло покоятся на кладбище Маунт-Оберн».
Постепенно успокаиваясь и приноравливаясь к второй комнате с ее собранием демонов и рожденных больной фантазией сцен, я попытался понять, что меня особенно в них отвращало. Прежде всего, сказал я себе, создания Пикмана свидетельствуют о полном бессердечии их творца, о воображении, не обузданном никакими человеческими чувствами. Так упиваться муками разума и плоти, деградацией смертной оболочки человека мог только закоренелый враг рода людского. Во-вторых, картины вселяли тем больший ужас именно вследствие мастерского исполнения. Это искусство было на редкость убедительным – глядя на картину, ты видел подлинных демонов и трепетал перед ними. Странно было то, что Пикман словно бы ни о чем не умалчивал и ничто не искажал. В рисунке не было ничего расплывчатого, условного: четкий контур, жизнеподобие, педантично-подробная прорисовка. А лица!
Ты видел их не через призму восприятия художника – это был пандемониум как он есть, изображенный кристально ясно и объективно. Богом клянусь, это чистая правда! В Пикмане не было ничего от фантазера, сочинителя, он даже не пытался воплотить на полотне мимолетные образы сна – нет, он холодно и насмешливо фиксировал некий прочно устоявшийся механистический мир ужасов, который был открыт ему полностью, с ясностью, не допускавшей иных толкований. Одному Создателю известно, что это был за мир и где являлись Пикману богохульственные образы, передвигавшиеся по нему шагом, рысью или ползком, но, гадая о том, откуда они взялись, в одном можно было не сомневаться: во всех аспектах своего искусства – и в замысле, и в исполнении – Пикман был полным и добросовестным реалистом, опиравшимся едва ли не на научное знание.
Хозяин повел меня теперь в подвал, где, собственно, располагалась его студия, и я готовил себя к тому, чтобы обнаружить на его неоконченных полотнах новые дьявольские сюрпризы. Когда мы добрались до подножия осклизлой лестницы, Пикман осветил фонариком угол обширного пространства и луч уперся в круглое кирпичное сооружение – очевидно, большой колодец в земляном полу. Мы приблизились, и я разглядел, что он достигает в поперечнике футов пяти, стенки, толщиной в добрый фут, поднимаются над грунтом дюймов на шесть и сделан колодец весьма основательно – работа семнадцатого века, если не ошибаюсь. Пикман пояснил, что это как раз то, о чем он рассказывал: вход в сеть туннелей, которые в былые годы пронизывали холм. Я заметил между прочим, что колодец не заложен кирпичом, а прикрыт тяжелой деревянной крышкой. При мысли о том, что, если намеки Пикмана не были празднословием, через колодец можно попасть в места самые разные, меня пробрала легкая дрожь. Затем мы повернули, поднялись на одну ступеньку и, войдя в узкую дверь, оказались в довольно большой комнате с дощатым полом, оборудованной под студию. Ацетиленовая горелка давала достаточно света, чтобы можно было работать.
Неоконченные картины на мольбертах или у стен производили такое же отталкивающее впечатление, что и оконченные, которые я осмотрел наверху, и были так же тщательно выписаны. Наброски были подготовлены с большим старанием, карандашные линии свидетельствовали о том, что Пикман заботился о правильной перспективе и пропорциях. Он был великий художник – говорю это даже сейчас, когда мне многое стало известно. Я обратил внимание на большую фотокамеру на столе, и Пикман объяснил, что фотографирует сцены, которые собирается использовать как фон, чтобы рисовать их в студии с фотографий, а не выезжать со всеми принадлежностями на этюды. Пикман считал, что фотографии с успехом заменяют натуру или живую модель, и, по его словам, постоянно их использовал.
Мне было очень тревожно в окружении тошнотворных эскизов, наполовину законченных монстров, злобно пялившихся из всех углов, и, когда Пикман внезапно сдернул чехол с громадного полотна, которое стояло в тени, я – второй раз за вечер – не удержался от крика. По темным сводам старинного душного подземелья побежало многократное эхо, и я едва не откликнулся на него истерическим хохотом. Боже милостивый, Элиот, я не знал, где здесь правда, а где больное воображение. Казалось, никто из обитателей нашей планеты не мог бы измыслить ничего подобного.
Это было нечто колоссальных размеров и кощунственного облика, с горящими красными глазами; оно держало в костистых лапах другое нечто, прежде бывшее человеком, и глодало его голову, как ребенок грызет леденец. Наклонная поза чудовища наводила на мысль, что оно вот-вот уронит свою добычу, чтобы устремиться за более сочным куском. Но, черт возьми, неудержимый, панический страх нагоняло не само это исчадие ада с его собачьей мордой, острыми ушами, налитыми кровью глазами, уплощенным носом и слюнявой пастью. Самым страшным были не чешуйчатые лапы, тело с налипшими комьями земли, не задние ноги с подобием копыт – хотя человеку впечатлительному хватило бы и всего перечисленного, чтобы повредиться в уме.
Дело было в живописи, Элиот, проклятой, нечестивой, противоестественной живописи! Богом клянусь, в жизни не видел такой живой картины, она буквально дышала. Чудовище сверкало глазами и вгрызалось в добычу, и я понимал: пока действуют законы природы, никто не способен создать подобную картину без модели; художник должен был хотя бы мельком заглянуть в нижний мир, куда имеет доступ лишь тот из смертных, кто продал душу дьяволу.
К свободному участку полотна был приколот кнопкой скрученный листок, и я предположил, что это фотография, с которой Пикман собирался писать фон, столь же кошмарный, что и передний план. Я потянулся к листку, чтобы расправить и рассмотреть, но тут Пикман вздрогнул, словно его подстрелили. С того мгновения, когда мой испуганный крик пробудил в темном подземелье непривычное эхо, Пикман не переставал напряженно прислушиваться, теперь же он явно испугался, хотя не так, как я: причина страха была реальная. Он вытащил револьвер, сделал мне знак молчать, шагнул в основное подвальное помещение и закрыл за собой дверь.
Похоже, меня на мгновение просто парализовало. Вслед за Пикманом я прислушался: откуда-то донесся, вроде бы, слабый топот, откуда-то еще – взвизги и жалобный вой. Подумав о гигантских крысах, я содрогнулся. Потом послышался приглушенный стук, от которого у меня по коже побежали мурашки. Он был какой-то неуверенный, вороватый – не спрашивай, что это значит, я не могу объяснить. Словно тяжелый деревянный предмет бился о камень или кирпич. Дерево о кирпич – понимаешь, что это мне напомнило?
Те же звуки, теперь громче. Перестук, словно деревяшка отлетела в сторону. Резкий скрежет, бессвязный выкрик Пикмана, шесть оглушительных выстрелов – так стреляет в воздух, ради пущего эффекта, цирковой укротитель. Приглушенный вой или визг, удар. Снова стук дерева о кирпич. Наступила тишина, и дверь открылась. Признаюсь, я дернулся так, что едва устоял на ногах. Вошел Пикман с дымящимся револьвером, кляня на чем свет зажравшихся крыс, что шныряют в старинном колодце.
«Черт разберет, Тербер, где они находят корм, – ухмыльнулся он. – Эти древние туннели сообщаются с кладбищем, логовом ведьм и морским побережьем. Как бы то ни было, они оголодали: им до чертиков хотелось выбраться наружу. Наверно, их потревожил твой крик. В этих старинных домах все бы хорошо, если б не соседство грызунов, хотя временами мне думается, для атмосферы и колорита они не лишние».
Ну вот, Элиот, на том и завершилось наше ночное приключение. Пикман обещал показать мне дом и, видит небо, выполнил это обещание сполна. Обратно он повел меня через лабиринт переулков, вроде бы в другую сторону: первый фонарь я увидел на полузнакомой улице с однообразными рядами современных многоквартирных строений и старых домов. Это была Чартер-стрит, но откуда мы на нее вывернули, я не заметил, потому что голова у меня шла кругом. На поезд мы уже опоздали, пришлось идти пешком по Хановер-стрит. Этот путь мне запомнился. Мы шли по Тримонт, потом по Бикон; на углу Джой я простился с Пикманом и свернул за угол. После этого я и словом с ним не перемолвился.
Почему я с ним порвал? Не торопи события. Погоди, я позвоню, чтобы принесли кофе. Мы уже изрядно нагрузились другим напитком, но что касается меня, мне это было необходимо. Нет, дело не в картинах, которые я видел в студии, хотя из-за них Пикмана подвергли бы остракизму чуть ли не во всех домах и клубах Бостона; и, думаю, тебя больше не удивляет, что я избегаю метро и всяческих подвалов. Виною разрыва был один предмет, который я на следующее утро обнаружил у себя в кармане куртки. Ты ведь помнишь: к жуткому полотну в подполе был прикноплен свернутый листок и я подумал, что это фотография, с которой Пикман собирался писать фон для своего чудовища. Когда произошел переполох, я как раз разворачивал бумажку и, наверное, машинально затолкал ее себе в карман. Ага, вот и кофе. Лучше черный, Элиот, сливками только испортишь.
Да, именно из-за этой бумажки я порвал с Пикманом – Ричардом Аптоном Пикманом, величайшим художником из всех, кого я знаю, и самым отвратительным ублюдком из всех, кто когда-либо перешагивал границы бытия, чтобы погрузиться в пучину бреда и безумия. Старина Рейд был прав, Элиот. Пикман был не вполне человеком. Он либо рожден под сенью тайны, либо нашел ключик к запретным вратам. Но это теперь неважно, он исчез – возвратился в мифическую мглу, где так любил блуждать. Да, распоряжусь-ка я, чтобы зажгли свет.
Только не спрашивай меня о сожженной бумаге; я не собираюсь делиться ни объяснениями, ни даже догадками. Не спрашивай и о том, что там была за возня в подполе, которую Пикман так старался приписать крысам. Знаешь, со старых салемских времен в мире уцелели некоторые тайны, а в рассказах Коттона Мэзера встречаются и не такие чудеса. Тебе ведь известно, каким поразительным правдоподобием отличались картины Пикмана и как мы все гадали, откуда он взял эти лица.
Так вот, насчет листка: выяснилось, что никакая это не фотография фона. Все, что там было, это чудовищная тварь, которую Пикман изображал на полотне. Это была его модель, а фоном служили стены подземной студии, видные во всех подробностях. Но, боже мой, Элиот, это была фотография с натуры.
Скиталец тьмы [31]31
Рассказ написан в ноябре 1935 г. и впервые опубликован год спустя в декабрьском номере журнала «Weird Tales». Он является своего рода ответом на рассказ «Пришедший со звезд», написанный в том же 1935 г. Робертом Блохом, большим поклонником творчества Лавкрафта. Последний посвятил свой рассказ Блоху, а тот в 1950 г., уже после смерти своего учителя, написал рассказ «Тень на колокольне», завершивший эту своеобразную трилогию.
[Закрыть]
(Перевод О. Алякринского)
Посвящается Роберту Блоху
Осмотрительные дознаватели едва ли рискнут пойти наперекор общему мнению, согласно которому причиной смерти Роберта Блейка стала молния или сильное нервное потрясение, вызванное электрическим разрядом. Верно, что окно, у которого он стоял, осталось целым, однако природа не раз демонстрировала нам свою способность к необычайным феноменам. Выражение же его лица могло быть обусловлено неким рефлекторным сокращением лицевых мышц, причина коего могла и не иметь ни малейшего отношения к им увиденному, а вот иные записи в его дневнике, бесспорно, явились плодом его фантастических вымыслов, рожденных под влиянием местных суеверий, а также обнаруженных им древностей. Что же касается паранормальных явлений в заброшенной церкви на Федерал-Хилл, то проницательный аналитик без труда отметит их связь с шарлатанством, сознательным или невольным, к коему Блейк имел тайное касательство.
Ведь, в конце концов, несчастный был писателем и живописцем, всецело погруженным в области мифов, сновидений, кошмаров и суеверий, и в своих штудиях выказал сильную склонность к необычным сценам и эффектам. Его прежний приезд в этот город – с визитом к странному старику, так же как и он сам, интересующемуся оккультной и запретной мудростью, – сопровождался смертью в языках пламени, и, должно быть, он вновь прибыл сюда из родного Милуоки, подчинясь некоему мрачному инстинкту. Возможно, ему были известны какие-то предания, вопреки его утверждениям об обратном в дневниковых записях, а его гибель, вероятно, уничтожила в зародыше некую грандиозную мистификацию, приуготовленную обрести литературное воплощение.
Среди тех, однако, кто изучал и сопоставлял данные обстоятельства, остаются немногие упрямцы, отдающие предпочтение гипотезам менее рациональным и менее отвечающим здравому смыслу. Они склонны трактовать многие пассажи дневника Блейка в буквальном смысле и многозначительно указывают на некоторые факты, такие как несомненная подлинность старинных церковных книг, достоверное существование до 1877 года одиозной еретической секты адептов «Звездной Мудрости», как и задокументированное исчезновение в 1893 году чересчур дотошного репортера по имени Эдвин М. Лиллибридж и – самое главное – чудовищный, неописуемый ужас, запечатлевшийся на лице молодого журналиста в момент его смерти. Именно один из таких упрямцев, будучи склонным к фанатическим крайностям, выбросил в воды залива тот самый камень причудливой огранки вместе со странно изукрашенным металлическим ларцом, обнаруженным внутри шпиля старой церкви, – именно там, в черном шпиле без окон, а вовсе не в башне, где, как указывалось в дневнике Блейка, изначально хранились эти предметы. Сей ученый муж – знаменитый врач, имевший склонность к мистическим преданиям, чьи поступки вызывали большей частью общественное порицание, – как прямо, так и косвенно уверял, будто избавил землю от чего-то чрезвычайно опасного, что не должно было долее на ней пребывать.
Из двух этих мнений читатель должен сам выбрать для себя то, которое ему больше по душе. В газетах факты были освещены с позиций скептиков, однако противоположный лагерь может сослаться на сохранившийся рисунок того, что увидел Роберт Блейк, – или того, что ему показалось, будто он увидел, – или что он себе вообразил. Теперь же, изучив его дневник более внимательно, бесстрастно и без спешки, можно восстановить всю цепь мрачных событий с точки зрения их основного участника.
Молодой Блейк вернулся в Провиденс зимой с 1934-го на 1935 год и обосновался на верхнем этаже старинного особняка, стоящего посреди зеленой лужайки неподалеку от Колледж-стрит – на гребне большого холма в восточной части города близ Браунского университета, как раз позади мраморного здания библиотеки Джона Хея. Это было чудесное уютное жилище в самом сердце небольшого садового оазиса, изобилующего приметами сельской старины, где в солнечный день дружелюбные исполинские коты лениво грелись на крыше амбара. Он поселился в квадратном доме георгианского стиля, с прозрачной крышей, с классической дверью, обрамленной изумительными резными косяками, с окнами, сложенными из множества стеклянных квадратиков, и иными приметами зодчества начала девятнадцатого века. Внутри были большие комнаты, разделявшиеся дверьми о шести панелях, настланный широкими досками пол, изогнутая лестница колониальной поры и белые камины в стиле Адама; [34]34
Стиль Адама– неоклассический архитектурный и декоративный стиль, названный в честь шотландского архитектора Роберта Адама (1728—1792) и его братьев, которые ввели этот стиль в употребление.
[Закрыть]к тому же имелось еще несколько задних комнат, расположенных на три ступеньки ниже основного уровня.
Кабинет Блейка, просторная юго-западная комната, выходил южной частью на сад перед домом, а западными окнами – перед одним из них стоял его письменный стол – на кромку холма, и за ним открывалась изумительная перспектива на городские крыши внизу и на таинственные закаты, полыхавшие вдали. За крышами виднелись алые склоны холмов, и на их фоне, примерно в двух милях, высилась призрачная громада Федерал-Хилл, с поблескивающими гроздьями крыш и церковными шпилями, зыбкие очертания которых таинственно колыхались в окутывавших их клубах дыма, воспаряющих ввысь из печных труб и принимающих порой самые причудливые формы. У Блейка рождалось странное ощущение, что он наблюдает нечто неведомое, некий эфемерный мир, который может растаять, точно сон, если только он предпримет попытку найти его и вступить в его пределы.
Выписав из дому большинство своих книг, Блейк купил кое-какую старинную мебель, подходящую для его нового обиталища, и стал писать и рисовать, живя в полном уединении и самолично занимаясь нехитрыми домашними делами. Его спальня находилась в чердачном помещении северного крыла, где стеклянные панели прозрачной крыши давали чудесное освещение. В ту первую зиму на новом месте он создал пять из своих наиболее знаменитых повестей – «Пещерный житель», «Ступени склепа», «Шаггай», «В долине Пнат» и «Звездный сибарит» – и написал семь холстов: портреты неведомых монстров неземной наружности и в высшей степени странные пейзажи.
В закатный час он часто сиживал за своим столом и сонно смотрел на западный горизонт – на темные башни Мемориал-Холла, на колокольню георгианского здания городского суда, на высокие остроконечные башни в центральной части города и, разумеется, на те зыбкие глыбы увенчанных шпилями зданий вдалеке, чьи безвестные улицы и лабиринты фронтонов столь властно будоражили его воображение. От соседей он узнал, что дальний склон был когда-то обширным индейским поселением и многие тамошние строения сохранились еще со времен первых английских и ирландских поселенцев. Время от времени он наводил свою подзорную трубу на этот призрачный недостижимый мир за клубящейся завесой дыма, рассматривая отдельные крыши, печные трубы и шпили и размышляя о странных и любопытных тайнах, ими хранимых. Даже в окуляре оптического прибора Федерал-Хилл являлся Блейку чем-то неведомым, почти сказочным, имеющим тайную связь с потусторонними неосязаемыми чудесами, коими буйная фантазия населила его литературные и живописные творения. И это ощущение не покидало Блейка даже после того, как город на холме растворялся в фиолетовых сумерках, а огни уличных фонарей, подсветка здания суда и красный прожектор Индустриального треста озаряли ночное небо причудливым заревом.
Из всех далеких зданий Федерал-Хилл воображение Блейка в особенности поражала одна большая темная церковь. Она была видна особенно четко в определенные часы суток, и на закате ее высокая башня и конический шпиль проступали черным силуэтом на пылающем небе. Казалось, она стоит на некоем возвышении, ибо фасад и едва видное северное крыло с покатой крышей и верхними рамами огромных сводчатых окон величественно вздымались над крышами соседних зданий и частоколом печных труб. В ее облике угадывалось нечто особенно мрачное и грозное, и она, казалось, была сложена из каменных глыб, за последние несколько веков исхлестанных суровыми ветрами и потемневших от копоти и сажи. По стилю же, насколько позволяла разглядеть подзорная труба, это был образчик ранней экспериментальной неоготики, что предшествовала периоду величественных творений Апджона [35]35
Апджон, Ричард (1802—1878) – американский архитектор, уроженец Англии; один из основателей и первый президент Американского института архитекторов. Строил монументальные церкви в неоготическом стиле, способствовав его популяризации в США.
[Закрыть]и позаимствовала некоторые линии и пропорции у Георгианской эпохи. Вероятно, постройка была возведена между 1810 и 1815 годами.
Шли месяцы, и Блейк всматривался в далекое строение со все возрастающим интересом. Так как огромные окна никогда не были освещены, он сделал вывод, что здание заброшено. И чем более он туда вглядывался, тем живее разыгрывалось его воображение, пока он наконец не начал измышлять самые диковинные вещи. Ему чудилось, будто над этим зданием витает аура унылого запустения, так что даже голуби и ласточки избегали укрываться под его закопченными карнизами. Направив подзорную трубу на соседние башни и колокольни, Блейк замечал стаи гомонящих птиц, но это здание они старались облетать стороной. Во всяком случае, так ему казалось, и это наблюдение он занес в свой дневник. Он порасспросил кое-кого из знакомых об этом строении, но никто из них не бывал на Федерал-Хилл и не имел ни малейшего понятия, что там за церковь.
Весной Блейком овладело глубокое смятение. Он начал давно задуманный роман – о возрождении в штате Мэн ведьмовского культа, – но странным образом его сочинение никак не двигалось вперед. Долгими часами он просиживал за своим столом перед западным окном, вглядываясь в далекий холм и в черную угрюмую колокольню, покинутую птицами. Когда же на садовых деревцах появились первые хрупкие листочки и весь мир наполнился новорожденной красотой, беспокойство Блейка лишь усилилось. Именно тогда-то ему в голову и пришла мысль пройти через город и, поднявшись на тот холм, вступить в задымленный мир своих грез.
В конце апреля, как раз в канун мистической Вальпургиевой ночи, Блейк совершил первое путешествие в неведомое. Он долго брел по бесконечным городским улочкам, миновал унылые, заброшенные площади и наконец добрался до карабкающейся вверх по склону улочки, выложенной древними ступенями, вдоль которых толпились дома с покосившимися дорическими портиками и закопченными окнами в куполообразных крышах, – эта улица, как ему мнилось, должна была привести в давно его соблазнявший неведомый, недостижимый и укрытый туманной пеленой мир. Он видел выцветшие бело-голубые уличные таблички с надписями, не сообщавшими ему ровным счетом ничего, и вскоре заметил в толпе странные темные лица куда-то спешащих людей и иностранные вывески над витринами магазинов, разместившихся в бурых, покосившихся от времени домишках. Но Блейк не смог найти ничего из того, что виделось ему издалека, и в который уж раз он вообразил, что увиденный им из окон его дома Федерал-Хилл всего лишь бесплотный мир грез, куда никогда не ступит нога смертного.
На пути ему то и дело попадались облупившиеся фасады церквей или полуразрушенные колокольни, но черного громадного строения, которое он искал, нигде не было видно. Когда же он задал вопрос об огромном каменном храме некоему торговцу, тот только улыбнулся и как бы непонимающе покачал головой, хотя по-английски он говорил весьма сносно. Чем выше Блейк взбирался по склону, тем более причудливый вид обретали городские кварталы, а пугающий лабиринт угрюмых улочек, что вились в южном направлении, казался бесконечным. Он пересек два или три широких проспекта, и раз ему даже почудилось, что впереди мелькнула знакомая башня. Блейк спросил у другого уличного торговца о каменном храме и на этот раз мог бы поклясться, что недоумение его собеседника было фальшивым. Смуглое лицо торговца омрачила тень страха, который тот попытался скрыть, и Блейк заметил, как он сотворил какой-то непонятный знак правой рукой.
И вдруг слева на фоне неба, высоко над бурыми черепичными крышами, столпившимися вдоль бегущих к югу улочек, Блейк увидел черную громаду храма. Он тотчас же понял, что это, и по немощеным проулкам, ответвлявшимся от улицы, поспешил к храму. Дважды он сворачивал не в ту сторону, но чутье подсказало ему не спрашивать дорогу ни у старцев, ни у домохозяек, сидящих на крылечках у своих домов, ни у ребятни, копошащейся в дорожной грязи.