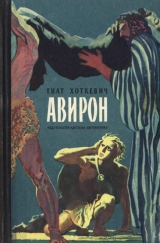
Текст книги "Авирон (Повесть)"
Автор книги: Гнат Хоткевич
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
– Так-так! Это все хорошо, то, что вы говорите, но у нас и без того очень поубавилось скота, а тут еще давай, и давай, и давай на жертвы! А какая мне от того польза? Так я сам съел бы этого барана, а кости отдал бы своей собаке, а так его съедят жрецы и прислужники. А тебе, за то что кормил, берег, запасал, и хвоста не достанется! И я спрашиваю вас: что в этом хорошего?
– Грех так говорить, – предостерегал другой. – Грех и срам. Это жертва богу, а не людям.
– Ну хорошо – богу. Но зачем же богу непременно мясо? Почему он не хочет чего-нибудь другого? А потому, что левиты мясо любят.
– Прикуси язык, добрый человек! Да мы никогда и не видели этого мяса. Ты бы хоть о том подумал: хватит ли нескольких ваших баранов на стольких слуг божиих?
Это вмешался невесть откуда взявшийся здесь левит. За последнее время их вообще стало повсюду полно: где бы ни собралась кучка людей, где бы ни завязался разговор, глянь – левит уже тут как тут, стоит, слушает, ввязывается в беседу. Но эта обязанность их службы была так нова, что люди забывали о ней и принимали их за таких же, как и все остальные иудеи: один был из колена Иудина, другие – из Ицгарова, а эти – из Левиина, вот и все.
Но теперь рыжий почему-то с неприкрытой враждебностью посмотрел на левита и буркнул:
– Поди донеси Моисею…
– Я не доносчик, да и доносить тут не о чем, а вот у тебя куща, верно, неподалеку от кущи Корея, его словами говоришь.
И левит, замкнувшись в броню равнодушной неприступности, отошел прочь и приблизился к другой кучке. Тут низенький, толстый, но подвижной иудей критиковал простоту жертвоприношений и вообще обрядности.
– Ну что это такое? – говорил он, жестикулируя. – Сегодня взяли барана, разрубили на части, кое-что сожгли, кое-что съели; завтра взяли другого, разрубили его немного иначе и опять кое-что сожгли, а кое-что съели. И все происходит тут же, на глазах у всех, без всякой торжественности, без всякой тайны. Ну что это за обряд? Я люблю так молиться, чтобы по спине бегали мурашки, чтобы было что послушать, что повидать. Тогда человек и молится иначе, и мысли у него становятся другие, и сам он больше привязывается к богу. Вон у египтян! Да разве можно с нами сравнить? Какие у них храмы, ай-ай-ай!.. Целый день будешь ходить да так и заблудишься среди тысяч и тысяч колонн. А туда, где жрецы делают свое дело, туда разве ты можешь не то что проникнуть, а хоть глянуть одним глазком? А ну, хотел бы я посмотреть, кто посмеет?! Так бы и сдох на месте! А как выйдет процессия – жрецы все в золоте, а опахала блестят драгоценными камнями, а боги в цветах, а музыка, а песни – и-и-и!.. Вот тут уж молятся так, что кожа лопается, а глаза лезут на лоб. А у нас? Пхе! – И он презрительно выпятил губы.
– Но откуда же нам взять такой храм, как у египтян? Ведь мы сегодня тут, а завтра где?..
– А я разве говорю – именно такой? Разве я так, именно так сказал? Мне не надо такой, но пусть мне дадут бога, чтобы я его видел, чтобы мог поцеловать, дотронуться рукой. А то разве я видел своего бога? Или ты, или он, он – да хоть кто-нибудь? А ну, выйди вперед, кто видел бога?
Иудей говорил громко и сильно размахивал руками.
– Моисей видел, – робко ответил кто-то.
– Моисей! – живо подхватил низенький. – А что у меня прибавилось оттого, что Моисей видел? Кто видел, тот пусть и верит, а я не видал, так и… не… – Он остановился и быстро обвел всех своими лисьими глазками, но сразу же взял прежний тон: – Ну, я могу верить, а могу и нет. Я-то верю, почему же, но… но разве все такие, как я? Есть и такие, что не верят.
– И ты с ними, – бросил кто-то из толпы.
Черненький испугался и стал клясться, что он всегда давал на жертву и что его никто не может упрекнуть, но его мало кто слушал. А левит, казалось, и совсем не слышал, о чем шла речь, – он стоял, отвернувшись, и пристально смотрел на гору. Разговор больше не клеился, и все разошлись в разные стороны, присоединяясь к другим группам.
Между тем солнце уже не на шутку припекало. Люди забеспокоились, всем хотелось есть. Высказывались более крикливо и менее связно; каждый требовал, чтобы его сразу выслушали и чтобы слушали его одного. То одна, то другая мать, вопя, словно пришел ее последний час, задирала на ребенке рубашку и давала несколько звонких шлепков; а те, что были помоложе, отведя детей в сторону, словно за делом, и, прикрывая своей одеждой, украдкой вынимали из-за пазухи сыр и совали детям в рот, приказывая есть поскорее. Но ребенок, наевшись, похвалялся перед товарищами, те бежали к своим матерям и сыпали укоры, как из мешка: все едят, а мы… всем детям матери дают, а нам… и так далее. И между матерями разгорался спор: одна укоряла другую грехом и пугала божией карой, а другая оправдывалась, что она сама – боже сохрани! – даже и не подумала есть, только чуточку, совсем чуточку дала ребенку, а с детей даже бог не спросит строго: ведь они же такие еще глупые. Разве они понимают, что такое пост?
И всем очень надоело стоять; даже у передних, которые все видели и слышали и были охвачены религиозным экстазом, даже у них полуденное солнце уже все выпарило и осталось только ощущение тяжелой усталости. И потому можно себе представить, как все обрадовались, когда вдруг увидели своих вождей, спускавшихся с горы. Все необычайно оживились, забыли и про зной, и про голод и, крича, стали протискиваться к тому месту, куда должны были сойти старейшины: каждому хотелось посмотреть на людей, которые за минуту перед тем видели следы стоп господних и, может быть, даже целовали их.
А кучка старцев с Моисеем во главе медленно и торжественно шла, окруженная радостно рукоплещущим Израилем, и отвечала на вопросы. Все были целы и невредимы, ни один волос не упал ни с чьей головы; только глаза их горели от счастья, а губы сами говорили, подбирая самые лучшие, самые сокровенные слова. На этот раз Авирон уже протиснулся в первый ряд и слышал все от слова до слова.
Восторг был полный! Старики видели то, чего не доводилось никому из них видеть за всю жизнь.
Место, где стояли ноги господа, было, как бы это сказать… как камень сапфир, только где там!.. Разве бывает камень сапфир таким светлым, таким сияющим, таким лучистым, как солнце, и таким прозрачным, как само ясное небо?.. Нет, это нечто иное, неземное, такие камни могут быть только на небесах!
А вокруг все выжжено! Такой большой круг, и в нем все черно, как гнев божий, и Моисей говорит, что так было бы со всяким, кто приблизился бы к месту тому без божьего соизволения. О славен господь! И славен Моисей, наш великий пророк! Он, один он может говорить с богом – и остаться в живых!
А Моисей стоял в стороне и молчал. Лицо у него было строгое, и только глаза горели таким огнем, что пророк и впрямь казался сам богом.
И все люди были довольны, и вернулись к кущам, и ели, и пили, и славили господа и его пророка, а своего верховного вождя – Моисея.
IV
А потом случилось это…
Моисей снова пошел на гору, к богу, взяв с собою молодого Иисуса, сына Навина. Уходя, он не сказал, сколько времени пробудет на горе, когда его ждать; просто оставил за себя Аарона и ушел.
И все видели, как он вошел в темную тучу, которая все еще окутывала вершину горы, и все были спокойны: в самом деле, что из того, что вождь оставляет свой народ на несколько дней? Всего на несколько дней.
Но прошло три дня, пять, семь, а Моисея не было. Чем это можно было объяснить? Люди гадали по-всякому и вообще много, может быть, даже слишком много говорили об этом; скажет кто-нибудь неразумное слово, о котором минуту спустя и сам забудет, а оно уже, глядишь, полетело по сонму, вырастая, как снежный ком, и тревожа умы. И в конце концов случилось так, что народ заволновался, и все пришло в замешательство… Встанут поутру соседи, первый вопрос: не вернулся? Женщины собирались у источника и, набрав воды, забывали, что солнце согревает ее, что дома нет ни капельки, и тараторили, тараторили без конца всё об одном. Они нарочно ходили по воду как можно дальше, чтобы увидеть еще и других женщин, чтобы услышать, что говорят там, на другом конце стана. И после каждой из этих утренних и вечерних встреч по сонму разматывался новый клубок вестей, запутывая даже светлые умы и вливая отраву сомнений даже в крепкие души. Словно ту воду, которую приносили женщины, выливали они вместе со всеми свежими вестями в камень веры мужей, и расщелина сомнений росла, и камень растрескивался и рассыпался прахом.

А там забеспокоились уже и мужчины. Их недоверчивость и сомнение были не так подвижны и живы, не перелетали десять раз на день от одних ворот стана к другим, но тем крепче укоренялись они в головах и сидели там, как камни пустыни в своих гнездах. И немногочисленны были эти сомнения, не расцвечивались они такими разнообразными, пестрыми красками, но, раз зародившись, уже не переставая неуклонно росли, как хорошо откормленный бык. И вечерняя беседа мужчин была хмурой и долгой; женщины приближались к собеседникам, но их прогоняли: не больно-то приятно мужу выставлять свои сомнения перед женой. И все-таки женщины продолжали лезть, хотя, в сущности, могли бы и вовсе этого не делать: ведь каждая из них была уверена, что обо всем узнает у мужа ночью. Да ведь то ночью: и женщины крутились поблизости, ввязывались в разговоры, не оставляя мужьям даже и этих нескольких часов.

Хорошо, но что же думает обо всем этом Аарон, заместивший Моисея? Можно ли представить себе, что он ничего этого не видит, не слышит? Да как же он позволяет нарастать волнению среди людей? Ужели он не знает, что из такого семени всегда произрастает горький плод?.. Нет, он, верно, видит все, только что он может? И в конце концов кто его послушает? Когда могучий вождь удаляется и ставит на свое место другого, все тотчас же принимаются сравнивать и убеждаются, что тот, новый, даже и не напоминает вождя, хотя бы просто потому, что никто и не может быть у вождя преемником. А убедившись, впадают в лень и непослушание, словно давая себе перевести дух.
Так было и с Аароном, только в еще большей степени, ибо он был человек мягкий, добросердечный и ласковый, но бесхарактерный и безвольный. Мог ли он своими робкими руками держать народ в узде? Да еще какой народ – Израиля, который боролся с самим богом и уже не раз, не два топтал его заповедь. Перед Моисеем дрожали, и ему не приходилось даже говорить, а уж если он говорил, все были уверены, что слово его неколебимо, и никому в голову не приходило ослушаться. На что уж Корей и тот ни разу не посмел воспротивиться открыто – высмеивал украдкой, критиковал, но исполнял каждое повеление. А что не опустился на колени вместе со всеми, так ведь он стоял далеко позади; очутись он в первых рядах, вблизи Моисея, стал бы на колени, как и все, и не пикнул бы!
Совсем другое дело Аарон. Грустно было смотреть на его «верховный суд». К Моисею приходили, трепеща, бледные; говорили мало, и только дело; лгущий невольно запинался, сбивался, и сразу было видно, кто прав, а кто нет. А когда Моисей после минутного размышления произносил свой суд, тяжущиеся отходили с глубокими поклонами, покорясь приговору, каков бы он ни был. А перед Аароном вели себя, как перед всяким другим старейшиной: кричали, ссорились, даже дрались перед ним. Один клянется страшной клятвой, что он прав, а виноват другой, а тот еще более страшной клятвой подтверждает противное. Аарон слушает их, робко пытается утихомирить, а когда, наконец, гвалт прекращается и начинается суд, Аарон, словно боясь обидеть и того и другого истца, выносит приговор, которым остаются недовольны обе стороны, и они расходятся еще большими врагами, чем были.
А в последние дни Аарон под бременем своих обязанностей и вовсе потерял голову. Люди словно ошалели. Среди них распространялась весть – измышление преступного разума, – будто Моисей давно умер, пропал там, на горе, а стало быть, и весь сонм, тысячи мужчин, женщин, детей остались здесь, среди пустыни, не зная пути вперед и позабыв путь назад. Теперь только стало им ясно, каким безумством был их поход и какая сила был Моисей. Это же он один вел все эти тысячи по безвестной жадной пустыне, умея добывать воду и находить путь. Никто не спрашивал его, знает ли он дорогу в ту неведомую обетованную землю или, так же как все, идет наобум, куда глаза глядят. Никому даже на ум не взбредало спросить себя: а по каким же признакам узнает Израиль обещанную землю? Вот придут куда-то, Моисей скажет: «Да! Сюда я вел вас, эту землю обещал нам господь». И что же, так это и будет? И он не заблудится и не заведет их в какой-нибудь иной край?
Словом, сомнений не было, и тревога спала. На могучей горе – на груди Моисея – устроился покой народа. А вот теперь, как заколебалась она, как, быть может, и вовсе не стало ее, – теперь сомнения вышли на поверхность. Вышли вдруг сразу все – и пропал покой. Тысячи вопросов осаждали голову, неуверенность свила гнездо в груди Израиля и вывела птенцов, имя которым – страх. И эти чудовищные ночные птицы разлетелись по стану, залетели в каждую кущу, смутили спокойствие домашнего очага. Весь стан израильский наполнился шумом их крыльев, смешанным с гомоном встревоженных, ошалевших людей.
– А ты думаешь, Моисей кто? Может быть, ты думаешь, что в жилах его не течет кровь и что тело его не боится оспы?
– Правда, правда! Он такой же человек, как мы все, и также может умереть каждую минуту.
– А может быть, и умер уже, – всякий раз прибавлял незнакомый голос и замолкал.
Все долго искали глазами, кто это сказал, но ни разу не смогли найти, ибо это говорил каждый в душе своей. И от слов этого невидимки всякий раз становилось страшно, хотя он, в сущности, ничего нового не сказал. Но, раз ступив на стезю ужаса, люди уже боялись даже свернуть с нее и рисовали себе самые невероятные случайности, которые могли ожидать Моисея там, на горе. Кто-нибудь пытался неудачно и неуклюже защищаться:
– Не может этого быть… Ведь если он говорил с самим богом…
– Так тем хуже! То-то и дело, что тем хуже! – восклицал другой, чуть ли не радуясь своему страху.
– Еще бы! Вот я тебе скажу: знал я в Египте одного чужеземца, который умел говорить со львами. И никогда их не боялся, ходил на место, где они ели, даже выдирал у них пищу из пасти, спал с ними в их логовах. И что же? Все равно кончилось тем, что львы разорвали его. Изо всех слов, которые он знал, позабыл он только одно, маленькое…
– Так, так… Кто бесперечь лазит на высокое дерево, непременно сорвется с него, когда от старости либо от усталости ослабнут руки…
Солнце закатывалось в крови, и этот яркий жестокий свет еще больше дразнил людские помыслы, подталкивал людей на край бездны. Говорили о самом страшном, и то, что говорили о самом страшном, придавало всем боязливой отваги, делало людей дерзкими, способными посягнуть на покров божьей тайны, кощунственно сорвать его на глазах у всех. А потом снова смотрели на закат, предчувствуя, что вот скоро, сейчас настанет ночь, и тогда беседы станут еще страшнее и голос еще сильнее задрожит.
– Почему все люди видят своих богов? – нарочито громко говорила высокая иудейка. У нее был большой рот, и это свидетельствовало о сильной, решительной натуре. – Почему все люди видели своих богов и только мы нет? – подымала она голос еще выше; волосы выбились у нее из-под покрывала и мотались по лицу. – Я повидала кое-что на своем веку и знаю: у всех людей должны быть свои боги и у всех они есть. Говорят нам, что и у нас есть, но где? Где он? Покажите мне его! Я видела Озириса, я видела бога Пта, я видела Изиду под черным ее покровом, но я никогда не видела Еговы. Нам говорит Моисей, будто он видал…
– Нет, он никогда этого не говорил! – перебил кто-то.
– Как не говорил? Говорил! Я сам слышал! И не раз!
– Не мог ты слышать, потому что он не говорил этого никогда.
Начинался спор, которому каждый был рад, потому что это хоть на минуту отвлекало от страшной темы. Поднимался шум, после которого никто уже не мог сказать наверное: говорил Моисей, будто видел бога, или нет.
– Но что мне с того, что он видел? Я-то не видел!
– И где он, тот, что видел?
– Может, уже и кости его белеют там, средь камней… А мы сбились здесь, как отара, и ждем.
– Завел нас в пустыню и бросил. Куда нам теперь?
– Он нас вел. Он хвалил ту землю, которой мы не знаем. О, зачем мы послушались его и вышли из Египта? Не лучше ли было трудиться нам на египтян, чем умирать страшной смертью здесь, в песках? Где наш путь и где надежда наша? Мы не знаем, что будем есть завтра. В Египте мы горько трудились, но сидели над горшками, полными мяса, и хлебов у нас было досыта, а тут голодная смерть угрожает нам и нашим детям. Он ушел, он пропал, он умер там, и бог его нас оставил. И нет у нас теперь бога, и некому вести нас. Почему у всех людей есть бог и только у нас не было его никогда? Сделаем же себе бога! Поклонимся ему! Пусть он ведет нас куда хочет, мы пойдем за ним.
И напрасно рассудительные и богобоязливые силились успокоить народ, угрожали, предостерегали. Ничто не помогало. Людей охватил ужас. Они чувствовали себя так, словно вдруг повисли над бездной и цепляются за острые камни. И в криках людей слышалась тревога, и движения их были скованы страхом, и голоса их поражали беспокойством, и горестен был плач их жен. Казалось, если не найдут они себе бога тотчас же, сию минуту, все обезумеют, потому что ведь тогда все пропало, всюду смерть… И наступала ночь, и не приносила никому покоя. Она долго тянулась, потом кончалась, и снова наступал день, еще более знойный, еще более тревожный; солнце распаляло сердца…
И среди всех этих толп полуобезумевших людей одиноко и сиротливо толкался один – Авирон, и душа у него разрывалась на части. Падала слава Моисея! Падала вера! Рушился божий чертог!
– Да приди же ты, наконец, приди, пророк! – со стоном простирал он руки и порывался бежать туда, на гору, в ту страшную черную тучу, которая все не оставляла ее.
Найти там Моисея, рассказать ему, что все гибнет, чтобы вернулся он, строитель, и вновь связал своим словом своевольных одиночек. Ведь уже снова восстал Израиль на бога и заменил глас молитвы воплем бесноватого. И оскверняет святыню и путем господа небрежёт. Вернись, праведник! Ты один можешь умолить предвечного и отвести карающую десницу. Вернись!
Но что мог сделать он, мальчик? Да и захочет ли Моисей заговорить с ним, если бы даже удалось его там найти? Поверит ли? И не испепелит ли гора дерзновенного, не убьет ли его камень, как того пса?.. И Авирон только окроплял крик своей души слезами.
V
А однажды людей словно прорвало.
Все проснулись рано, точно с готовым уже решением. Не сговариваясь и не советуясь, сошлись большой гурьбой и, наполнив воздух криками, двинулись к куще Аарона. Движения их были дики, и лица их были лицами тех, кто топчет имя бога. Словно криком и сверканием глаз хотели они подавить укоры совести, словно хотели забыться в вихре безудержных жестов и безумных слов.
И толпа шла и по дороге разрасталась; женщины и дети выбегали вперед. Лучше всего было детям: они носились среди кущей, подымая такую пыль, что ничего не было видно, подхватывали обрывки речей старших и выкрикивали их, как непреложные истины; а взрослые, слыша свои мысли, повторенные в воздухе тысячи раз, исполнялись уверенности, что и в самом деле произнесли великие слова. И обе стороны были довольны.
Вот и куща Аарона. Толпа стала, и крик окреп, перешел в неистовство, само порождающее потребность в крике. Тот, кого Моисей оставил за себя, вышел бледный, дрожащий и долго не мог произнести ни слова, оглушенный толпой.
И только когда она затихла, заговорил, но слова его были такие простые, такие… обыденные! О, разве так сказал бы Моисей?
– Чего хочет от меня Израиль? – Это, только это произнес Аарон. Голос его дрожал и рука нервно комкала бороду.
Диким воплем ответила госпожа толпа, празднуя свою силу и смирение предводителя. Ничего нельзя было разобрать.
Аарон просил, чтобы кто-нибудь один или хоть несколько вышли вперед и высказали волю народа, но ничто не помогало – говорили все разом. И размахивали палками перед самым лицом Аарона, и женщины кричали ему прямо в уши:
– Сделай нам бога! Довольно обманывать! Мы хотим иметь бога, как все люди!
А другие вопили еще громче:
– Где твой Моисей? Где этот златоуст, который наврал нам с три короба о какой-то там земле? Дай нам его, мы разорвем его тут на куски и кровью его напоим песок пустыни, может, хоть этим умилостивим здешних богов, и они не уморят нас здесь голодом и жаждой и не убьют вражескими стрелами.
– Да он уже сдох, тот Моисей, там, на горе! – кричали третьи. – Думаешь, мы не знаем?
– Ты здесь вместо него! Так давай нам бога, а то мы убьем тебя вместо брата!
И Аарон испугался. Он и сам теперь сомневался в душе: а что, если Моисей и впрямь погиб? Вот уже скоро полтора месяца, как брат ушел, – и ни слуху ни духу. И Аарон вообразил себя во главе этого дикого, своевольного народа, и душа его затрепетала: «Что я сделаю с ними, с этими людьми, упрямыми, как быки? Дурно поступил брат, именно меня поставив здесь…»
Беспомощный, робкий Аарон готов был безропотно отдать тяжкое бремя власти над Израилем, знать бы только кому. Вот и теперь: он и не пытался защищать закон, установленный братом, и не посягал обуздать народ, потому что сам понимал – ничего из этого не выйдет. Он только просил женщин отдать свои серьги и кольца и все украшения, чтобы сделать из них бога: наивный старик думал, что женщинам станет жаль драгоценностей и они возопят и сдержат своих мужей.
Но Аарон не умел оценить того, что называется человеческой одержимостью. Стоило только сказать ему о золоте, как женщины стали срывать с себя все, что было на них золотого, а мужчины следом за ними побросали в кучу свои шейные обручи, нагрудники и пояса с золотыми бляхами; те, у кого не было при себе золота, побежали к кущам за спрятанным в тайниках; и не прошло и двух часов, как перед кущей Аарона собралась большая груда всевозможных золотых украшений.
И Аарон увидел решимость Израиля и смелость, с которой народ порывал с законом Моисея. Он еще пытался оттянуть время, говорил, что вот, мол, надо сделать большие приготовления, что придется долго лепить форму, составлять разные порошки и прочее, – словом, что все это не так просто, как иные себе представляют. Но толпа вытолкнула вперед старого и прославленного мастера Веселиила и понуждала его взяться за работу.
– Этот сделает быстро!
– Ого! Да еще как!.. К нему и египтяне шли, когда надо было отливать богов.
– Эй ты, старый пьянчужка! А ну покажи Аарону, на что ты способен!
Веселиилу пришлось громко при всех дать согласие, и только после того, как он заверил, что бог будет готов завтра, самое позднее послезавтра, люди успокоились и с песнями и криками радости разошлись по кущам.
– Вот теперь и у нас будет свой настоящий бог.
– Пусть ведет нас дальше, до каких пор нам здесь стоять?
– Зачем дальше? Пусть лучше вернет нас в Египет.
…И Авирон слышал это и ломал руки…
А на следующий вечер бог, в образе тельца, был готов. Нетерпеливый Израиль носил дрова, жарко накалял печи, и золотой теленок был отлит скорее благодаря энергии народа, чем благодаря искусству мастеров. И люди даже не дождались, пока он застынет, и разбили форму, когда он еще чуть держался и был так горяч, что одна женщина, желавшая в безумстве поцеловать его, обожгла себе рот и с воем бегала потом по пустыне. А люди смеялись над нею довольным смехом обретших и радовались, что бог у них такой сердитый.
– Вот бог так бог! – кричал народ. – Это он вывел нас из Египта, а не Моисей!
– Так, так, – кивали головами старые иудеи, – бог и должен быть теленком: ведь это самое благородное животное.
– А я сказал бы даже… что он должен быть… бараном, ибо что человек без баранов и овец?
И взяли большой-большой камень со святой горы, к которой, по крайней мере к подножию, никто уже не боялся приблизиться, и поставили высоко на пригорке; Аарону же велели соорудить перед богом алтарь и принести на нем жертву всесожжения и спасения. И только потому, что уже настала ночь, отложили праздник на завтра и разошлись, радостные, по своим шатрам.
А те, кто остался верен заветам Моисея, даже не выходили из кущ; то были левиты и некоторые роды других колен.








