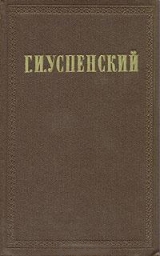
Текст книги "Очерки и рассказы (1873-1877)"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
И все это благополучие пришло потому, что явился труд, который как раз пришелся по вкусу покровцу; от него требовалось, чтобы он "воротил", "таскал", "вез", "стоял и смотрел" и т. д., – вообще требовался труд мускульный, механический, вовсе не нуждавшийся ни в каких более высших способностях покровца, и за этот труд покровцу давали деньги, и деньги порядочные, давали их прямо в руки и говорили: "ступай!". – "Куда хошь!" – прибавлял к этому торговец и чувствовал себя весьма хорошо. Тот самый богатырь, который в прежнее время бесплодно и без толку грохал по целым часам веслами, доставляя маменьку в город к купцу, который не платил, теперь с удовольствием ворочает на своей богатырской спине девятипудовые кули, с легкостию перьев таскает по чемодану в каждой руке: он знает, что вечером, после того как он отворочает и оттаскает, в его горсти непременно окажутся деньги, с которыми – "поди, куда хошь…" Или как не быть в хорошем расположении духа вот этому гиганту, который из писцов земского суда, где он не знал, что ему делать с своим гигантством и силой, поступил теперь на должность надсмотрщика, где все это пригодилось как нельзя лучше. Все его дело состоит в том, чтобы смотреть за рабочими, все ли на местах, и ставить их на эти места…
И вот, проснувшись часов в пять утра, – что для него не составляет никакого труда, ибо он мог пить по неделям, не смыкая глаз, – он идет к своему делу и начинает "ставить" рабочих… Слово "ставить" надо понимать буквально: рабочие, намаявшись, спят мертвым сном; их надо поднять и поставить на ноги. Для этого гигант поступает так: подойдя к первому из спящих, берет его могучею рукою за волосы, поднимает с армяка, ставит на ноги и, для полного пробуждения спящего, дает ему раза два-три по шее, а иногда и по щеке, после чего один уже вполне может считаться поставленным и, почесываясь, идет умываться из лужи. За первым поставленным на ноги точно так ставится второй; если, паче чаяния, спящий субъект как-нибудь выдернет волоса из цепкой лапы гиганта, то гигант раза четыре так съездит его по спине кулаком, что и второй скоро вскочит как встрепанный и побежит к луже, почесывая спину; иные вскакивают оттого, что их сдергивают за ногу и хлопают головой об пол, другие (преимущественно мальчишки) от хорошего пинка в бок и т. д. "У меня очнешься, встанешь!", – с полным сознанием правоты этих слов говорит гигант и, подняв на ноги таким образом человек двести, "со свежим, как говорит он, аппетитом" идет "куда хошь". Жена его уж знает, что у мужа теперь аппетит, и поэтому все уже готово и поставлено на стол.
– У меня встанешь! – выпив и закусив, говорит гигант и принимается за гуся…
Как ни прост этого рода труд, а несомненно, что при нем всякий получил возможность, сделав дело, "поставив", "стащив" и т. д., быть самим собою. "Как хошь", "как знаешь" – было одним из больших преимуществ нового рода труда, и тем большим преимуществом, что деньги, платимые за этот ломовой труд, давали действительно возможность иметь на деле то, что покровец мог пожелать.
Чего же захотел покровец, когда в руках его очутились деньги и когда получилась возможность захотеть "чего хошь"?
Припомнив прошлое покровца, его прошлые труды и удобства жизни, нельзя не признать, что единственным результатом этих трудов была вековая проголодь. Ввиду этого обновленный покровец, получив возможность "хотеть", решительно не мог захотеть ничего другого, как "жрать", то есть пить, есть и пробовать все, чем голодал покровец так долго… Эту животную черту, развитую деньгами и не чуждую слоям общества более высшим, чем тот, о котором здесь идет речь, относительно Покровского обывателя надо понимать почти буквально: да, он стал жрать, пробовать все, что было приятно его голодному организму… Веселенький дом его стал полною чашей, у него все закуплено на пять лет, все свое, всего большой запас, и, несмотря на то, ему стало казаться мало, и он решительно не хочет дать ни куска ни деверю, который без места, ни свекрови, у которой муж продался в солдаты и она осталась без куска хлеба; и когда ему сказали: "что ж, издыхать, что ли, нам?" – он спокойно отвечал: "да хошь издыхайте" – и засел в свои запасы… Животная черта сильно поддерживалась в покровце и тем народом, волны которого ежедневно наносили на Покровское машина и пароходы… И у этого народа было сильное желание отведывать всего, за что "без разговоров" можно было просто отдать деньги, а продавалось на деньги, как известно, все: и водка, и женщины, и все-все… Трактиры, выросшие на новых местах в несметном количестве, были всегда полны народом; громко гудели органы, звонко пели цыганки и арфистки, и все это пило, обнималось, дралось, целовалось, получало и платило деньги…
– Спрашивается, – сидя поздно вечером за бутылкой водки в одном из привлекательных на вид домиков, вопрошает себя гигант-кондуктор Петров, – спрашивается, в каком смысле, на каком основании народил я этих глотов?
Так именует он свое семейство, жену и троих детей, всхлипывания которых слышны за перегородкой…
– Вопрос, – продолжает Петров: – на какова чорта?
Он выпивает стакан водки, задумывается и произносит:
– Зачем, для чего, почему?..
И задумывается. Кроме всхлипываний за перегородкой, нет ему ответа на эти вопросы, но смутные мысли и воспоминания, несущиеся в его пьяной голове, разъясняют и "зачем", и "почему", и "для чего"… Петров из духовного звания… Не он выдумал это звание, он только родился в нем, и вот как только он родился, он уже знал, что. люди, принадлежащие к этому. – званию, принадлежат к нему потому, что надо "пить-есть"… В семинарии он ничего "не понимал", тоже, вероятно, с голоду, – и его исключили. "Что пить-есть?" – тотчас же возникло с неотразимым ужасом в его голове, и хорошо еще, что нашлось дьячковское место; "по крайности, – говорили ему, – не умрешь с голоду". Но чтобы не умереть с голоду, надо было жениться на дочери старого дьячка, который сдавал свое место тоже с тем, чтобы не помереть на старости лет с голоду и чтобы иметь кого-нибудь, кто бы кормил. И вот Петров с голоду женится, с голоду поет в церкви, подает кадило, родит детей, – все ради пить-есть… Не пой он, не подавай кадило – есть будет нечего; не женись он, правда, не было бы ребят и стариков, но не было бы и места, не было бы возможности получать праздничные пироги, водку, кормиться и кормить. И вдруг этому-то человеку выпала профессия, вышло место по вкусу, деньги и возможность быть "как хошь". Чтобы иметь место, где надо "ставить", "возить", "тащить", не требуется ни зятьев, ни деверьев, ни стариков. Не требуется ни жениться для этого, ни петь на клиросе, – словом, не требуется никаких уз, при которых бы место это только и давалось… И вот ему не нужны ни жена, ни дети, ни старики… Все это было, чтобы "пить-есть", теперь они не нужны, они "объедалы"… В данную минуту они ему совершенно чужды, до такой степени чужды, что иной раз, в пьяном, конечно, виде, он как бы совершенно не узнавал своего семейства и не понимал, что это такое.
– Вы ч-чьи так-кие? – оглядывая осоловелыми глазами, спрашивает он.
– Ваши дети… – отвечали ребята.
– Ч-чь-и-и?
– Папины и мамины…
– М-мам-мины?.. Как-кой?..
– Вот этой…
Петров взглядывал на плачущую жену и в совершенном недоумении произносил:
– Не по-н-ним-маю…
Ребята смеются, жена ревет, а Петров пьет водку и бормочет:
– Перед бог-гом… Зачем? Вопрос: почему и опять? Не понимаю… ни-ни-ни.
Горю семьи Петрова много способствовало главным образом то, что жена его вовсе неспособна была так повеселеть и обрадоваться деньгам, как повеселели и обрадовались все обновленные покровцы, мужчины и женщины. Печать уныния, даже отчаяния легла на все ее существо еще с детства; выходила она замуж за кого пришлось, лишь бы "кормил". Да и к корму она привыкла случайному, доставляемому крестинами, похоронами и т. д. Ела когда хорошо, когда худо, когда и вовсе не ела… Да и до еды ли: выйдя за того, кто кормит, она стала рожать детей, об участи которых у нее целые года, дни и ночи, болит сердце. Она неряха (до нарядов ли ей); она разиня, растеряха, потому что не привыкла прятать ничего; была она постоянно грустна… В доме и хозяйстве Петрова не было того порядка, какой царствовал у других его товарищей, – все шло кое-как, как шло в доме родительском: не прибрано, не готово, переплачено… Тогда как у других всегда все готово, когда "сам" приходит со свежим аппетитом, все запасено и все куплено.
А тут, как на грех, так и вьется вокруг кондуктора, вокруг его жалованья, отопления и освещения буфетчккова сестра, перекрещенная жидовка. Она, как нельзя лучше, знает, как можно бы было распорядиться благосостоянием Петрова; зорко следит она за его очень большим аппетитом. Поминутно она докладывает Петрову, что жена его передала то на том, то на другом, а это все равно, что подливать масло в огонь. Петрова раздражала всякая мелочь в его семье, особливо в его жене, потому что он уж был раздражен множеством других, более важных несчастий. Он не любил жены, как это оказалось теперь: она была дурна, слезлива и ревнива к тому же… Жидовка составляла всему этому полный контраст; глядя на Петрова только как на сорок пять рублей в месяц с отоплением, она была совершенно спокойна, рассудительна, весела и в остальном не спесива.
И вот, попав на дорогу, где чувствовалось, что можно быть самим собой, Петров с каждым днем все больше и больше стал хотеть всего, что захотел в последнее время покровец, и семья его, которая решительно не соответствовала духу времени, да и ему самому нужна не была, – стала ему вконец ненавистна.
Он пьянствовал, шумел, дрался, проклиная и гнал всех вон из дому.
Жена Петрова умерла года через полтора после того, как Петров выбился из нищеты, получив место при новых делах. Дети, оставленные без призора, делали что хотели. Сам Петров, несмотря на полное расстройство его семьи, повеселел, осолиднел, пополнел и свободно и легко отдался приятному течению времени.
Жидовка, разумеется, завладела им, но "не обижалась" скотским аппетитом Петрова, потому что была "нонишняя". Но в ту самую минуту, когда всеобщему пированью, казалось, не будет конца, случилось совершенно неожиданное обстоятельство. Кондуктор Петров, не успевший и полгода проблаженствовать со своей жидовкой, опять поздним вечером сидит за штофом вина, размышляет и плачет:
– Милая! Милая! – твердил он, рыдая и обхватив голову обеими руками. Он вспоминает покойницу-жену…
– Убил! Убил! – шепчет он и свирепо взглядывает на притаившуюся и притихшую новую жену свою…
– Змея! – посылает он ей и пьет водку.
Видно, что женщина эта глубоко ненавистна ему. И действительно, за что, за какое сокровище, найденное им в этой жидовке, погубил он жизнь человека, который пятнадцать лет переносил самую неприветливую, непривлекательную жизнь, жизнь, полную обид, нищеты и горя. Припоминая все, что перенесла она, Петров чувствует, что он – животное самое настоящее, самое подлинное. Он плачет; долго плачет… Но вдруг слезы его начинают высыхать, и ему представляется собственная его жизнь: собирания алтынов и пирогов, вечное присутствие в передней, вечная нищета и неприятность дома – и т. д. Стоит ему только попасть на дорогу этих воспоминаний, и он не может не чувствовать, не может не видеть, что он тоже намучился, настрадался, что желание пожить он не выдумал, и не его вина, что животное так сильно пробудилось в нем.
Это состояние самоунижения, вместе с потребностию объяснить и обдумать все это, с каждым днем развивалось в Петрове более и более, и когда смысл его принимал самооправдательцый оттенок, он делался высокомерен, дерзок, знать ничего, не хотел; на все плевал… А когда мысли его направлялись в другую сторону, в сторону самообвинения, он падал духом, терзался, ждал себе божия наказания – и в обоих случаях пил…
Окончание этой истории последовало очень скоро. Петрова сначала выгнали за дерзости, вследствие чего он стал пьянствовать еще больше и спился, а потом и совсем погиб…
Что ж такое вошло в среду, првидимому, безмятежного благополучия, которое стал ощущать покровец благодаря некоторому материальному благосостоянию, порожденному появлением новых родов труда? Пришла мысль, пришла потребность думать, – другой, после денег, злой гость глухих мест.
Право думать о себе, о своем положении находилось у покровцев почти в тех же условиях, как и право выбирать труд и пользоваться, благодаря ему, достатком. Если читатель помнит, что оказано нами в начале этих очерков о непривычке покровцев к деньгам, то пусть здесь те же внешние влияния приложит он и к покровской мысли. Положение Покровского мозга было едва ли не хуже положения Покровских желудков и карманов. Покровец постоянно был обязан жить теми идеями, которые являются к нему извне, как обязан был покоряться прихотям купца, который "ни то заплатит; ни то нет…" Мысли, которыми ему приходилось жить и осуществлять на деле, являлись, большею частию, всегда внезапно, нежданно-негаданно. "Нет людей!" – приходилось восклицать всякий раз, когда надо было осуществить в жизни покровцев какую-нибудь из подобных новоявленных идей. Очевидно, покровцы не ждали этого явления, – и вот почему не было и людей между ними. Кроме этого всем известного явления, когда в миллионах людей не оказывается ни одного человека, у которого бы мысль, явившаяся со стороны, родилась и жила в собственной голове, прежде этого странного явления, внезапность появления идей в обществе доказывается другим явлением, тоже весьма странным: является новая мысль – и массы людей целыми тысячами делаются не нужными: мысль оказывается до такой степени новою, неожиданною, что у целого еще вчера жившего поколения нет с нею никакой связи; поколение это должно исчезнуть, провалиться сквозь землю, жить ему долее невозможно, ибо все, чем жило оно вчера, – теперь, сегодня, не нужно.
Недалеко от Покровского есть хуторок, в котором живет мелкопоместный землевладелец Иван Андреевич Поленников. Это гигант, еще очень молодой, очень недавно служивший в военной службе. Теперь он не делает ровно ничего; каждый год объем его владений делается меньше и меньше, – это Иван Андреич понемногу съедает самого себя. Ибо делать что-нибудь из того, что делают в настоящее время другие, он не может, потому что не понимает, что такое это они делают; он не понимает, что такое земство, что такое новые суды… Словом, ни тут, ни там ему места нет. И вот, съедая понемногу свои владения, в бедной конурке лежит он большею частию рядом с женой, которая постоянно беременна и худа как щепка.
В таком виде застают его все, кто вздумает посетить его, а посещают его зимой для охоты, летом для рыбной ловли. В обоих случаях он неутомим. Стоит только наехавшим повеселиться соседям обратиться к нему, например, с просьбою ловить рыбу, как он тотчас же, без возражений, слезал с кровати, надевал шапку с красноватым околышем и, почти не говоря ни слова, отправлялся за помощниками из мужиков, потом раздевался и лез в воду. В фуражке с околышем на мокрой голове и с бреднем в могучих руках он по целым часам бродил в воде, спотыкаясь по самую шапку в яму, спокойно отрывая от тела рака и не обращая внимания на то, что осока изрезала ему и бока и ноги… Этому телу нипочем, и все оно оказывается ни на что никому не нужным, не знающим и не умеющим делать ничего, кроме весьма нехитрого съедания собственного имущества, лежанья да рождения детей, что тоже дело очень простое.
А между тем Иван Андреич ведь жил – и жил, по его мнению, очень весело и широко.
– Теперь что! – грустно говорит он, выпив рюмок пять водки (говорить он начинает не иначе, как после подобного количества вина). – Теперь одна десятая часть!
С своим семейством он никогда почти о прошлом не разговаривает. Для него нужны совершенно посторонние слушатели, какими и бывают большею частию соседи, явившиеся к Ивану Андреичу, чтобы половить с ним рыбы.
– Сотая доля осталась! – выпив шестую и седьмую рюмки, продолжал он. – Бывало, не можешь равнодушно на себя в зеркало взглянуть…
– Отчего ж?
– Отв-ра-тв-те-лен!.. Отвратителен самому себе – зверь, животное…
– По какому же все это случаю?
– Ожесточишься… Я ведь про поляков говорю. – Я в Польше много их положил, – войдешь в азарт, чистое животное… А сила какая была, и-и-и…
И тут Иван Андреич, перемешивая свои слова проглатыванием рюмок, начинал повествовать о своей силе. Раз он нес раненого солдата на своих плечах верст двадцать. Нес он его в деревню, надеясь, что там можно будет пристроить его на попечение помещицы; помещица, однако, отказалась принять; тогда Иван Андреич взял больного солдата за ногу и хлопнул им барыню. Но это еще что: однажды полковник заметил ему, что у него худ сапог; Иван Андреич тотчас же отправился в лес, встретил повстанца и тотчас же с одного маху отрубил у него ногу, обутую в хороший сапог. Затем он снял с отрубленной ноги сапог, надел его и явился к начальству. Но и это еще что! Шли однажды навстречу Ивану Андреичу четыре человека повстанца. Что ж сделал он с ними! Он обнял их всех одной рукой, а другой вынул саблю и срезал им всем головы, словно у пучка моркови или редьки, и т. д.
По мере того как Иван Андреич увеличивает количество рюмок водки, отправляемых в собственный желудок, фантазия его разыгрывается самым неистовым образом, и ничто уже не в состоянии остановить его: ни смех слушателей, ни конфуз целого семейства – ничто. Напрасно дергают его за рукав, напрасно шепчут ему со всех сторон: "Иван Андреич! Как не стыдно! Над тобой смеются!" и т. д. Иван Андреич все шире и шире распускает крылья своей фантазии, ни на минуту не покидая Польши, единственной арены его деятельности.
Врет он до того, что, наконец, всем станет скучно. Один по одному разойдутся слушатели. Проснувшись трезвым, Иван Андреич чувствует себя в высшей степени неловко.
– Что, шибко я вчера городил? – шопотом спрашивает он у кого-нибудь из вчерашних слушателей.
– Да порядочно…
– Простите, пожалуйста… Ведь это я сам не знаю, – язык мелет…
– Что эта далась вам Польша?
– Служил… Был вызов охотников… Ну, я и пошел. Мне все хотелось чего-нибудь этакого…
Движением плеч и локтей Иван Андреич дает понять, что ему хотелось разойтись пошире.
– Чего-нибудь бл-лагородного!.. – Здесь он делает движение кулаками. – Ну, и я стал зверствовать… А теперь я и сам вижу; что смешно. Что ж делать, я ничего не умею…
– Чего ж не умеете?
– Ничего… Ни земства не умею… Ничего этого, понимаете… Я сам чувствую, что глупо… Что ж мне делать? Я и то все молчу.
И действительно, Иван Андреич принимается вновь лежать, съедать свое имущество и молчать. Он стыдится самого себя, потому что решительно не подходит ни к чему в окружающем. "Польша" переехала его как колесом, засела в нем на веки веков и отравляет ему существование среди земства и других новостей, которых Иван Андреич "не умеет" и не понимает. Он не нужен теперь никому и ни на что; несмотря на то, что ему нет тридцати пяти лет. Но почему же именно дикое зверство въелось в эту добрую, покойную натуру? Для понимания этого необходимо знать, что, помимо всего сказанного, в жизни покровского обывателя бывали моменты, когда вдруг, лет на десять, на пятнадцать, не было никакой возможности ни о чем думать, и тогда, при всей отвычке покровца от этого занятия, наставал такой нравственный голод; что первая так ли, сяк ли явившаяся к ним мысль проглатывалась вдруг сплошь и поголовно всеми… К этой просочившейся капле мысли бросались все с жадностию рыбы, пролежавшей несколько часов на голом песке, причем происходили вещи весьма комические: оказывалось вдруг, что какой-нибудь зверь, кулак и скопидом наглатывался в общей свалке либеральных идей и не знал, что с собой делать: язык болтал либеральные фразы, а руки тянулись грабить, – положение поистине трагическое, особливо при неумении думать и определить свои настоящие качества; и только после нескольких лет поистине невероятных душевных мучений субъект опоминался, узнавал, что все вздор, и начинал действовать открыто.
Таким образом, право "думать" зависело у покровца от бесчисленного множества внешних случайностей, которые все, в общей совокупности, отучили его совершенно от необходимости, считать это право чем-то неизбежным, серьезным и выработали из него человека, умеющего прилаживаться к каким угодно фантастическим идеям, выработали притворщика во всех почти проявлениях внутреннего мира, и притворщика ради одного "верного", ради куска хлеба или пирога, смотря по вкусу. Слово "притворщик" употреблено здесь не в смысле искусства притворяться, – покровец вовсе не искусник ни в чем, – а в смысле полного убеждения, что неправильность, самая угловатая, самая обидная во всех проявлениях личности, есть именно жизнь человеческая, причем человек-покровец привык себя представлять существом, которое именно и родится на божий свет для того, чтобы измаяться вконец, сгинуть, если не удастся перехитрить и провести этот свет, с помощию разных экивоков.
И вот этот-то нравственный хаос осветила едва заметная звездочка мысли, явившаяся в массе, в толпе, благодаря тому, что новые роды труда дали возможность ей иметь три часа досуга в сутки, а главное, благодаря тому, что эти новые роды труда познакомили ее с состоянием человека, который так ли, сяк ли, а "сыт". Нравственный хаос, который осветила эта слабо мерцающая звездочка, оказался поистине невообразимо ужасным… Много драм, почти не оставивших следа, произошло в наших глухих местах, – драм, которые молчаливо зарождались в той или другой голове, впервые задумавшейся "надо всем", и об них стоит поговорить подробно, что мы и сделаем впоследствии.








