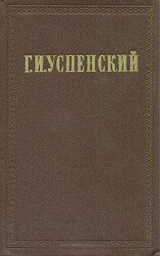
Текст книги "Пришло на память"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
– Сама хочу попытать, – сказала она Варваре. – Что такое, господи помилуй? Отчего?
Варвара сидела как сонная, как сонная смотрела на работу Марьи Яковлевны, но ночью не спала.
Настало утро. Варвара за завтраком почти ничего не ела, работала вяло и как бы неохотно. Пришли обедать. Варвара как-то сама собой устранилась от должности стряпухи и толкалась без дела около печи (обедали в избе).
– Ну-ко, Яковлевна, давай хлебца-то свеженького!.. Авось, на твое счастье, хлеб-то удался!.. – заговорили мужики. – Поголодила нас Варвара, поголодала.
– Ох, – отвечала Марья Яковлевна. – Погоди хвалить-то. Смерть боюсь я… Пожалуй, как бы хуже не было… – И полезла в печку лопатой, которою вынимают хлебы. Не без любопытства публика взирала на зев печки, в ожидании появления хлеба. Марья Яковлевна заглянула туда, покраснела и, потянув лопатку, как-то жалостливо прошептала: "Ох, милые мои…" Это "ох" произвело на Варвару оживляющее действие: она понадеялась, что Марья Яковлевна оправдает ее неудачную стряпню такой же неудачей, но Марья Яковлевна вытащила наконец… такую великолепную ковригу, такую румяную, пышную, ароматную, что Варвара сгорела со стыда…
– Ох ты… как-кая! – тоже как бы жалобно проговорила Марья Яковлевна и покачала головой, тогда как публика покатилась со смеху от удовольствия…
– Охо-хо-хо! – прогоготал Иван, опять первый: – вот так хлеб!.. – и, как победитель, поглядывал на Варвару. Да и все наши глядели такими глазами, как бы хотели сказать: "Что, косолапая? Вот как хлебы-то пекут!"
Но почему Марья Яковлевна "охала" при таком своем торжестве и не глядела на Варвару? Уж не виновата ли тут в чем-нибудь? Не знаю. Знаю только, что Варвара, сгоревшая со стыда и уничтоженная этой великолепной ковригой, вдруг в одно мгновение возненавиделаМарью Яковлевну.
Вдруг, в одно мгновение, она поняла,что этой ковригой Марья Яковлевна оскорбила ее до глубины души… В голове Варвары мелькнула, как молния, мысль: «не те дрожжи!», и гнев рванул ее за сердце. Она сорвалась с места, бросилась вон, хлопнула дверью что есть мочи и, совершенно как безумная, бросилась сначала в амбар, потом в сарай, потом в баню. В первый раз в жизни она была разозлена, не рассержена, а разозлена, не как ребенок, а как женщина, которую «бабьи сплетни» окатили целым ушатом помой… «Уйду-уйду-уйду-уйду!..» немолчно звучало в ее ушах, во всем ее существе, когда она металась по двору, точно ища чего-то, и действительно она хотела найти свою ваточную куцавейку… И с каждой минутой она все больше и больше понимала,и то, что она понимала, вихрем вертело ее голову… Она поняла, что это – месть за то, что Демьян Ильич ласков, поняла, сколько ехидства в кротости и ласке Марьи Яковлевны. Поняла, какой подлец Демьян Ильич и из-за чего он к ней ласков… Вспомнила рыбную ловлю… Вспомнила, как гоготали мужики, рассказывая разные скверности. Поняла, что все это скверность; поняла, почему на нее зол Иван, поняла все отношения, всю их суть, всю их бессовестность, расчет, лежавший в основании этой внимательности. Поняла, что никто с ней по правдене говорил, никто по правде не относился, все бессовестные, гадкие, злые… а она – совсем, совсем одна в белом свете, совсем одна. Вдруг вспомнила она старика отца и вдруг залилась слезами, но эти слезы не уменьшили ее гнева, даже как бы увеличили. Гневное возбуждение дошло у ней до таких размеров, что она сама не помнила и удивлялась, где она нашла свои вещи, почему то связывала, то развязывала эти несчастные тряпки, и затем, собираясь уйти, вдруг принялась стирать какое-то рваное платьишко, стирать торопливо, лихорадочно.
В такую минуту (она стирала в бане, в корыте) в баню заглянул один из рабочих; это был уже не молодой отставной солдат, Пахом. Его не любили в артели, да и Демьян Ильич его недолюбливал и ни во что не ценил. Взяли его в артель потому, что по случаю хорошего сухого лета рабочие были дороги и приходилось брать кое-каких. Попал таким образом в число рабочих и Пахом. Он был человек ленивый, неумелый; в работе он отставал решительно от всех, даже от самой хворой и слабой бабы; есть ему хотелось всегда часами двумя раньше времени и раньше, чем приходил аппетит другим. Работал он поэтому всегда с каким-то неприятным, почти злым выражением лица, подмечал всевозможные недостатки в работе товарищей, в отношениях хозяев к рабочим, критиковал и обобщал более, чем косил и пахал. Получал он меньше всех. Вот этот-то Пахом и заглянул в баню к Варваре в ту минуту, когда она и плакала, и негодовала, и не имела в голове других мыслей, кроме: "уйду, уйду, уйду!. ."
– Что, Варвара, – сказал он, сидя на пороге и набивая трубку, – видела, как нашего брата, бедного человека, уважают?
– Уйди ты, дурак косорылый! Чего тебе надобно? Пошел ты отсюда вон, бессовестный!.. – не помня, что говорит, оборвала его Варвара.
Пахома это не удивило, он не рассердился и довольно спокойно сказал:
– Что ты, матушка?.. чего ты? я ведь понимаю эти дела-то… Слава тебе господи, пожил на свете… Чего мне нужно? Ты уж больно того… И слова сказать нельзя; ты не того… Я ведь, кажется, видел, как они тобой помыкали. И твою работу знаю!..
Варвара ничего ему не отвечала.
– По твоей работе, – продолжал Пахом уже совершенно спокойно и не спеша, – по твоей работе тебе, надобно прямо сказать, цены нету. Цена тебе – миллион! Больше ничего!.. А ты вот осерчала… Нешто я тебе худого желаю? Я тебе говорю по совести: нет тебе цены, вот какая твоя работа… А они, черти, хотят всякого человека обобрать. Работаешь-работаешь, гнешь-гнешь спину, а пришло дело к расчету – много ли? – три копейки! Тут бы с него, подлеца, надо сколько денег-то, ежели бы по-настоящему? А он твои-то деньги – в карман, да из кармана в сундук, да сундук-то на замок, а ты гуляй без сапог… Знаю! Довольно знаю…
Пахом покурил, поплевал и продолжал:
– А ты, ежели ты только послушаешь моих слов, то по твоему характеру идти тебе в Питер – первое дело. Чего тебе тут копаться? Какого чорта, прости господи? Из-за чего? Да я сам, ежели бы не обеднял насчет одежи – минуты бы тут не остался, пропади они пропадом. Я б в Питере-то давным-давно двадцать пять целковых на хозяйских харчах получал, не то что… Живал ведь, слава тебе господи, знаю. Что мне за корысть врать? Хоть у кого хочешь спроси, верно ли я говорю. Всякий тебе ответит… Там куфарки получают по пятидесяти рублей серебра… Издохни я на сем месте, ежели не правда… Вот до чего достигают! А тут три копейки… Ты чего ревешь-то? Ты вот слушай, что я говорю, а реветь-то перестань… Расчет-то с них, с подлецов, стребуй, все стребуй до полушки, да и с богом на машину. А там, брат, местов – сколько угодно! Там, ежели сказать тебе, не соврать, такая девица, как ты, Варя…
Не хотела Варвара слушать этого болтуна, да почти и не могла слушать его, так она была поглощена своим оскорблением, возбуждена гневом, ощущением одиночества и глубоким состраданием к отцу… Но болтун болтал, не переставая, расписывал ей Питер такими великолепными красками, какие только приходили ему на ум, и в воображении Варвары невольно стало вырисовываться какое-то удивительное, заманчивое место, где она может найти и покой и довольство и благодаря которому может даже отомстить. Стирая свое тряпье с той же лихорадочной поспешностью, как и прежде, она невольно уж вслушивалась в разговоры Пахома о подарках, о шелковых платьях… Почему-то особенно неотразимо поддавалась она обаянию слов: "от барыни не отличишь", "чисто как барыня", "наденет платье, зашумит хвостом – графиня, а была вот как ты же" и т. д. Слушая и горячо принимая к сердцу эту болтовню от нечего делать, она в то же время не могла удержать своего воображения, рисовавшего ей, Варваре, ее же, Варвару, в разных до сих пор совершенно незнакомых ей видах. Вот она посылает отцу деньги, много-много, и отец покупает корову, строит новую избу. Вот она в шелковом платье проходит мимо злой мужички Марьи Яковлевны и т. д. Воображение, в первый раз возбужденное с необыкновенной силой, не давало ей покоя. Она стирала свои тряпки так, как будто хотела разорвать их, и в ее голове так же настойчиво, как и "уйду-уйду-уйду", звучало: "Питер-Питер-Питер"…
-
– Ведь сманил, жид проклятый, Варвару-то! – с сильным волнением говорил мне Демьян Ильич на следующий день поутру. – В Питер и – шабаш! Ах, пес эдакой! Ведь ему, каналье, только бы с нее на выпивку вызудить!.. А что она в Питере? Долго ли!.. Ах, бессовестный человек! Ведь так, зря язык болтает неведомо что, а она и в самом деле помчалась, как угорелая. Он ей на перекоски через лес пустился, догнал-таки у самого кабака, выпил. Вот ведь какие люди на свете есть!
Демьян Ильич жалел и крепко жалел Варвару, но, как видим, уже после ее удаления. Он также понял, отчего у Варвары выходили плохие хлебы, а у жены вышли превосходные. Понял и покорился. Вступиться за Варвару – значит, завести раздор в семье, а это нехорошо. Жена у него – человек деловой. Он скрепился и промолчал, а жаль, жаль Варвару. Да и все поняли – в чем дело, и все ее жалели. Марья Яковлевна тоже жалела и, частенько покачивая головой, говаривала:
– И что за чудо? Ведь, кажется, и дрожжи те же и всё…
"Дрожжи, – ожесточенно, но молча думал Демьян Ильич, слушая такие речи, – знаю я тебя, ехидна!.."
А молчал, "виду не показывал".
-
С тех пор как Варвара ушла от Демьяна Ильича, ни его самого, ни его супруги никогда я уже более не видал. О Варваре пришлось вспомнить после случайной встречи с Иваном, а после нее и до настоящего времени ни о Варваре, ни об Иване не приходилось даже и думать. Где Варвара? Что с ней? И точно ли Иван не ошибся, говоря мне при встрече, что Варвара проехала по Невскому? Ничего этого я не знаю. Быть может, она здравствует; быть может, умерла; быть может, и так пропала – все может быть. Такие люди, как Варвара, живут без биографий: только "необыкновенный" случай выдвигает их из неизвестности, тьмы и беспомощности; в обыкновенное же время они – только цифры, "статистические данные", и больше ничего.
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова. СПБ., 1889.
Впервые напечатано в журнале «Отечественные записки», 1881, 11, с подзаголовком «Из деревенских воспоминаний».
Рассказ «Пришло на память», написанный вскоре после окончания цикла «Крестьянин и крестьянский труд», связан с ним и по содержанию. Действие здесь происходит, по указанию автора, «в тех же самых местах», а герой рассказа Демьян Иванович охарактеризован как «предместник» Ивана Ермолаевича (стр. 266). В письме к писательнице Е. П. Летковой от 24 июня 1884 года писатель уточняет эту характеристику, сообщая, что прототипом обоих указанных героев было одно и то же лицо: «В рассказе „Пришло на память“ Демьян Иванович то же лицо, что Иван Ермолаевич (там увидите), только все это изуродовано, потому что надо было писать как будто вновь. Но эти вещи неразрывны». Тождественность Демьяна Ивановича и Ивана Ермолаевича подтверждает и сопоставление настоящего рассказа с очерком «Подгородный мужик» (из цикла «Непорванные связи»), где «крестьянин, наблюдавший за мызой», назван сходно – Демьяном Ильичом.
В рассказе ярко отражено разложение пореформенной деревни. Демьян Иванович ведет руками наемных рабочих на арендованной земле обширное хозяйство, целью которого является продажа сена, а впоследствии, разжившись, переселяется в Петербург и открывает извозчичий двор. В то же время представители деревенской бедноты – Иван, Варвара – не имеют своего хозяйства, вынуждены наниматься в работники к богатому крестьянину. Позднее они теряют связь с деревней, уходят в город в поисках заработка, пополняя ряды городского пролетариата. Особенно трагично складывается судьба Варвары.
Рассказ перепечатывалcя при жизни Успенского в сборнике "Деревенская неурядица" (т. III, СПБ., 1882) и в трех изданиях "Сочинений". Для каждого издания он пересматривался и подвергался стилистической правке.





