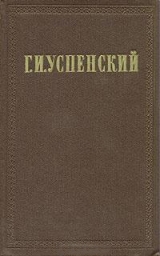
Текст книги "Бог грехам терпит"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
– Да что ж это за безобразие такое? Может ли быть что-нибудь подобное? – воскликнул один из военных. – Это просто какая-нибудь ошибка нелепая.
– А то что же? Само собой, что ошибка. Нешто без ошибки-то можно этак-то?.. Только вот кто тут ошибку-то дал, вот это-то нам и неизвестно!
– Но ведь впоследствии-то обнаружилось же, что все это вздор?
– А то как же? Обнаружилось, уж это не беспокойтесь – и даже так, что вполне ясно обозначилось, а только, говорю вам, теперича-то мы ничего не понимаем… Аптекарь в ум не возьмет, что такое, только за печенку хватается – думает, как бы не отшибли; да и я-то вот очнулся и тоже ничего не понимаю, ничего вздумать не могу…
– Но как же все это разъяснилось?
– А вот вы слушайте… Уж все по порядку… Каким родом и куда меня опосля этого побоища предоставили, этого уж я вам рассказывать подробно не буду. Одно скажу – много я страху напримался, а что обиды – нет, не видал. Прямо сказать, вежливость, благородство, тонкое обращение… Я думал, хуже будет, а на место того тут-то и началась самая разборка.
– Вот про это-то, – присовокупил буфетчик, – я и говорю. Сначала надо разобрать дело, а не зря…
– Ну, вот-вот, – подтвердил рассказчик. – Вот все так и вышло по-вашему… Как предстал я, значит, с разбитым ликом – потому всю голову я мокрыми тряпками обмотал, – член-то меня и спрашивает: "Что такое с вами? Чем вы нездоровы?" – "Да избили, говорю, ваше сиятельство!" – "Как? Что такое?" Ну, я ему и рассказал. Он так и ахнул: "Да на каком же основании? Как смели…" Я говорю: "Сказывают, бумага есть у них". – "Ах, мерзавцы!" И пошел браниться… Бранил-бранил, наконец того спрашивает: "Скажите, пожалуйста, что это такое?" И показывает мне пирюли эти самые… Я было спервоначалу уперся, потому ничего мне неизвестно. "Ну-ка, думаю, аптекарь-то втесался в какую историю? Ведь ноне какое время-то! И что мне будет, ежели окажу знакомство с ним?" Вот я и говорю: "Не знаю, мол, что такое". – "А не знаете ли, говорит, какого-нибудь Лаптева?" А Лаптев-то и есть аптекарь. "Нет, говорю, не знаю!" Тогда он вынул мешок, в котором пирюли зашиты были, и показывает мне, а на мешке-то надпись: Ивану Ивановичу Попову. Посылка на один рубль от Лаптева.«Ведь вы, говорит, Попов-то?» – "Я". – «А посылка вам?..» – «Стало быть, мне». – «Ну, стало быть, и Лаптева знаете?..» Тут я вижу, что попался, и говорю: «Виноват, ваше благородие, знаю». – «Отчего же вы сразу не признались?» – «Да боюсь, ваше благородие!» – «Чего же вы боитесь?» – «Да и сам не знаю!» – «Однако?» – «Да всего, говорю, боюсь я, ваше сиятельство. Потому измордовали меня, а доискаться ничего не доищусь…» Ну засмеялся он и говорит: «Вы не опасайтесь, а говорите чистосердечно…» – «Спрашивайте, все открою!» Вот он и спрашивает: «Зачем вам отравленные пирюли?» – «Как отравленные?» говорю. «Да ведь это такие пирюли, что умереть можно… Ведь это, говорит, не то что человек, а и лошадь свалится от таких пирюль. Зачем они были вам нужны?..» – «Лечусь, говорю. Желудком страдаю!» – «Но ведь это отрава!» – «Помилуйте, сохрани бог! Я привык постепенно… Окромя облегчения ничего не вижу». – «Ну, а кто их делал?» – «Аптекарь, мой приятель…» – «Расскажите все, как было». Я и рассказал все про аптекаря… Говорю: «Обещался принесть в Патрикеевский трактир, а наместо того не знаю, куда скрылся, не пришел…» – «Где ж, говорит, теперь этот ваш аптекарь?» – «А это уж, говорю, ваше благородие, мне неизвестно!»… Думал-думал, рылся-рылся в бумагах, в звонки звонил… Гляжу, привели какого-то молодого человека… (Незадолго пред этим молодой человек, с которым я познакомился на железной дороге, все время внимательно слушавший рассказчика, поднялся с дивана, надел пальто при последних словах рассказчика и на цыпочках вышел из каюты…) Пришел он, член-то меня и спрашивает: «Этот, говорит, господин делал вам пирюли?» Поглядел, вижу – совсем чужой человек. «Никак нет, говорю… Я их даже и в глаза не видал!» И молодой человек то же самое говорит… Показали ему пирюли, поглядел он. «Ничего, говорит, я не понимаю!»… Тогда член опять порылся, порылся, позвонил в звонки, пошептался с тем, с другим, молодого человека отпустил, а мне говорит: «Да, тут вышла ошибка… Уж вы не будьте в претензии!» – «Помилуйте, говорю, я рад, что хоть жив-то остался!» – «Дело, говорит, в том, что у нас есть Лаптев, вот этот молодой человек, который замечен на худом счету. Вот мы и думали, что пирюли-то он приготовлял… А так как доктора дознались, что они отравные, вредные, то мы и думали, нет ли тут чего… На адресе было ваше имя, вот мы и дали знать… А те, дураки, чорт знает чего натворияи!..» – «Да, говорю, ваше сиятельство, уж век не забуду!» – «Что делать! Дураки, невежи… а время-то, сами знаете, какое…» – «Да, говорю, время точно – не разбери бог!»… Н-ну тут я приободрился, да и спросил: «А где же, мол, ваше благородие, аптекарь-то мой?» – «А это, говорит, надо разузнать… Тут тоже, говорит, какая-нибудь ошибка вышла…» И стал он мне рассказывать: «Должно быть, вышла какая-нибудь путаница в канцелярии… Вот этому молодому человеку тоже фамилия Лаптев, и надо было его препроводить. А препроводили-то, должно быть, вашего аптекаря… Впрочем, все это разберется…» – «Ну а мне-то, говорю, как теперича быть?» – «А вы можете идти…» – «Совсем?» – «Совсем, куда угодно… Вышла просто нелепая ошибка!..»
– Н-ну, конечно! – с достоинством и как бы с облегченным сердцем сказал военный. – Разумеется!
– Да, – продолжал рассказчик, – ошибка, говорит! Ну, думаю, слава тебе господи! Подобрал полы – ночь на дворе была – прямо на машину да чрез город-то проклятый, закрывши лицо, на извозчике – прямо на хутор. И в дом-то даже не заезжал, да и сейчас жить неохота, перед богом говорю! Кабы кто купил, за свою бы цену отдал… Приехал на хутор, заперся на замок – ни работников, ни приказчиков, никого к себе не допускаю; даже и жену и семейство отделил от себя… Очувствоваться не могу, отдышаться не отдышусь и суставами-то не действую. Поем, лягу и сплю; поем и спать – только и охоты.
– На том и пошабашил? – спросил один из живорезов.
– Как же! Больно ты скор. Пошабашил!.. Ты слушай, что дальше будет…
– Неужели еще не кончилось? – спросил военный.
– Да тут и кончаться-то нечему… Сами видите, все ошибка да ошибка, а корень-то дела еще не виден. Вы глядите, какой корень-то вылупился!
– А где аптекарь?
– Все будет! Только что по порядку надо… Скоро и аптекарь объявится… Маленечко повремените, ан аптекарь-то тут и есть. Вот хорошо. Сижу я на хуторе месяц, ем, сплю да в бане суставы расправляю… Дом в городе препоручил племяннику. И уж задал же он всем этим канальям звону! Ухо парень у меня! Ну да это до дела не подходит… Сижу, говорю, месяц, отдыхаю, опамятываюсь; гляжу, однова едет верховой… Заекало мое сердечушко! Господи, помилуй нас грешных! Что такое? Подает повестку: "Пожалуйте в суд!" – "За что?" – "А там сказано!" Почитал и вижу – привлекают меня к ответу за оскорбление при исполнении обязанностей… Ладно. Прочитал, расписку дал… Тут меня и рвануло за сердце: "как так?" думаю. Какие же это такие обязанности? Меня будут колотить, а я отвечай?.. Это, значит, обязанности, ежели мордовать зря? "Ну, думаю, нет, ребятушки! Довольно, поиграли – и будет! Ежели меня сам высший член оправдал, отпустил невиновным домой, так уж вам-то я не дамся!" Заложил тройку – и в город! Телеграмму в Москву – адвоката! Мордобой против мордобою – иск! "Делай, говорю, тысячи рублей не пожалею!" И заварили кашу… Назначается судный день, приезжаю; приехали мы с женой. Подкатили к суду рано еще, в девятом часу, а суд-то в двенадцать. Сели на крылечке, ждем. Гляжу – и аптекарь объявился! Идет, еле ноги волочит; обносился, исхудал, словно нищий. "Ты откуда?" говорю. "Да и сам не знаю! Здоровье потерял, в ногах ревматизм, еле, говорит, жив!" И точно, одышка у него, и кашляет… Сел он тоже на ступеньку с нами, я и говорю ему: "Ну, брат, достались мне твои пирюли! нечего сказать, буду помнить!" А он мне: "А мне-то, говорит, каково было!" И расскажи он мне все, как было, то есть отчего он к Патрикееву не поспел и все прочее, что я рассказывал… "До сих пор, говорит, плечом не действую, как он меня тогда треснул кулаком, как коробок-то отымал!" – "Да ты зачем не отдавал-то?" – "Боюсь! Незаконные пирюли-то… Ведь только по знакомству делал, что знаю твою комплекцию, а он отымает…" – "Да из-за чего, спрашиваю, дело-то вышло?" – "То-то и есть, что я сам-то ничего дознаться не мог… Примчали меня на край света, а там телеграмма: "Воротить! Это – не тот!" Вот воротился я и стал дознаваться в канцелярии… Рылись-рылись, копались-копались и наконец того уж кой-как да кое-как и дорылись до корня. И что ж ты, братец мой, думаешь? Ну, как тебе кажется, из-за чего бы это вышло?" – "Почем мне знать! Я и сам еле-еле дознался". – "Ведь это все, говорит, из-за подлеца Липаткина!" А Липаткин, надо сказать, существует в нашем городе купец… Так, скалдырник – больше ничего, выжига – одно слово. "Как так из-за Липаткина?" спрашиваю. "А вот как, говорит. Ведь у него, у дурака, нанимал я квартиру-то, когда аптеку-то держал в Сусалове?" – "У него". – "Ну и был у нас такой контракт, чтобы перекрыл я ему крышу… Ну, а как дела мои не пошли в ход, я и выехал вон из города, а крышу-то не перекрыл, потому, думаю, как выезжаю я раньше срока и за четыре месяца у меня заплачено вперед ему, то пущай лучше они пропадают… Сдал заведение и уехал, а Липатка-то вцепился в этот пункт, вздумал взыскивать… Разыскал какого-то писаришку, тот и настрочи жалобу в Петербург, в медицинский департамент, так и так, мол, прошу понудить аптекаря… А в медицинском-то департаменте и разбирать не стали – прямо по месту жительства, в губернию… А в губернии-то, в управе, к одной бумаге приладили другую, уж в уезд, "вытребовать аптекаря для объяснения…" Пришла бумага в уезд, а в уезде-то меня нет, вот и третью бумагу настрочили: "разыскать аптекаря и препроводить", да и ахнули в Москву… Вот в Москве-то меня и разыскивали… Как только я приехал, дал билет прописать, меня и сцапали… А тут эти пирюли – отнимают, а я не отдаю, прячу… Заподозрили… А в канцелярии, в суматохе, тоже ошиблись… Так и пошло все к чорту! Воротился теперь в нумера, все вещи разворовали, износили… То есть не знаю, за что и взяться, – остался с пустыми руками!.." – "А теперь-то зачем ты здесь?" – "Да взыскивает этот дурак…" – "Все за крышу?" – "Все за нее… Подай, говорит, тридцать четыре с полтиной!.." Ну да я ему и гроша не дам, а еще с него взыщу за четыре месяца… Я сам начал против него…" – "У меня тоже дело тут, и я тоже, брат, окопался канавой! Держись крепче, а потом поедем ко мне отдыхать…" Ну, началось дело… Сначала разобрали аптекаря с Липаткиным – оправдали! Пошел Липаткин ни с чем. Ну, а потом мое пошло… Уж тут было дело! Уж мой московский орел показал, где раки зимуют, уж он их так отработал, лучше требовать нельзя… Даже прокурор встал, говорит: "Нет, я, говорит, не могу, отказываюсь"… А мой-то не унялся да опять их молол-молол, толок-толок, тер-перетирал… До того довел, встали все, единогласно: "Нет, не виновен!" Шабаш!..
– Статья есть такая, – отрывисто перебил один из живорезов: – "По совокупному мордобою и взаимному оскорблению – не виновны".
– Ну, вот-вот! Нет, не виновны, потому мордобитие было взаимообразное, – ступайте по домам!.. Вот мы и вышли на улицу. Вышли все: и эскадра средиземная, и плотники, и дворники… Вышли и стоим… И столпилось нас, дураков, человек шестьдесят… Передрались мы все, как самые последние прохвосты, а выходим все как младенцы невинные… Стали и молчим, как столбы. Вдруг Родионка подходит без шапки. "Виноват, ваше степенство!" – "Ты что ж, говорю, дурак эдакой, сделал?" – "Помилуйте!.. Нам сказано: дать знать, потому бумага… Что нам приказывают, то мы и исполняем… Уж не попомните, возьмите опять!.. Явите божескую милость… Нас тоже не хвалят". За Родионкой – плотник: "Уж ты не попомни… Ведь по нынешнему времю, сам знаешь… Опять же нам сказывали: "Караульте, мол, его – в нехороших делах попался"… Уж ты тово…" – "Это ты, что ли, дурак, спрашиваю, под орех-то меня разделывал?" – "Уж тут все… Уж ты бы… Да ведь и ты тоже на свой пай разделал нашего брата не худо… Ведь у тебя тоже кулачище-то…" За плотником и командиры: "Это – недоумение, извините…" – "Вы за что же мне синяков-то насажали?" – "Но и вы, говорит, тоже мне щеку раскроили… Мы действовали сообразно – у нас телеграмма. А вы треснули меня… Это не более как недоумение… Мы завсегда… Так как вы домовладелец, то очень жаль…" И аптекаря тоже обступили; Липаткин говорит: "Не взыскивай с меня, помиримся!" А писарь из участка говорит: "Вы знаете, какое время? Тут, говорит, каждый день только и делаешь, что с утра до ночи пишешь: "немедленно", да "разыскать", да "представить"… Так тут не мудрено и ошибиться… Такое время…" Столпились тут все в кучу и галдят: "Времена ноне какие… Коли ежели бы не времена… Мы завсегда… почитаем, уважаем… Недоумение…" И вижу я, что хотят все эти дуроломы на водочку. Как же, действовали все с усердием, никто не виноват оказался, а угощения нету? Самый бы раз по рюмочке. "Нет, говорю, друзья приятные, кабы вы не были дуроломы и остолопы, то и времена-то были бы другие… И времена-то были бы не такие, кабы у вас, у подлецов, совесть была…" И ушли с аптекарем… Так они и остались без угощения.
– Всё? – спросил буфетчик.
– А тебе что – мало, что ли?
– Да, – сказал военный, – чорт знает что!.. Дурман какой-то…
– А бывает-с! Перед богом, бывает! – со вздохом проговорил тот купец, с которым буфетчик вел разговор вначале. – И даже оченно частенько… ошибаются!.. Потому ежели человек не знает ничего, не понимает и в то же самое время боится беспрестанно, то все можно…
– А охотников, – прибавил гигант-рассказчик, – чтобы, например, эдаким манером (он засучил рукава), хоть пруд пруди!..
И тут начались воспоминания о разных подобных рассказанному случаях, и скоро в каюте стало необычайно душно – душно не от табаку, которым в каюте действительно было накурено, а именно от этих рассказов, от этой тягостной, ненужной путаницы человеческих отношений, составлявших их содержание. Ненужные ужасы, наивнейшие злодейства, огромные, нелепейшие недоразумения, бесцельные жестокости – все это, группируясь вокруг какого-то наследственного "страха жить", страха ценить белый, короткий день жизни и как бы полной безнадежности дать этому короткому дню какое-нибудь содержание, кроме непрестанной тяготы и необузданной жадности, – все это до такой степени удручало не только голову, а прямо грудь, стесняло дыхание, что желание свежего воздуха делалось неотразимым. Именно воздуха, самого буквального, несмотря на то, что тягота происходила не от табачного дыма….
Не дослушав все более и более разгоравшейся беседы, я вышел. Меня уже давно занимает одно маленькое обстоятельство, о котором я упомянул мельком, чтобы не прерывать рассказа. Когда купец рассказывал о том, что ему предъявляли какого-то незнакомого ему молодого человека, я заметил, что молодой человек, с которым я познакомился на железной дороге, вспыхнул, сконфузился, но, стараясь скрыть этот конфуз, как-то неловко стал надевать пальто и, как я уже сказал, вышел потихоньку из каюты. Заметил я, что, выходя, он старался пробраться между параллельно расставленными диванами, так чтобы рассказчик купец остался у него за спиной. Это смущение и этот прием ухода, в котором не представлялось видимой надобности, невольно заставили меня подумать о том, "зачем он это сделал?" Выйдя на палубу, я думал найти моего недавнего знакомца там, но его не было. Вместо него я наткнулся на парня-убийцу, который шваброй мыл палубу. Увидя меня, он почему-то весело улыбнулся и, оскалив зубы, сказал:
– А ловко купца-то отщекатурили. Дюже хорошо!..
– Чем же? Что ж тут хорошего?
– Ничего… Ловко!.. Иному и этого еще мало!.. Иного-то и не так еще достойно.
– За что же?
– Не делай худа! Они нешто понимают это? Да вот сейчас у нас купец тут один всю реку запрудил и рыбу не пущает. Что ж, хорошо это?
– Как не пущает?
– Да так! Запрудил реку в своей аренде, перепрудил ее, стало быть, поперек, у самого озера, всю рыбу-то и заарестовал у себя… Да ведь что выдумал! железную загородь-то сделал на веки веков! На полтораста верст и нет рыбы… А ведь на полтораста-то верстах сто деревень… Да все они рыбой жили, питались… А теперь вон мызгаются-мызгаются по воде-то, а там ничего нет… Это как – хорошо или нет? Ведь надо ж такую иметь в себе жадность! Помирайте, мол, с голоду сто деревень, только бы мне!.. Нет, они тоже не думают о прочих народах…
– Так жаловаться надо на купца. Он не смеет так делать.
– Ну, жаловаться!.. У него мошна-то, поди-ко, вот как отдувается… Ему выйдет закон, а он его не исполнит – больше ничего… А по-моему вот эдак-то лучше…
– Как "вот эдак"?
– Да вот, как тому… днище-то высадили… Надавал ему хороших, а запруду-то прочь, вот оно и будет без обиды!.. А то поди, пиши бумаги… Ты бумаги пишешь, а он рыбу ловит да продает. Нет лучше, превосходнее, как "своим средствием"… Первое дело – отделал его под орех или под воск, вот он и поостережется грабить-то!..
– Ну, брат, – сказал я, – не вполне ты правильно разговариваешь
Хотел было я поговорить с ним на эту тему, но, взглянув в сторону, увидел молодого человека. Он стоял на берегу и, к удивлению моему, зачем-то звал меня, делая рукою знаки.
II. ОПУСТОШИТЕЛИ
Я подошел к молодому человеку, стоявшему на берегу, и он с улыбкой рассказал мне, что именно он-то и есть тот самый Лаптев, который по ошибке попал в историю купца и был принят, также по ошибке, за аптекаря. Он подробно рассказал мне как об этой путанице, так и о своем деле, которое привело его в ту же самую канцелярию, куда попал и купец. Разговаривая таким образом, мы долго гуляли по берегу, а когда стемнело, возвратились на пароход. В буфете продолжались разговоры, слышался хохот, а нам хотелось отдохнуть. Парень-убивец, проникнув в глубину наших желаний, моментально устроил нас в дамской каюте, где никого не было. Он принес нам сюда чаю, две подушки и перетащил на своих плечах все наши вещи, оставшиеся в буфете. Мы стали пить чай и разговаривать.
– Все-таки, – сказал я, припоминая недавний рассказ Лаптева о его деле, – я не понимаю, зачем вы ушли из каюты. Пускай бы купец узнал вас – что за беда?
Слегка улыбаясь, Лаптев молча мешал ложкой в стакане чая и о чем-то думал.
– Знаете, – начал он, медленно отделяя слова, – беды действительно нет, все вздор… Но если б он меня узнал, он бы поглядел на меня… Вот этого взгляда-то я и не могу переносить, то есть еще не могу, а со временем, быть может, привыкну, то есть позабуду впечатление этого взгляда. А теперь он просто дерет меня по коже… Как только поглядит на меня этаккакой-нибудь обыватель, так у меня просто жжет всю кожу, точно когтями кто царапает.
Я не понимал, о каком-таком необыкновенном взгляде говорил мне Лаптев, и молчал.
– Лет пятнадцать кряду, – продолжал мой собеседник, – мне пришлось играть роль того кирпича, который швыряют из рук в руки… Попадешь в одни, швыряют дальше, в другие, а едва попал в эти другие, немедленно бросают в третьи и так далее. Летишь в неведомую даль… И хотя пребывание мое в этих бесчисленных руках было непродолжительно, но я всегда встречал этот… терзающий взгляд, враждебный испуг и если не готовность на жестокость, то во всяком случае непременно мысль о ней. Вот и купец, если б он узнал меня, непременно бы глядел на меня такимвзглядом… А я, ей-богу, пока не в состоянии…
– Но ведь и сам купец тоже испытал кое-что, – сказал я. – Припомните, в какую безобразную свалку попал он… Я думаю, напротив, он понял бы и ваше положение… Ведь и он и вы очутились в одной и той же канцелярии…
– Ну нет! – оживленно перебил меня Лаптев. – Купец отлично видит и знает, что он-то, обыватель, попал по ошибке, а вот я, так и по его мнению, попал за дело.Свалка-то она точно свалка, если хотите – арлекинада, хоть и необузданно жестокая, грубая, дикая, а в ней, если только поприсмотреться, вникнуть, разобрать, отыщутся совершенно определенные течения враждебности, ненавистничества, и поверьте, что обывательский кулак отлично знает ту шею, которая ему ненавистна. Положим, что, руководствуясь в отыскании этой шеи главным образом чутьем, он по ошибке заденет десятка два соседних и родственных скул и затылков, но уж, будьте уверены, добьется и той скулы, какая ему требуется. Во времена моей юности и я в простоте сердечной полагал, что все это одно только жалкое недоразумение. Не раз мне хотелось сказать: «Безумные, опомнитесь! Ведь вы себя же губите», и т. д. Но потом я убедился, что именно себя-тои не губит обыватель, что именно на всех путях своих он только себя одного и помнит… Как же, свалки! Недоразумение!.. Вот я сегодня читал в какой-то газетке «сцены ка Нижегородской ярмарке». Изображены купцы, трактиры, арфистки и вообще всякое безобразие. Люди жрут, пьют, врут бог знает что, как сумасшедшие… В простоте сердечной, пожалуй, подумаешь, что и в самом деле люди эти только безобразничают, а посмотрели бы, как они обделывают дела в то же время. Посмотрели бы, как они в то же время «под гитару» обрабатывают каких-нибудь каракалпаков на ситчике… Нет, обыватель отлично понимает свою часть! Вот почитайте, пожалуйста, тут у меня есть лоскутик из газет… (Лаптев вынул из бокового кармана памятную книжку, битком набитую всевозможными газетными заметками и записками. Кстати сказать, с этой книжкой он почти не расставался и поминутно, в подтверждение своих слов, вытаскивал из нее какой-нибудь писаный или печатный документ.) Вот… Да я вам сам прочитаю… Дело идет об убийстве одного больного в больнице для умалишенных. Вот… «Били Орлова добрых полчаса. Когда Кудрявцев устал бить и просил помощи, то послал за Филимоном. Этот субъект прежде всего (знает, с чего начинать следует!) давнул Орлова коленкой в грудь, дал по шее и потом дал в бок раз пять с размаху… Смотритель стоял и говорил: „Прибавь“, но сам не бил». Итак, видите, позвали, «кликнули» Филимона, сказали: «бей» – и Филимон немедленно приступил к исполнению приказания. Сначала в грудь, потом по шее и, наконец, в бок… Во-первых, во-вторых и в-третьих – все по пунктам… Что же это за стенобитное орудие? Что это такое: машина или человек?.. Оказывается, что человек, который к тому же поступал совершенно сознательно, и вот, полюбуйтесь, выставляет в свое оправдание уважительную причину… Вот тут сказано: «В свою защиту Филимон ссылался на то, что он семейный человек, имеет при больнице казенную квартиру, дорожит местом и исполняет, что приказано…» Существует, стало быть, двигатель, и, как видите, весьма сильный – семейство, фатера!.. Подумайте только, каково это семейство, какова эта семейная святыня, где можно спокойно чувствовать себя, совершив поистине злодейское избиение кроткого, шутливого (так сказано в стенографическом отчете процесса) человека!.. В том же самом Рыбинске, где происходит это безобразие, ломовой извозчик иногда вырабатывает в день по двенадцати рублей. Ведь есть же, стало быть, возможность не особенно пугаться того, что если и не исполнишь жестокого приказания, то без хлеба будешь… Но для этого надо хоть чуть-чуть думать не о себе, хоть на вершок видеть дальше своего носа… А этого-то и нет в громадном большинстве, в самом, так сказать, фундаменте обывательского общества… Да пусть бы это обывательское "я" было хоть сколько-нибудь разработано, в чем-нибудь выражалось, приняло бы какие-нибудь хотя мало-мальски достойные уважения формы – и того нет… Семейство, фатера!.. Войдите туда, ведь там ничего нет! Разве был за последние двадцать лет хоть единый мало-мальски яркий, внушительный случай, чтоб обыватель, ссылающийся в своих опустошительных набегах на отечество, на свою любовь к семейному очагу, вступился бы искренно хотя бы, например, за своих собственных детей? Ведь он нигде не пикнул – ни в думе, ни в земстве, не отправил ни одной депутации, как отправляет теперь с просьбою «запретить нам пьянствовать!..» Одного этого уже достаточно для того, чтобы представить себе, как мало какого бы то ни было нравственного содержания в его «фатере»… И все-таки, если вы попытаетесь потревожить его в этом пустом обиталище, он, не задумываясь, защитит себя… сначала в грудь, потом в бок, потом по шее…
Я попробовал было возразить Лаптеву, сказав, что случай, на котором он основывает свое мнение об обывательском бессердечии, есть случай исключительный, что виновники его понесли достойное наказание и что, наконец, бессердечие и видимая каменность обывателя имеют своим основанием и другие уважительные причины, не зависящие от обывателя; но Лаптев даже и не ответил мне – точно он не слыхал меня – и упорно продолжал порицать обывателя.
– Пуще всего обыватель боится каких бы то ни было нравственных обязательств, нравственных жертв. Все, что не касается лично его благополучия, все, что хоть на вершок раздвигает его до безобразия узкое миросозерцание, – все это пугает его, все это он гонит прочь; он боится нравственной борьбы, он совершенно непривычен к малейшим тревогам из-за каких бы то ни было забот, не касающихся его, а тем паче таких, ради которых он в самом деле должен чем-нибудь пожертвовать.
Опять я возразил Лаптеву и возразил довольно резко, но он не слышал меня, мотал отрицательно головой и продолжал:
– Нет, нет, не говорите! Никакая жестокость, никакая несправедливость не может совершиться, если для этого не будет обывательского содействия… Аракчеев – русский тип. Посмотрите, какою кроткой овечкой разъезжал он за границей и каким оказался по возвращении в отечество… В отечестве у него есть почва, содействие, помощь – все, что нужно. Буря, холера валит у нас эти колоссы, а без этих стихийных пособий обывательская среда, неизвестно еще, быть может и по сей день поставляла бы помощников и пособников. Нет, надо когда-нибудь и обывателю почувствовать себя виноватым. А то скажите пожалуйста, выдумали за все и про все отвешивать перед ним низкие поклоны… Он – кроткая овца, а его "заставляют"… Его вон и пьянствовать будто бы заставляют, и он перестать не может до тех пор, покуда ему не запретят… Депутация едет… Зачем? – "Позвольте нам перестать пить! Запретите, ваше благородие, нам пить! Взыщите с нас, а то мы сопьемся с кругу!.." Бедняжки!..
Я уж не возражал Лаптеву, так как видел, что он недоступен, никаким возражениям, что "жестокость", о которой он постоянно говорил, своего рода пункт помешательства, и потому еще, что нельзя было не заметить в нем сильного нервного расстройства. Говоря последние фразы, он как-то вдруг осунулся, побледнел, и губы его стали тонки и белы.
– Овца на заклании… Нечего сказать, похожа… А кто пропитал этим "фатерным" элементом, этим фатерным смрадом все, что носило за последние годы какую-либо видимость общественного дела, кто?.. Кто сумел обездушить все общественные учреждения, кто изъял из них всякую тень мысли, кто оставил от этих учреждений одни ободранные голые стены?.. И кто, наконец, с такою кропотливостью работал над тем, чтобы с корнем раздавить малейшую попытку дать этим делам душу живу?.. Ведь если бы пришлось характеризовать в коротких словах недавнее прошлое, так его нельзя иначе определить, как временем опустошения общественных забот и тщательнейшим изъятием из общества тех людей, которые хоть единым словом пытались заикнуться в самом делеоб этих заботах. Везде, где только должна была работать мысль о ближнем, – везде, где требовалась искренность, жертва, правда, – везде обыватель утвердил фатерный элемент, поставил дело на нуль, опустошил и за беспокойство отомстил без пощады… Посмотрите-ка хладнокровно, кто остался победителем? – Обыватель! Кто натащил всюду навозу, сору, тупости и глупости?.. Кто во имя этих «фатерных» элементов сокрушал ребра ненавистникам? – Все бумага… Да ведь бумага-то приходила по желанию обывателя! Сначала обыватель возропщет и доложит, а потом уж и бумага следует…
Говоря это, Лаптев проворно перебирал листки своей памятной книжки, отыскал какую-то длинную газетную вырезку и, держа ее в руках, сказал:
– Как так "не обыватель"? Вы, я думаю, читаете же, что пишут, и поминутно, на каждом шагу оказывается, что везде, где следовало стоять общественному делу, обыватель устроил червивую компостную яму… Вот, не хотите ли, я вам прочитаю маленький эпизодик. Тут и я участвовал… Эпизод самый обыкновенный – на каждом шагу такие эпизоды были, и есть, и будут… Тут окажутся и правые и виноватые… Словом, все – как обыкновенно. Слушайте!
Лаптев приготовился было читать, и вдруг лицо его, до сей минуты суровое и даже гневное, озарилось мягкой и добродушной улыбкой.
– А знаете, ведь прелюбопытное существо этот обыватель-опустошитель!.. Повидимому, он только и делает, что приспособляется к обстоятельствам, извивается ужом. Но разберите его хорошенько, и вы удивитесь тому мастерству, с которым он эти самые обстоятельства приспособляет к себе… Какой он мастер оставлять в дураках тех, кому повидимому он покоряется и беспрекословно повинуется!.. Это такая прелесть – на охотника… Да вот слушайте.
Лаптев взялся за листок.
– Повторяю, эпизод самый обыкновенный – миллионы раз у всех этакие эпизоды были под глазами… Но необходимо для полноты картины прочитать все по порядку: "В ознаменование события (имя рек) Посусаловская городская дума в экстренном собрании гг. гласных постановила: отчислив из таких-то и таких-то сумм 8.500 руб. и присовокупив хранящиеся в государственном банке, пожертвованные в 1826 г. купцом Маслянниковым, 19.736 руб. 3 1/2 коп., а равным образом отчисляя из городских доходов 2.633 р. 4 к., открыть в г. Посусалове ремесленное училище на тридцать человек, преимущественно для сирот и детей беднейших родителей, и ходатайствовать пред правительством о даровании означенному училищу относительно воинской повинности права училищ 2-го разряда. Постановлено также приобрести покупкою купца Ерыгина дом с мезонином, на каменном фундаменте, находящийся городской части, 3 кварт., по Спасово-Спасскому переулку, и приспособить его для помещения училища, то есть классных комнат, мастерских, спален и лазарета на 5 кроватей. При этом гласный Кнутовищев, имеющий в городе одну из лучших мебельных мастерских и сам вышедший из беднейшего класса, изъявил желание безвозмезднопреподавать ученикам уроки столярного ремесла. Благой пример не остался без подражания. По примеру Кнутовищева гласный Окаянный, имеющий в городе каретное заведение, и гласный Маломальчиков, славящийся образцовыми сапожными изделиями, также без всякого вознаграждения пожелали преподавать уроки сапожного и кузнечного ремесл, а священник Иоанн Лейденский изъявил согласие на преподавание закона божия за умеренную плату. По доведении о сем до сведения…" Ну и так далее.








