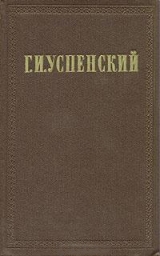
Текст книги "Овца без стада"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
– А был добёр, что говорить, всей душой готов!.. – продолжал мужик. – Да, как помусолили его хорошо, так и стал он цепом отбиваться и от ворога и от хитрого приятеля… Так-то, барин!
– Так, так, друг любезный, так!..
В это время явился Марк, нагруженный бутылками пива.
5
За этим пивом мы просидели в избе Марка еще часа два, если не больше, продолжая разговоры на ту же тему. Но теперь разговор наш принял несколько иное направление. Как бы утомившись своим негодованием на крестьянские безобразия, барин почти замолк и не то думал о чем-то своем, не то внимательно слушал слова крестьян, преимущественно слова огорченного крестьянина, который теперь почти один овладел беседою, и надо сказать правду: благодаря его разъяснениям, основанным на знании всей крестьянской подноготной, картина крестьянской жизни стала представляться вовсе не такой уж отчаянной, какая вышла благодаря наблюдениям «не слившегося» барина.
После крестин у Марка мы встречались с барином несколько раз. Однажды я сам пришел к нему в Балашово; в другой раз пришел он ко мне. Несмотря на то, что он прямо заявил о своем намерении жить и думать только вместе с народом; несмотря на то, что я, начиная со дня крестин и с долгого разговора о крестьянских делах, стал весьма прилежно думать о житье-бытье только деревенском, нам обоим не представлялось, однако, ничего более важного в практическом отношении, как вести обо всем этом разговоры (только разговоры!), и притом только барину с барином… Между тем этот самый предмет нашего разговора продолжал с непонятным упорством влачить свою ежедневную лямку; продолжал задаром работать на немку, продолжал сечь своих ближних в дни собрания волостных судов, мирился на полштофе, махал с раннего утра до поздней ночи косой, чтобы ночью не нагрянул дождь и не оставил бы его скотину на всю зиму без корму, словом – шел своей дорогой, а мы, опечаленные его участью, разговоры разговаривали… Постараюсь, впрочем, не потопить читателя в этом море слов, которые на досуге мы сумели произнести на благо народа, а изложу наши словопрения в возможно приличном виде.
6
– Каким путем?.. – восклицал балашовский барин: – чорт его знает, каким путем я думал слиться с ними… Да и слово-то это – «слияние» – какое-то дурацкое… Оно даже в голову не приходило… Я просто чувствовал, что сорок лет, которые у меня за спиной, словно сорок невидимых, но крепких рук примкнули меня к деревенскому плетню и не пускают… «Сливайся, седая каналья», – да и все тут!.. Уверяю вас, в первый же день, как только я приехал сюда, я испугался… ис-пу-гал-ся (повторил барин это слово с особенным ударением), именно потому, что не пускают сорок рук, а сам я того, что здесь делается, не понимаю!.. И представьте, я ведь двадцать тысяч раз бывал и живал в деревнях, ведь моя семья – помещики; потом я приезжал в эти деревни в виде отца-благодетеля, мирового посредника, земского гласного… Я ведь этот миссионерский путь проследовал, и никогда я ничего не пугался здесь и, в качестве миссионера, даже не только все якобы понимал, а и совершенствовал.
"Но теперь, когда меня в деревню никто не назначал;теперь, когда я явился в деревню не на лето, как являлся в свою деревню в качестве барина; когда меня в эту деревню привела жизнь – тут-то я и испугался… Не на шутку испугался. – Зачем я здесь? на каждом шагу стало мне лезть в голову… Пищат цыплята, едет борона с поля, блеет овца, мычит корова – все это что-то мне чужое, идет куда-то по своему делу, в свое место, словом – мимо меня… Я до того растерялся, что, желая объяснить себе мое появление в деревне и с страшными усилиями пытаясь восстановить в своей памяти те бесчисленные иллюстрации, которыми в моем воображении были разрисованы мужик и деревня, решительно ничего не мог припомнить… Точно никаких иллюстраций и не было. Думал-думал, наконец придумал: «пошлю-ка я за водкой в кабак!» Ха-ха-ха… Принесли – «Славянской», «высшей»; с тех пор я и придерживаюсь ее – и ничего: облегчает!.."
– Какие же такие иллюстрации придумали вы к мужику? Чем могли вы его разрисовать?
– Мужика-то? О, батюшки!
Барин вдруг оживился, и глаза его засверкали какою-то совершенно детскою, улыбающеюся радостью.
– Мужика-то не разрисовать?.. Если на то пошло, так я вам скажу, что именно только одного мужика в настоящие дни и можно разрисовывать так, что только мурашки по коже забегают от восхищения… Только одного мужика!
– Какого же? Вот этого самого Марка, Ивана, Кузьму?
– Какого же еще? Разумеется, этого самого… Именно их-то, этих Иванов, Федосеев и можно воображению окружать великолепием… Все, что окружалось, надоело… Теперь великолепней мужика ничего нет на свете…
– Да, если его раскрасить…
– Прибавьте – и потому еще, что его можно раскрасить… На всем другом краска лупится, слезает.
– Право, я бы очень хотел послушать, как вы раскрасите мне какого-нибудь из этих Иванов?..
– Ничего нет легче!.. Позвольте мне припомнить вам один разговор именно по этому же поводу… Тут так раскрасили этого Ивана, что лучше покуда и не требуется… Этот разговор происходил года четыре-пять тому назад, за границей. Я в ту пору шатался там в самом ужасном состоянии духа. Какая-то сильнейшая нравственная оскомина ежеминутно отравляла мое существование. Все, что мне ни припоминалось в моем прошлом, все, что ни видел я перед собою в настоящем, все каждую минуту возбуждало во мне это нестерпимое ощущение оскомины, и я просто не знал что делать. Только в кружках русской молодежи, куда я иной раз – в лучшие из моих сквернейших минут – заходил, только тут иной раз передо мной как будто что-то прояснялось. Но, разумеется, между мною, уже седеющею, изломанной дубиной, и ими – живущими, молодыми – никакой прочной связи не было: так только, в качестве благородного свидетеля, я и мог быть переносим и принят… Так вот раз, когда я забрел в один из этих кружков, мне пришлось натолкнуться, разумеется, на разговор и, разумеется, о народе (это уж всегда!..) Едва я услыхал слова: "мужик", "народная жизнь", и проч. и проч., как тотчас же почувствовал ощущение оскомины и поспешил выйти на балкончик, стараясь не слушать этих разговоров о народе (господи! сколько сам я молотил о нем моим празднословным языком!), и старался развлечь себя предметами посторонними…
"Балкончик был маленький, какой бывает у квартир в одно окно, в полторы комнаты, и висел над улицей необыкновенно высоко: он висел, впрочем, не над одной только улицей, а выходил углом на площадь, куда сходились еще три или четыре других улиц, спускаясь с возвышенностей. Место было необыкновенно типическое: асфальтовая площадь с массивным газовым фонарем посредине и широкий асфальтовый проспект перерезывал ее поперек, с жиденькими рядами платановых деревьев по его обеим сторонам – одни они только нарушали своим ординарным видом оригинальный характер старого квартала, искрещенного переулками, узенькими, кривыми, поминутно раскалывавшимися на новые и кривые переулки, обставленные высокими закопченными домами, облепленными закопченными вывесками маленьких кафе, угольных лавок, лавок всякого старья, тряпья и хлама, и населенные несметным числом народа, кишащего как в муравейнике. Но и полная жизни картина этого муравейника, которую я созерцал с моей обсерватории, нисколько не улучшала моего нравственного состояния и не уничтожала ощущения оскомины, несмотря на то, что эта мелькавшая передо мною жизнь почти ежеминутно менялась, как в калейдоскопе, поминутно складываясь, благодаря нагрянувшему омнибусу, барабанному бою, взводу солдат и т. д. – все в новые и в новые перестановки людских фигур. Никоим образом я не мог заглушить в себе этого в высшей степени беспорядочного потока мыслей, неведомо откуда залетавших в голову и неведомо какую связь между собою имевших. И завидовал-то я людям этого муравейника, и ненавидел, и о культуре думал, и о Бисмарке, и о том, что хорошо бы все это рассыпать прахом, и неожиданно о моем личном деле, и потом вдруг о войне. И – то мне казалось, что "мы" всё возьмем и разобьем, а то я вдруг, не знаю почему, желал, чтобы нас "раскатали"… Словом, бог знает, что такое толпилось во мне, и саднило, и ело, без всякого толку, и я, несмотря на страстное желание не слушать разговоров внутри комнаты, должен был их слушать, так как решительно не мог на чем-нибудь определенно сосредоточиться… Долетали поэтому до меня разные отрывочные фразы, которые я большею частью уже и говорил и слышал. Только один из русских, удивительно нежное создание и страшно измученный личными несчастьями человек, – только он один на минуту остановил было мое внимание некоторыми цифрами, касавшимися самых, повидимому, незатейливых сторон крестьянского труда.
"Знаете ли, сколько раз нужно ударить цепом, чтобы обмолотить столько-то ржи?" – спрашивал он. "А сколько?" – "Двадцать восемь тысяч раз!.." – "А знаете, сколько верст надо пройти, чтобы вспахать десятину?" И т. д. И всегда выходили удивительные цифры, невольно обращавшие на себя внимание своими непомерными размерами и рисовавшие хлебопашество делом необычайно трудным. Этими цифрами будущий писатель (молодой человек этот писал повесть «Пахарь»)хотел тронуть общество, тронуть сильнее, чем это делалось до сих пор, и заставить его любить этого мужика, который, несмотря на весь гнет своего положения, добр, самоотвержен, не корыстен и т. д. и т. д. Все это более или менее известно, и я, несколько озадаченный цифрами, вновь предался пустопорожнему унынию, когда пошли вновь общие рассуждения.
"– Да что это вы, Кузнецов, все плачетесь? – вдруг заговорил молодой, необыкновенно талантливый мальчик – ни в ком во всю свою жизнь не видел я такой страстной жажды сунуть себя в какое-нибудь самое опасное, самое смелое, дерзкое дело, как в нем… – Почему вы сидите на несчастиях одного только мужика? Вот вы говорите, что мужик не видит света, потому что – то стоит целый день у цепа, то полгода ходит за сохой… Ну а банкир, с вашей точки зрения, не такое же несчастное существо? Ведь и он целые дни стоит у бумаг и у связанных с ними миллионов случайностей… Там все цеп да цеп, да двадцать верст в день по пашне, а тут всё днем и ночью – деньги, деньги, деньги, и десятки верст на бирже, и точно так же, как для мужика град, так для этого мученика денег тысячи случайностей: оборвалась проволока, опоздал купить такую-то бумагу – пропал, загремел в бездну со всеми своими экипажами и содержанками, и прямо в пасть целой толпы озлобленных людей. Благодаря этой проволоке, благодаря тому, что через Ламанш оборвался телеграф, что Дон-Карлос проиграл битву, что Абдул-Азис неосторожно поиграл с ножницами, – его могут сразу возненавидеть все и будут рвать, как собаки волка, начиная от кучера, которому нужно получить грош, до жены, дочери, родного сына… Ну, как по-вашему, это – не мученик? Что ж, видит он свет? Есть ему минутка подумать о чем-нибудь другом, кроме той же, только банкирской, сохи – бумаг, денег?.. Ну, а если несчастия господ банкиров вас не трогают, так вот вам – кондуктор омнибуса: он целый божий день, с семи часов утра до одиннадцати часов ночи, за полтора рубля серебром вознаграждения, треплется на подножке кареты, буквально не смея отойти, треплется целые годы на одних и тех же улицах, мимо одних и тех же домов. Видит ли он белый свет? А инженер, а священник: разве все это не привязано к своей сохе? Какой такой общий разговор может быть у священника и актера, у инженера и кондуктора, у сапожника и банкира? Это все до такой степени оторвано друг от друга микроскопичностью смысла своего труда, что вылилось почти в такой же резкой форме, как птица, рыба и т. д.
"– Именно в смысле необыкновенного разнообразия не физической только, а нравственной деятельности, требуемой крестьянским трудом, обиходом его домашней жизни, участь мужика-крестьянина и представляется не только не печальною, но и решительно завидною сравнительно со всеми бесчисленными профессиями, на которые раскололся род человеческий. «Мы всё сами», – говорит мужик; он самдобывает хлеб, самдобывает кожу на сапоги, овчину на тулуп; он самткет себе рубашку, словом – он все сам.Умственная деятельность его постоянно в работе, постоянно в наблюдении, потому что этого требует разнообразие его деятельности… Одна добыча хлеба ставит его в зависимость, от тысячи явлений природы, от тысячи коммерческих, финансовых соображений. Он смотрит и изучает небо и землю, примечает движение ветра и силу тумана – тысячи вещей, из которых на каждой, где-нибудь в казенном здании, сидит по специалисту с хорошим окладом, сидит, совершенно отделившись от света и ничего не понимая, кроме своего оплачиваемого труда. «Все сам» – этого довольно, чтобы представить себе, что в мужицкой крестьянской избе сходятся в каждом из обитателей этой семьи тысячи всевозможных специальностей, что в ней царит постоянная умственная деятельность, что в ней – бездна знания… («Знания?» – возопил Кузнецов. «Да, да, знания… подождите горячиться!..») Такая бездна и разнообразие знания, что вот этот серый, аляповатый мужик поймет какого угодно специалиста и поможет ему, а специалист ничего в мужицких нуждах, в мужицких речах не поймет… Приезжай в любую русскую деревню Дарвин, Гумбольдт, кто угодно; и если им в их работах придется делать дело с мужиками, то они непременно найдут людей, которые поймут, что им нужно, принесут камень, зверька и т. д. Поймут, потому что каждый наблюдал так же хорошо (только по-своему) то же самое, что и Гумбольдт и Дарвин. А спроси мужик что-нибудь у этого Гумбольдта из своего обихода – Гумбольдт его не поймет, потому что и речь-то мужика, то есть человека, широко и разносторонне развитого, в своей сжатости, всегда касается одновременно массы разнообразнейших явлений, одновременно им обсуждаемых, или по крайней мере принимаемых во внимание, и, стало быть, темна, сложна, непонятна для всякого, думающего «по своей части». Вы вот не согласны с моей фразой, что у мужика бездна знаний, а я думаю напротив – я даже полагаю, что мужик, который все сам,знает решительно все… («Все?!» – «Все, что знает каждый из тысячи специалистов знания».) У него… да что вы хотите! Просто-таки все знает – да и шабаш! Он – инженер и механик, он строит гати, плотины, мосты, мельницы (ветряные, водяные). Он и ботаник и зоолог; он знает каждую травку, знает каждое, самое ничтожное свойство травки; знает, какой зверь, какая птица как живет, то есть знает ее слабые стороны, знает ее хитрости, словом – решительно все, что знает Брем. Он и анатом, давно и основательно знакомый с тем, что делается у зверя в нутре; он и медик, так как у него миллион сведений по медицинской части, с таким же вероятным успехом действия, как и сведения Боткина… Да что я! – больше, чем у Боткина: он останавливает кровь одним словом, он вылечивает укушение змеи, пошептав что-то над осиновой корой и приложив к больному месту… Он и спирит и знаток тайных невидимых сил, которых господа Бутлеров и Вагнер разыскивают под столами и под диванами, не получив, впрочем, никаких существенных результатов. У мужика результаты давно есть: чорт есть– и мужик знает его характер, цель существования, цвет шерсти, длину рог и хвоста, потому что его, вот как вас, – так близко видел и держал за ногу (нога у него утиная, только шершавая, с шерстью)… Словом, ни у одного, кроме мужика, счастливца на белом свете, нет такой удивительно разнообразной, всесторонней внутренней умственной жизни. Ни у кого и не может быть такого разнообразия наблюдательности, такого обилия знаний, каким наделен мужик, благодаря именно характеру его труда, который требует от человека самого широкого развития, благодаря его положению, требующему, чтоб он все сам.Кто сочиняет и поет навеки остающиеся песни? – мужик. Где найдете вы настоящее, неподкупное веселье, чистое, как чисто оно в детской душе? – у мужика. Кто здоров, силен, великодушен, так, просто великодушен без соображения и форсу? – опять же мужик. Кто всякому поможет, найдется во всяком положении и все перенесет, все поймет? – опять тот же самый мужик… И наконец, при мало-мальски сносных обстоятельствах, у того же самого мужика бывают – и только у него одного – минуты наиполнейшего, широчайшего счастия… Видите, как плохо-то мужику!.. Ему лучше всех! («Ну уж врете!..» – завопил Кузнецов.) Несомненно лучше, если бы только вы, господа интеллигенция с госпожою цивилизацией, не рвали этой здоровой, полной жизненной силы клеточки крестьянского дома на части; если бы вы не доводили ее до распадения какими-то непонятными требованиями, постоянно от нее отнимая и ровно ничего не давая взамен… Почему вы не считаете своей святой обязанностью давать ей настоящиезнания, последние слова ваших наук? Там, где все, всё сами, – там всё поймут, всё нужное возьмут, а главное – все пойдет впрок: все переработается гораздо лучше, чем у вас, иссыхающих над своими специальностями, да еще в одиночку…
"Признаюсь, – продолжал балашовский барин: – много я болтал о мужике, знал я его за железную грудь, и за мученика, и за страдальца, но счастливейшим из смертных ни я, да и никто еще его не считал… Невольно я стал внимательно следить за этой иллюстрацией к мужику и чувствовал, что она мной овладевает, что путаница мыслей и чувств, одолевавших меня, начинала принимать некоторые формы… потому что ведь, право, разрисовано – ничего-таки?"
– Разрисовано – ничего! – сказал и я.
– И лучше, лучше еще можно разрисовать. Я сегодня не в ударе, а то я бы сам…
– И так хорошо, – сказал я. – И этого пока достаточно… Так именно эта иллюстрация и привела вас сюда?
– Сюда привела меня жизнь! Жизнь русская, ежедневная, обыкновенная жизнь обыкновенного дворянина привела меня к тому, чтобы иллюстрации эти пришлись мне по душе. Эта самая жизнь заставила меня жаждать выхода, обновления, выхода из этой бесконечной, тягостной, ежедневной фальши и лживости, переполняющих жизнь не то чтобы интеллигентного россиянина, а так, просто жизнь обыкновенного неплательщика… Было в моей жизни так много напрасно и глупо-мучительного, что мужик, иллюстрированный вышеупомянутым способом, не только не терял своих удивительно привлекательных красок, но, напротив, я сам лично, боясь опять остаться с моей оскоминой, стал расписывать его еще ярче, еще великолепнее…
– Еще великолепнее? – изумился я. – Как же и чем вы еще его расписали?..
– А расписал я его таким манером… Впрочем, необходимо прибавить еще несколько слов из соображений по этому поводу того мальчика, который сумел так весело посмотреть на мужика… Развив свой взгляд на этого счастливца, он сказал, обращаясь к Кузнецову: "Нет, Кузнецов, все– несчастные, всемнужна помощь и спасение, и между всеми-то этими формами жизни, приводящими к несчастию, только мужицкая форма и содержание жизни и имеют для всех спасительную будущность… Только человек, который может все сами не будет иметь надобности перерывать другому человеку горла, чтобы добыть то, что сам не может, не имеет, – вот он-то и есть «идеал».
"Ну, тут под такие громкие и веселые удары и мертвый запляшет… Заплясал и я: мне представилось, что первая в мире земля, земля, которой принадлежит миссия обновления всего белого света, – это земля сплошь мужицкая, сплошь населенная этими разносторонне и совершенно развитыми людьми, известными под именем "мужварья", и где только изредка, "как муха в молоке", мелькает красный околыш интеллигенции – околыш, не имеющий других претензий, кроме получения прибавки… С этой точки зрения на русскую землю мне стало все видно, вся оскомина моя рассеялась. Нашлась характерная черта национальности: мы – люди всеобщего права жить, думать и развиваться, не имея никакой надобности рвать друг от друга кусок, так как всем хватит. Это не подлежит никакому сомнению, и именно только у нас… Нашлась и национальная идея: мы – за всех мужиков всего света, за их право жить, пользоваться всем, что выдумал хорошего белый свет… Ткацкий станок мы сделаем доступным каждой деревенской бабе, взяв из этой выдумки только то, что сокращает труд, что дает возможность целую зиму труда заменить одним месяцем, и вовсе не обращая внимания на способность выдумки производить массы… Ну и так далее!.. Прибавьте сюда разные: наши артели, общины и прочие и прочие пленительные вещи, вещи, конечно, разрисованные, – и вы поймете, почему я, после целого года размышлений и всевозможных фантазий, очутился тут, у деревенского плетня…"
– Но ведь тут все не так? Ведь не разрисованный-то мужик – совсем другой… Не правда ли?
– Не тот, не тот… Он так же изуродован, как и наш брат с красным околышем; но знаете ли что?.. То там, то сям изредка мелькают какие-то черты в обиходе мужицкой жизни, которые почти приравнивают его к мужику иллюстрированному… Что изуродован он – это верно; но в нем еще живет много самых образцовых, в смысле приведенной иллюстрации, свойств. Расскажу вам один эпизод из фабричной жизни, случившийся на моих глазах. Под Москвой есть большая ткацкая фабрика, едва ли не первая по размерам производства в России. Два года тому назад на этой фабрике было волнение рабочих, окончившееся, благодаря пособию государственного банка, к их полному удовлетворению. Весь шум произошел из-за того, что администрация завода не хотела удовлетворить рабочих за осенние месяцы в тех именно размерах, как было условлено весной, при найме, и рабочие требовали доплаты и сложения некоторых штрафов; – всё это им и дали, благодаря, как я уже сказал, сторонней помощи. Любопытнее всего причина, по которой администрация завода обманывает рабочих, обещая осенью (когда у крестьянина почти нет заработка) платить столько же, сколько весною и летом. Причина этого та, что при наступлении летних месяцев крестьянин предпочитает за ту же цену, которую дает фабрика, работать другую, крестьянскую работу; он предпочитает, например, косить, жать, вместо того чтобы торчать у фабричного станка… Видите ли, он не доведен еще до такого деревянного положения, как иностранный рабочий, иссушенный и обездушенный каленою атмосферою и машинного деятельностью фабрики, и позволяет себе еще фантазировать, прихотничать, бросая с весны его кормилицу-фабрику… Возможно ли, стало быть, нашему капиталисту вести свои дела так, как ведет их капиталист иностранный; возможно ли ему конкурировать с фабриками, на которых люди работают с правильностью и неутомимостью паровых машин, когда его рабочий еще не оболванен вконец и предпочитает делать более веселое, разнообразное дело крестьянского обихода за ту же или даже меньшую плату, какую дает благодетель-фабрикант с своим однообразнейшим машинным трудом? Чтобы удержать фантазера-работника, чтобы не потерять всего состояния из-за его фантазий, из-за его желания работать "повеселей", капиталист наш должен прибегать к разным уловкам и, между прочим, к той, о которой я уже говорил, то есть он обещает платить ту же цену и осенью, когда является множество желающих работать и когда цена значительно падает. Только под таким условием, весьма выгодным, и можно удержать "любителей крестьянства" у фабричных станков. Но осенью, разумеется, с ними поступают иначе и, кроме того, донимают штрафами, так как, несмотря на надувательство осенью, все-таки рабочий крестьянин несет с собою в фабрику множество убытков, портит иной раз с умыслом, уходит, когда дорога каждая минута, и т. д. И все эти убытки надобно выручать с него разными правдами и неправдами, обманами, штрафами… Без таких фокусов и уловок да без помощи сторонней – нашему капиталисту-фабриканту плохо, почти невозможно существовать: у него нет нужного ему машинного человека,у него поневоле работает крестьянин – человек, привыкший делать работу, требующую большой внутренней жизни, работу крестьянскую. Со временем, впрочем, я надеюсь, и господа фабриканты будут благоденствовать; но теперь еще мелькают живые черточки, и вот они-то и поддерживают веру в иллюстрированного мужика…
– Но ведь эти черточки редки, слабы… Да и так ли вы поняли факт, о котором была речь?
– Мне кажется, так; впрочем, не знаю.
– Но все-таки мало их, этих живых черт, и редко они попадаются… Неужели такие или подобные, едва заметные черты укрепляют в вас веру в эти иллюстрации… и ведут, как вы говорите, к плетню?..
– Да… и эти черты… А мои сорок лет-то? А сорок рук-то? Их-то вы позабыли!.. Они тут! – это главное!..








