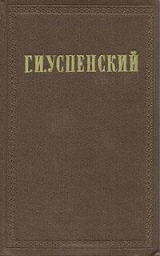
Текст книги "Малые ребята"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
X
На этом мы распростились с Иваном Ивановичем и его опытами. И так как ничего нового в этом отношении мы пока сообщить не имеем, то скажем несколько слов по тому же детскому вопросу в отношении к подрастающему поколению деревни. При этом мы должны откровенно заявить, что не можем брать этого вопроса во всей сложности, то есть не можем подробно разбирать современной школы, ее достоинства и недостатков, ее положения и значения в общих условиях деревенской жизни. Это все вопросы чрезвычайной важности, требующие основательно разработки и обильных, внимательно собранных материалов. Такой задачи мы в виду не имели, просто потому, что не могли бы удовлетворительно ее выполнить. Нам хотелось только в общих чертах отметить направление, по которому идет образованный человек, и нам кажется, что он идет от народа, а не к нему: точно так же мы хотим только отметить существеннейшие черты, преобладающие в умственном и нравственном развитии народа в настоящее время.
Минуя школу, имеющую, как нам кажется, весьма мало значения в совершенствовании условий народной жизни, мы должны сказать, что влиятельнейшим учителем как старых, так и новых поколений деревни является попрежнему сама жизнь, улица и то, что на ней происходит. В этом отношении, нет никакого сомнения, кулачество – явление новое и самое крупное, самое видное за все время, начиная с освобождения крестьян.
Что же это за явление? Что такое кулак? Существует мнение, что деревня портится, расстраивает свои порядки от пришлого со стороны человека. Пришлый человек является в деревню, при помощи капиталов или копеек покоряет под ноги своя всю округу, начинает эксплуатировать и развращать. В появлении таких людей не может быть сомнения – всякой мерзости, точно, очень много толчется вокруг деревни, – но почему всякая мерзость кулацкая находит для себя почву, это не может быть объяснено ни капиталом собственно, ни чужеземством его обладателей. Что капитал, не обеспечивает барышей – возьмите помещиков: деньги у них были, и притом порядочные; барыши тоже они желали получать – чего бы недоставало? Есть всякая возможность без труда овладеть округой, а между тем на деле вышло и выходит иначе; помещики с капиталами разорились, а вот деревенский человек разжился и стал тысячником ни с чего, начал, в буквальном смысле, без алтына. В самом деле, не чудеса ли творятся наяву: вот барин, просадивший в имение десятки тысяч, не знает, как быть и куда себя пристроить, и вот мужичок, начавший разживу с сальной свечки… да, в буквальном смысле, с фунта сальных свечей. Придет ли в голову какому-нибудь постороннему деревне человеку с капиталом, желающему от нее поживиться, тень мысли о конкуренции человека, владеющего только сальной свечкой, фунт которых стоит двенадцать копеек? Разумеется, никому и никогда; вся тайна этого явления в том, что всякий местный или пришлый человек наживы имеетнепременно деревенскую опытность,непременно прошел всю деревенскую лямку, знает всю деревенскую подноготную и является поэтому чистейшим продуктом всех условий исключительно деревенской жизни, и притом главным образом теперешней. Всякий пришлый непременно должен был пройти лямку деревенской жизни в «своей» стороне, иначе он не имел бы успеха и на чужбине, как не имеет успеха барин, хотя у него и имение большое, и кредит в банках, и т. д. Возьмем хоть историю с сальной свечкой. Каким образом можно разжиться, то есть сделаться тысячником, пустя в оборот сальную свечку, цена которой полторы копейки? Для Ротшильда, владеющего миллионами, это неразрешимая загадка, а вот деревенский человек разрешает ее в самом блистательном виде, и именно только потому, что он человек деревенский. Как известно, всю зиму и осень в деревнях бывают по вечерам посиделки; устраивают их девушки для того, чтобы привлечь деревенских парней в такое собрание, где все деревенские девушки налицо – выбирай любую; по дворам никого не сыщешь, а следовательно, волей-неволей придешь в известное место. Чтобы эти посещения не представляли для женихов никакой тяготы, девушки принимают на себя все расходы по устройству собраний. Они платят за квартиру и освещают ее. Плата за квартиру обыкновенно не велика, копеек сорок в месяц; это девушки еще кое-как одолеют; но осветить избу в течение нескольких месяцев, на это у них уж нет никаких средств – и вот тут на выручку является практический деревенский человек; он верит по две, по три свечки сальных в долг, то есть тратит копеек по пяти в день и записывает по пятачку за свечку; отдавать же ему не деньгами, а работой. За каждый пятак девушки обязуются сжать ему суслон(цена определенная), то есть десять снопов. Сочтите, сколько сгорит сальных свечей и, следовательно, сколько обработают ему девушки, которые, несомненно, ему и благодарны останутся. Этот же практический деревенский человек знает,когда несутся куры и когда бабам нужны деньги, знает, когда у кого сколько шерсти, когда под залог идут овцы, а когда телята – словом, знаетсамые сокровенные помыслы деревенские и только поэтому и, имеет несомненный и верный успех. Наконец, кто не знает, что вот это самое имение, в которое ухлопаны десятки тысяч, которым управляли ученые агрономы и которое не давало ничего, кроме убытка, немедленно начинает «приносить пользу», как только к делу приставят опытного местного жителя. Вообще всякому, желающему иметь с мужиков доход, непременно надобно проникнуться кулачеством, из барина с облагороженными манерами превратиться в нечто напоминающее волка, из пиджака перелезть в полушубок. Словом, для того чтобы хищничать в деревне, у кого к этому есть охота, надо изучать это дело ни у кого другого, как у опытных деревенских людей.
Мы охотно верим в дурное влияние на деревню массы пришлых элементов, но никоим образом не можем только ими объяснять деревенского кулачества, то есть выделения среди деревенской массы личностей, эксплуатирующих эту самую массу. Беда именно в том и состоит, что кулачество – явление не наносное, а внутреннее, что это не пятно, которое можно стереть, а язва, органический недуг.
Но самая горькая и обидная черта этого явления заключается не собственно в хищничестве, а в том, что ничего другого, хотя мало-мальски равнозначащего по разработке и технике, деревенская жизнь за последнее время не представляет. Есть ли что-либо хотя приблизительно так прочно усевшееся и усовершенствованное в отношения, положим, самопомощи, как усовершенствовано кулачество? Существует ли, словом, какое-нибудь явление, прямо противоположное и имеющее какое-нибудь значение, пользующееся каким-нибудь успехом? Говоря беспристрастно и не боясь нападок, мы должны сказать, что ничего подобного нет; напротив, что всего ужаснее, так это то, что в кулачестве вы видите несомненное присутствие ума, дарования, таланта. Посмотрите, сколько человеку, вылившемуся в кулака, надо передумать, сколько ему надо внимательности к себе, к другим, чтобы с успехом делать, свое дело, как надо много знания людей, характеров, вообще жизни. Подумавши об этом серьезно, вы убедитесь, что для кулачества необходимо быть очень умным и очень талантливым человеком. Иногда блещут в деятельности кулаков подлинно гениальные способности, и в то же время вы не можете не убедиться, что равносильного таланта, ума, наблюдательности, вообще даровитости ни в чем другом, ни в мирских общинных делах, ни в семейных отношениях – не выразилось. Что же значит это явление? Отчего ум и талант на первых порах (что будет дальше, мы не предсказываем, так как говорим только о настоящей минуте деревенской жизни) пошли таким недобрым, неприветливым и разорительным для самого народа путем?
XI
Не выдавая своего мнения по этому вопросу за непогрешимое, я, однакоже, имею некоторые основания предполагать, что до кулачества, до холодного, обесчеловеченного взгляда на людские отношения, деревенский человек дошел именно, и к несчастию, собственным умом, и притом умом сильным, наблюдательным, бесстрашным. Что ж давало этому уму непосредственное наблюдение жизни? Говоря вообще, всякий энергический деревенский ум за все последние двадцать лет мог в великом изобилии питаться наблюдениями, производящими только дурное и ожесточающее впечатление. Некоторое как бы злорадствонепременно должно было лечь в основание его наблюдательности. Не говоря о материальных обидах, в виде урезок земли, леса, в виде плохого качества пашни, довольно-таки частенько достававшейся крестьянам по их освобождении, какая пища злорадству в этих попытках вчера еще полновластной усадьбы – сохранить прежнюю повадку отвоевать право на широкое безделие, когда уж к этому нет никаких средств! Не забудем, что наблюдатель наш – крепостной крестьянин; и нам будет понятно, почему неудачи помещичьего дома без особого сожаления встречались этим наблюдателем… Вон – в этой усадьбе – уже нет огромной дворни, не съезжаются полчища гостей, не выезжают из этих ворот тесовых кавалькады охотников и не тешатся по неделям в отъезжем поле… Громадная карета, величиной с дом, стоит недвижимо под сараем и лупится, расклеивается от дождей… Вот ее продали за безделицу на слом и стали ездить «парочкой», в маленьком тарантасике. Перечислите, припомните все в этом роде и подумайте, сколько раз деревенский наблюдатель должен был ощутить в себе желание сказать или подумать: «Ага, погашали, небось!» Кроме того, какая масса насмешек должна была волновать наблюдательный ум, когда среди явного разорения господская усадьба вдруг проявляла прежнюю повадку, как бы говорившую деревне: «И без вас обойдусь!.. ко мне еще придете, поклонитесь!» Это случалось, разумеется, когда удавалось заложить имение и некоторое время действительно не думать о новых условиях жизни; но наблюдательному уму было смешно глядеть на эти попытки. Он знал, что они основаны на проедании земли, которая под ногами… В общих чертах, наблюдения деревенского ума над непорядками господской усадьбы возбужали нехорошие мысли. Другой сорт наблюдений – деревенский, не умеющий собраться с головой мир. А он точно что не умеет разобраться с делами и с головой… Ему бы «по делам-то» надо скрепиться, стать крепко за свой расчет, разузнать все дела, где, как и что, чтобы на пользу себе делать, а не во вред, чтобы человеку легче против прежнего было, а не трудней, а он что же? На каждом шагу промахивается и промахивается. «Старики», то есть люди, которые ровно ничего не могут понимать в новых порядках, потому что всю жизнь прожили в старых, отдали, например, для уплаты податей реку за двести рублей и стали проданную рыбу покупать у своих же арендаторов-мужиков; арендаторы и двести рублей выручили назад да триста рублей нажили – и вышел вместо выгоды убыток, то есть был бы чистый барыш, если бы всяк ел рыбу задаром. Старая крепостная повадка сказалась: «заложись, а плати». Сечь тоже не только не перестали, а усовершенствовали – секут и в селе и в волости… Старики думают, что это ученье, а за что? За трубочки с табачком, за пустяки, внимания не стоящие. Высекли, разозлили малого, а тот со зла пустил красного петуха, спалил всю деревню, в разор разорил и закабалил купцу. Из всех сил бьются, чтоб в податях выправиться, и в то же время продают за копейку огромный доход, а на глазах у них крадет деньги и староста, и писарь, и старшина, и никто об этом дознаться не может. И везде, где не понимают, – водка. Водка – везде, где нужно знание обстоятельств, недоступных крестьянскому уму. Это, с одной стороны, а с другой крепостной опыт, то есть опыт, решительно ни на что не годный при новых условиях жизни, – вот решители сложных вопросов всей системы самоуправления, общественных, юридических, финансовых. Наблюдая эту разладицу и нескладицу, деревенский наблюдательный ум непременно должен сказать: «Нет, ребята, с вами пива не сваришь… Всю жизнь бейся, а придет старость – иди по миру: вам надо подати платить, а старику не в силу работать, стало быть ступай вон, а на твое место нового работника… Всю жизнь бейся, а вы разозлите, обидите какого-нибудь человека напрасно, сожжет он тебя дотла, совсем со скотиной, и опять вылезай!» – «С вами тут жить ничего не разберешь, точно во тьме кромешной, лучше от вас убраться подобру-поздорову!» И так, наблюдая эти два рода непорядков (господский и крестьянский), деревенский наблюдательный ум относительно первых приходит к тому заключению, что там – всяческое желание избежать всяких неудобств, по возможности без малейших уступок кому бы и чему бы то ни было, и никакого внимания к нужде нашего брата. «Тут, брат, нас не пожалеют!» – решает он, припоминая столетия, в которые народ работал на барскую усадьбу. Главное же, он видит, что тут все дело держится на деньгах. Деньги – корень всему. С другой стороны, крестьянские непорядки приводят такого наблюдательного человека уж не к злой насмешке, а к страху той неизвестности, безрезультатности жизни, в которой нельзя не убедиться всякому мало-мальски внимательному деревенскому жителю, хотя жизнь эта – неусыпающий труд и тягота. Прибавьте ко всему этому еще то, что наблюдатель деревенский воспринимает явления жизни, приводящие его к тем или другим взглядам и убеждениям, самым реальным образом – так сказать, ощущает их не иначе, как на собственной шкуре. Он на собственной шкуре узнал, что значит погорать дотла «по злобе», что значит провиниться перед миром, что значит расплачиваться трудовой копейкой за мирскую неопытность, незнание… Представьте себе все это, и вам будет понятна та жестокость в невнимании к чужой беде, которая начинает руководить деревенским человеком, горьким опытом доведенным до сознания, что надо выбираться из этой хляби собственными средствами… Он уж ничего не видит – начав выбираться – кроме цели стать вне этих трудных и безрезультатных условий жизни. И начинает он при первой возможности пускать в оборот лишний грош, даже сальную свечку, как мы видели. Сколько нам удавалось наблюдать, выделение таких ожесточенных непорядками людей происходило большею частию после неурожайных годов. Здесь лишний рубль дает немедленно власть не над одним каким-нибудь человеком, а над массой людей. Замечательна в биографии всякого такого человека еще следующая небезинтересная черта. Человек, как видите, вышел из ненавистничества как к барину, так и к мужику. Кажется, и тому и другому прямой расчет сокрушить этого ненавистника, но на деле же выходит иное. Барин, обитатель господской усадьбы (говорю в самых общих выражениях), не сокрушает его по тем соображениям, по которым он не без злорадства иной раз говорит себе: «По-о-смотрим! Как-то вы на воле-то проживете! Как заберет вас в руки какая-нибудь кулацкая морда – узнаете барина, да поздно будет!» Иной даже радуется, что такой-то нагрел мужиков: «Так их и надо! Отлично! Право, молодец!» И невольно чувствует симпатию, конечно все-таки считая нагревателя канальей. Канальей его считают и мужики; но разве могут они не поставить ему в заслугу ловкости, с которою он, например, оплел чемадуровского или балабаевского барина?.. «Уж и развязная же только башка у шельмы!» Таким образом, при кличках порицательных: «шельма», «плут», «пройдоха», «каналья», сопутствующих кулаку повсюду и имеющих основание в материальных, всеми чувствуемых ущербах, тому же самому человеку сопутствуют – и ничуть не в меньшем количестве – и похвалы: «ловко!», «отлично!», «гениально оплел!», «молодчина!» – похвалы, основанные, как видите, уж на уважении к уму, таланту, дарованию. Это-то последнее уважение и есть кулацкая сила, в ней-то и заключается гибельность кулацкого влияния: он держится настолько же хищничеством, насколько и нравственным влиянием на общественное сознание, которое, по множеству причин, не можетне считать его правым, а пожалуй, и почтенным. Какая же другая дорога для деревенского умного, энергического человека теперь?
Именно во имя сочувствия и даже, пожалуй, невозможности несочувствия кулацкой морали сила кулака велика и у мужиков, и у бар, и у начальства. Он всех знает, он понимает все деревенские отношения, он может отвечать всем и обо всем. Он поэтому и столп и советник. Ему же принадлежит первенствующая роль и в деревенской действительности. Деяния кулака – самые крупные и заметные на деревенской улице. Самая видная, самая понятная, самая новая мораль, выглядывающая из явлений современной деревенской улицы, – мораль кулацкая. А так как подрастающее деревенское поколение, как и то, которое отживает, учится жить и думать так, как учит действительность, улица, и так как против кулацкой морали ниоткуда на деревенскую улицу не проникает ничего противодействующего ей, то мы, положа руку на сердце, решительно не можем не сказать, что это поколение воспитывается, главным образом, только кулацкою моралью. Чистая детская душа деревенского ребенка в изобилии принимает впечатления, даваемые кулацкой действительностью, и невольно, без протеста подчиняется ее морали.
XII
Вследствие так называемых непредвиденных обстоятельств мой хороший знакомый, сельский учитель, тот самый, что воевал с урядником, должен был оставить свою должность и выехать из деревни. Я зашел к нему проститься и застал не то чтобы в грустном или сердитом расположении духа, а в каком-то апатическим столбняке, в состоянии какого-то тягостного равнодушия. Впоследствии, так через полгодика, непредвиденные обстоятельства эти, будучи должным образом выяснены, оказались сущим вздором: весь сыр-бор загорелся из-за каких-то, довольно, впрочем, искусно скомпанованных сплетен, пущенных в обращение охочими людьми, и притом под влиянием исключительно самых микроскопических личных обид, главным образом карманных; благодаря полному выяснению дела через полгода учитель был совершенно оправдан от всех подозрений и вновь мог приняться за свое любимое дело. Но в данную минуту, с которой начинается этот рассказ, не только учитель, но и все, кто жил в усадьбе и кого так или иначе задела история с непредвиденными обстоятельствами, не могли не испытывать какой-то невозможной душевной тяготы, чего-то глупо ошеломляющего.
Охочие люди (эти самые "пальты") сумели, для более верной и надежной отместки, придать своим сплетням такой животрепещущий оттенок, благодаря которому сплетня почти мгновенно превращается или должна быть превращена в преступление, с тем, кроме того, особенным свойством, что наказание за это преступление должно следовать немедленно, а расследование – долго спустя после наказания…
Учитель и все жители усадьбы в момент этого рассказа находились именно под впечатлением какого-то удара, тумака. Все чувствовали, что все это произошло, должно быть, из-за пустяков, но никто ничего доподлинно не знал и, следовательно, не мог чувствовать себя свободным от некоторой тревожной, хотя и бесплодной задумчивости…
– Занимать вас, уж не взыщите, не буду! – сказал мне учитель, когда я пришел к нему, – хотите сидите, хотите лежите… чай пейте… что хотите… только я вам не слуга – башка трещит от дурману… Чисто дурман!.. – прибавил он, взглянул на меня действительно осовелыми глазами и медленно, как не совсем здоровый человек, продолжал занятие, за которым я его застал: он рылся в бумагах, не спеша шагал от шкафа к сундуку, укладывая книгу, рубашку, и от сундука плелся к столу, по дороге разрывая ненужные бумаги и разбрасывая клочья по полу, который и без того был ими усеян. В комнате было темновато, солнце уже садилось, был час седьмой августовского вечера… От нечего делать я принялся оправлять керосиновую лампочку…
– Вот! – произнес учитель, подойдя к столу, за которым я возился над лампочкой, – вот вам, позабавьтесь от скуки…
И он положил на стол целую пачку каких-то листков и тетрадок.
– Детские сочинения, – прибавил он. – Позаймитесь – забавные есть произведения.
Лампа была зажжена; недоставало только "самоварчика", чтобы усесться в уголок и "позабавиться", как выразился учитель, произведениями деревенского молодого поколения, которое меня всегда и сильно интересовало. На счастье, в то время, когда я уже подумывал самолично приступить к маленькому кособокому самоварчику, не раз услаждавшему наши деревенские досуги, в комнату вошел новый посетитель: это был давно знакомый и мне и учителю мальчик Гриша, ученик местной школы. Он принадлежал к тому небольшому числу учащейся деревенской молодежи, которое благодаря некоторому достатку имеет возможность, досуг и охоту "почитать книжку", не только школьную, учебную, а вообще какую "позанятней". Из числа таких любителей книжки Гриша был, впрочем, не лучший – от природы он был недалек и не особенно талантлив, но и не глуп, аккуратен, терпелив и кое в чем сметлив. Движения его были не быстры, не отличались ловкостью и проворством, но видно было, что он уже примечал за собой, старался держаться "поаккуратней"; маленькие бесцветные глазки чуть-чуть светились с мало выразительного, но тихого лица…
– А! – сказал учитель. – Гриша!..
– Убрались рано… Делать-то пока нечего. Не надо ль чего помочь?..
Не торопясь, расстегивал он новенький, аккуратный полушубок и прибавил:
– Укладываться не помочь ли?
– Да я уж совсем уложился. А ты вот, если уж будет твоя такая милость, самоварчик бы поставил… Вот и барину повеселее бы было…
Скоро близ печки загремела самоварная труба, затрещала лучина, запахло дымом. В ожидании "самоварчика" я принялся за чтение детских сочинений. Вот что и вот как писали маленькие сочинители:
О зайце.Рассказ Андрея Храмова (девяти с половиною лет).
«Я ездил на гумно. Подъехал к соломе, увидел зайчиный след; увидал я зайчиный след, бросил лошадь, пошел по зайчиному следу. Подошел к кирпичному сараю; вошел в кирпичный сарай – я увидал зайца! Заяц лежит. Вот я взял воротился – побег за собаками. Нет! Долго будет! Не сбегаю! Сел на лошадь, погнал домой за собаками. Приехал домой. Но собак нет. Но я воротился на гумно. Приехал. Взял вилы: я пойду угоню зайца. Пришел в сарай, но зайца нет. Андрей».
Товарищеское свидание.Сочинение Федора Балдашова (мальчику одиннадцать лет).
"Однажды Федя приехал в губернский город.
Идет Федя по городу и около самой лавки колбасной, которая на Дворянской на углу, против немецкой церкви, вдруг внезапно встречает своего товарища…
– Здорово, Кузьма!
– Здорово, Федя!
– Как ты поживаешь?
– Помаленьку, брат Кузьма.
Постояли Федя с Кузьмой и простились.
Шел-шел Федя, подходит он к храму святыя живоначальныя и нераадельныя троицы и с радостью видит еще товарища Василия,
– Здорово, Василий!
– Здорово, Федя!
– Как ты поживаешь?
– Помаленьку, брат Василий.
Постояли Федя с Василием и врозь пошли".
Следующее по порядку рукописей сочинение не имело заглавия; наверху четвертки бумаги написано было просто: «Осипа Правдина» (мальчику десять лет). Сам автор разделил свои произведения на три части, отделенные одна от другой черточками.
"Во-первых, взяли меня на льду Федор Книгин, Иван Владимиров, Александр Морозов; взяли они меня трое, связали, положили на лед, а потом ушли. Я и лежу. А батюшка Александр едет; проехал, воротился, развязал…
-
"Пасли мы с братом свиней; да я лег у межи, да и уснул. А он пошел меня искать ночью. Кричит. Я услыхал и откликнулся. Он меня нашел; мы пошли домой. А меня искала мама у гумен; а я с братом иду, она меня и увидала.
-
«А в третий как было: у нас была клушка (наседка) с цыплятами. А ворона стала цыплят ловить. Вот клушка на сарай. И я на сарай! И пошел сараем по крыше, хотел ворону пугнуть, да и провалился сквозь крышу, через солому. Только бы уж совсем провалиться – уцепился за жердь: висел-висел – пал. Полчасу лежал; ушибся».
Четвертая рукопись также без названия. Вверху листа написано: «Феодор Морозов» (одиннадцати лет), солдатский сын. Сочинение в виде письма к учителю.
"Ваше высокоблагородие,
милостивый государь
Андрей Петрович!
Согласно вашему приказанию, честь имею донести вам, что у нас есть на реке, на Бурачке, мельница о двух поставах. Она мелет хорошо. Затем уведомляю вас, что в семействе нашем существует воскобойня, на которой мы пробиваем воск, продаем свечникам; свечники из него сучат свечи, которые зажигаются в церкви у каждой иконы. Священным долгом считаю при сем присовокупить, что в настоящее время мы дожидаемся торжественного праздника рождества христова и должны исправить свою обязанность: сходить к заутрене, к обедне, а после обедни разговеться, чем бог благословит.
Остаюсь всепокорнейший вашего
высокоблагородия
верный слуга Феодор Морозов".
Пятая рукопись принадлежит сыну трактирщика, Семену Курносову, тринадцатилетнему мальчику, и также не имеет названия.
«Я в трактире подаю чай, воду, лазию в погреб, собираю посуду, перетираю посуду, наливаю вино, получаю деньги, смотрю за народом. Выручка у нас хороша: когда 800 в месяц, когда и меньше, а когда и более. Я в Екатериновке учился хорошо, только там меня на колени ставили раз пять, а здесь нет этого: я из училища приду, пойду на девишник, пробуду до утра, приду домой – меня не ругают».
Кузница.Описание Андрея Кузнецова (тринадцати лет).
«Мы вчера на кузнице с тятей наварили две насеки. Тятя стоит у горна, а я дую мехами. Как нагреется железо, так тятя его вынет на наковальню. Ежели толстое железо, то мы зачнем в два молота бить; тятя бьет маленьким, а я большим молотком бью. Тятя железо держит в клещах. А иногда и я стою у горна, а тятя дует, или кто-нибудь другой дует. Я умею сделать легкую деревенскую работу, как то: деревенские кочедыки для лаптей. Лампы запаиваю и молотки делаю; а тятя умеет делать все деревенские вещи, и „такея“ самовары лудит – страсть! ружья чинит, даже и новые делает; ну только теперь у него сломался станок, и он распродал весь свой струмент. Тятя даже гармонии чинит, но я этого дела не знаю».
Рассказ об венчании. Быль.Филиппа Яковлева (четырнадцати лет).
«Нанял меня Александр Павлович (крестьянин), с лошадьми, обвенчаться с своей супругой и заключить билет, чтоб она не могла от него отпереться. Уговорился Александр Павлович с супругой своей, нареченной невестой Грунькой, и поехали. Перво поехали к нашему гвардейскому попу. Наш поп не отпирается и просит с них за обручение жены двадцать пять рублей. Им показалось дорогонько. Мы обратно до бузуевского попа приехали, а его дома нет, в город уехал – мы обратно. Приехали к алакаевскому попу – и этот уехал к благочинному. Мы опять обернули лошадей, приехали в Гореловку. Приехали мы в Гореловку, заехали к невестиной сестре, выпрягли лошадей; дружка пошел с женихом к попу. Приходят к попу и спрашивают: „Батюшка! обручи нам невесту с женихом!“ Ну, батюшка не отпирался, а просил водки. Дружка с женихом пошли за водкой, выпили штоф вина и поехали в Кузьминку, потому в Гореловке церковь сгорела. Приехали в Кузьминку, там выпили два штофа. Потом стали они пьяны. Ну, ввели жениха с невестой в церковь, а поп-то был шутник: постановил его с невестой, взял их за руки и повел к налою; дьякон книгу читает, a поп „наизусь“ отчитывает. И надели венцы. Постояли жених с невестой в венцах, вдруг поп скидает венцы те. А дьякон: „Что ты делаешь, батюшка? разве можно так-то? Пусти лучше, я один обвенчаю!“ А батюшка опять венцы надел, и повел кружить кругом, и запел: „Матери боже наш и роди сына Имянуила“. Три раза обвел кругом, потом подвел к иконам, поцеловали они икону, потом батюшке в ноги. И поехали опять к родне; чаю напились, водки полведра выпили и достаточно были пьяны; потом поехали домой, потом пьяные-то жених с невестой разодрались. Потом она плачет. Едем-едем – заломит руки кверху и заревет коровой. Стали к соседям подъезжать, вдруг она и закричи, а жених из телеги выскочил; ушел прочь… „Пошли прочь к чортовой…“ Мы поехали, приехали к матери; стала ее мать есть, зачем без Александры воротилась. Тут приехал Александра, купил на рубль водки от матери тихонько. Невеста стала у него вино отымать, а он ее схватил за волосы и мало что не убил ее».
-
В таком роде было написано до семидесяти "сочинений", но ни в одном из них, несмотря на всевозможные названия, свойственные "сочинениям", как, например: рассказ, быль, описание, именно и не было ничего сочиненного. "Сущая правда" и явная, видимая неспособность что-нибудь присочинить от себя, что-нибудь прибавить, одинаково была свойственна как девятилетним, так и четырнадцатилетним цисателям, то есть чистота и ясность детской души ничем, никакою примесью, никакою фальшью не была помрачена и у мальчиков, которые года через два будут женихами, а через три наверное – семейными людьми.
– Ну что, как вам нравится? – произнес учитель, все время молчаливо занимавшийся своим делом.
– Хорошо… – сказал я.
– Что же именно тут хорошего?
– Хорошо… как чистый воздух… – мог я ответить.
– Так-то так, но на меня они производят несколько иное впечатление… Какая беспрекословная, так сказать, покорность факту! Обратили ли вы на это внимание?
Учитель произнес эту фразу, внезапно оживляясь, и быстро подошел ко мне. Он, очевидно, хотел пояснить свою мысль, но остановился.
Под самыми окнами послышался хляск по грязи лошадиных копыт… Кто-то, повидимому, быстро подскакал к окну и остановился; кто именно подъехал к окну, не было видно – на дворе уже стемнело – да, кроме того, едва учитель приблизился к раме и припал к стеклу, защищаясь рукою от света, как хляск копыт послышался снова… Тот, кто подъехал, побыл у окна несколько секунд и поспешно ускакал прочь…
– Уж не урядник ли тут разъезжает? – сказал учитель в беспокойстве… – И что им еще от меня нужно?.. Узнай, пожалуйста, – обратился он к Грише, – кто там разъезжает; выйди, посмотри, будь друг.
Самовар уже был готов. Гриша торопливо, насколько это было возможно при его неповоротливости, поставил его на стол, за которым я занимался чтением, торопливо оделся и ушел. Учитель, встревоженный воспоминаниями недавних беспокойств, со всего их тягостной, досадной, выводящей из терпения бессодержательностью, умолк и, тревожась ожиданием Гриши, то беспокойно шагал по комнате и ерошил волосы, то, чтобы скрыть беспокойство, принимался хлопотать около самовара, заваривая в рассеянности груду чаю.
Наконец Гриша воротился.
– Урядник и есть! – сказал он, едва отворив дверь.
– Ко мне?
– Не! не к вам… На деревню поехал… по нашемуделу. Сейчас надо бечь от вас.
– Ну слава богу!.. Просто мученье, ни я ничего не понимаю, ни они ничего не понимают… ведь это с ума можно сойти!.. Давайте чай пить… Ты что ж не раздеваешься? – обратился учитель к Грише.
– То-то бечь надо… Урядник-то по нашему делу, я вам сказывал, приехал. Опрашивать будет…






