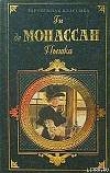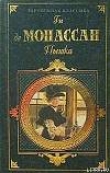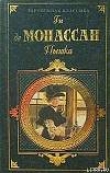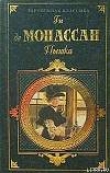Текст книги "Доктор Ираклий Глосс"
Автор книги: Ги де Мопассан
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
ГЛАВА VII
О том, каким образом можно двояко толковать один и тот же стих Корнеля
Прочитав этот странный документ, доктор Ираклий остолбенел от изумления, а затем купил его, не торгуясь, за сумму в двенадцать ливров одиннадцать су, так как букинист выдавал его за еврейскую рукопись, найденную при раскопках в Помпее[5]5
При раскопках в Помпее. – Раскопки в Помпее начались в XVIII веке.
[Закрыть].
В продолжение четырех дней и четырех ночей доктор не покидал своего кабинета, и ему удалось при помощи терпения и словарей расшифровать кое-как немецкие и испанские периоды рукописи. Дело в том, что, зная языки греческий, латинский и отчасти итальянский, он почти совсем не знал ни немецкого, ни испанского. Наконец, боясь впасть в грубейшие ошибки, он попросил своего друга, ректора, прочитать его перевод. Тот обещал с большим удовольствием, но целых три дня не мог серьезно взяться за работу, потому что при беглом просмотре перевода доктора им овладевал такой долгий и бурный хохот, что дважды он чуть не лишился чувств. Когда ректора спрашивали о причине такой необычайной веселости, он отвечал:
– Причина? Да их три: во-первых, смехотворное лицо моего превосходного собрата Ираклия; во-вторых, его смехотворный перевод, который походит на оригинал почти так же, как гитара на ветряную мельницу, и, в-третьих, наконец, сам текст, являющийся наиболее забавной вещью, какую только можно себе представить.
О, упрямый ректор! Ничем нельзя было его убедить. Если бы само солнце взяло да опалило ему бороду и волосы, он принял бы его за сальную свечку.
Что же касается доктора Ираклия Глосса, мне нет надобности говорить, что он сиял, был осенен свыше, преображен. Он поминутно повторял, как Полина[6]6
Полина – персонаж трагедии французского писателя Корнеля (1606—1684). «Полиевкт» (1643).
[Закрыть]:
Я вижу, верю я теперь, разубежден.
И каждый раз ректор прерывал его, чтобы указать, что «разубежден» следовало бы писать не как одно, а как два слова:
Я вижу, верю я теперь, раз убежден.
ГЛАВА VIII
Каким образом по той же самой причине, по которой можно крепче короля стоять за королевскую власть и быть набожнее римского папы, можно также сделаться большим приверженцем переселения душ, чем Пифагор
Как бы ни была сильна радость потерпевшего кораблекрушение, который после долгих дней и долгих ночей странствования по безбрежному морю на утлом плоту без мачты, без паруса, без компаса и без надежды замечает вдруг столь желанный берег, эта радость была ничто сравнительно с той радостью, которой преисполнился доктор Ираклий Глосс, когда, после того, как волны философских школ так долго кидали его во все стороны на плоту сомнений, он вошел наконец, торжествующий и осененный свыше, в гавань веры в переселение душ.
Истинность этой доктрины так сильно поразила его, что он воспринял ее сразу, вплоть до всех самых крайних выводов. Здесь для него не было ничего неясного, и в несколько дней он дошел путем раздумий и расчетов до того, что стал точно определять время, когда человек, умерший в таком-то году, вновь появится на земле. Он знал приблизительно срок всех переселений души в низшие существа и сообразно предполагаемой сумме добра или зла, совершенного в последний период человеческой жизни, мог определить момент, когда эта душа войдет в тело змеи, свиньи, ломовой лошади, быка, собаки, слона или обезьяны. Повторяющиеся появления души в своей высшей оболочке следовали через правильные промежутки времени, независимо от предшествовавших грехов.
Таким образом, степень наказания, всегда пропорциональная степени виновности, заключалась не в большей или меньшей продолжительности ссылки в тела животных, но в длительности пребывания данной души в шкуре животного нечистого. Лестница животных начиналась на низших ступенях – змеей или свиньей, а заканчивалась обезьяной, «которая есть человек, лишенный дара слова», – говорил доктор; на что его превосходный друг, ректор, отвечал всегда, что в силу того же рассуждения сам Ираклий Глосс не что иное, как обезьяна, обладающая даром слова.
ГЛАВА IX
Медали и их оборотные стороны
Доктор Ираклий был счастлив в течение нескольких дней, последовавших за его поразительным открытием. Его жизнь была сплошным торжеством. Он сиял от сознания побежденных трудностей, разоблаченных тайн, осуществленных великих надежд. Метампсихоз, как небо, окружал его. Ему казалось, что внезапно разорвалась завеса и что глаза его открылись для неведомого.
Он усаживал рядом с собою за стол свою собаку; он сосредоточенно сидел с нею наедине перед камином, стараясь уловить в глазах невинного животного тайну предыдущих существований.
Однако он усматривал два темных пятна на небе своего блаженства: это были господин декан и господин ректор.
Декан яростно пожимал плечами всякий раз, когда Ираклий пытался склонить его к вере в переселение душ, а ректор преследовал его самыми неуместными шутками. Последнее было особенно невыносимо. Как только доктор начинал излагать свою веру, этот чертов ректор горячо поддерживал его; он прикидывался учеником, который внимает речам великого апостола, и придумывал самые невероятные скотские родословные для всех окружающих лиц. Так, он говорил, что дядюшка Лабонд, соборный звонарь, в первом своем воплощении был, наверное, не чем иным, как дыней, и с тех пор очень мало изменился, вполне довольствуясь тем, что утром и вечером звонит в колокол, под которым когда-то рос. Он утверждал, что аббат Дозанкруа, старший викарий церкви Сшт-Элали, когда-то был, несомненно, щипцами для орехов, потому что сохранил внешность и атрибуты щипцов. Затем, самым отчаянным образом перепутывая роли, он уверял, что аптекарь Бойкаль не что иное, как выродившийся ибис, потому что он принужден пользоваться некоторым инструментом для вливания того простейшего лекарства, которое, по словам Геродота[7]7
Геродот (ок. 484 – ок. 425 до н. э.) – знаменитый древнегреческий историк.
[Закрыть], священная птица себе впускала единственно при помощи своего длинного клюва.
ГЛАВА X
О том, что скоморох может быть хитрее ученого доктора
Тем не менее доктор Ираклий, не теряя бодрости, совершил ряд новых открытий. Отныне всякое животное имело для него таинственное значение: он переставал видеть в нем зверя и созерцал лишь человека, который очищался в этой оболочке. Он угадывал былые грехи по одному виду искупительной шкуры.
Однажды, прогуливаясь по городской площади, он увидел большой дощатый балаган, из которого неслось ужасное завывание, между тем как на эстраде паяц, болтая руками и ногами, приглашал публику зайти посмотреть, как работает грозный укротитель, апаш Томагавк, или Грохочущий Гром. Ираклия это заинтересовало, он уплатил десять сантимов и вошел. О фортуна, покровительствующая великим умам! Едва проник он в балаган, как увидел огромную клетку, на которой были написаны следующие два слова, внезапно сверкнувшие перед его пораженными очами: «Лесной человек».
Доктор вдруг почувствовал нервную дрожь, как это бывает при сильных нравственных потрясениях, и, спотыкаясь от волнения, подошел ближе. Он увидел огромную обезьяну, которая спокойно сидела, скрестив ноги наподобие портных и турок. Перед этим великолепным образчиком человека в его последнем воплощении Ираклий Глосс, бледный от радости, погрузился в глубокие раздумья. Через несколько минут Лесной человек, несомненно угадывая непреодолимую симпатию, внезапно расцветшую в сердце пристально смотревшего на него человека, скорчил своему возродившемуся собрату такую ужасную рожу, что доктор почувствовал, как волосы дыбом встают у него на голове. Затем, совершив фантастический прыжок, нимало не совместимый с достоинствами даже окончательно падшего человека, четверорукий гражданин предался непристойнейшей шаловливости пред самым носом доктора. Последний не оскорбился, однако, веселостью этой жертвы былых заблуждений. Напротив, он увидел в ней лишнее сходство с человеческой породою, большую вероятность родства, и его научное любопытство настолько возросло, что он решил во что бы то ни стало купить этого искусного гримасника, дабы изучать его на досуге. Какая честь для него, какое торжество для великой доктрины, если ему удастся наконец установить связь с животной частью человечества: понять эту бедную обезьяну и достигнуть того, чтобы и она его понимала!
Естественно, хозяин зверинца стал чрезвычайно восхвалять своего воспитанника: это – самое умное, самое кроткое, самое симпатичное животное, какое только он видал на своем долгом поприще демонстратора диких зверей; и, чтобы подкрепить сказанное, он подошел к решетке и просунул в нее свою руку, которую обезьяна тотчас же в виде шутки укусила. Естественно также, он запросил за обезьяну баснословную цену, и Ираклий уплатил ее не торгуясь. Затем, предшествуемый двумя носильщиками, сгибавшимися под тяжестью огромной клетки, доктор торжественно направился к своему жилищу.
ГЛАВА XI
Где доказывается, что Ираклий Глосс отнюдь не был свободен от всех слабостей сильного пола
Но чем более приближался он к дому, тем более замедлял шаги, потому что тревожно решал в уме проблему, представлявшую совершенно иные трудности, нежели проблема философской истины, и сводившуюся для злополучного доктора к следующей формуле: «К какой хитрости мне прибегнуть, чтобы скрыть от моей доброй Онорины проникновение под мой кров этого лишь вчерне законченного человека?» Ах, дело в том, что бедный Ираклий, неустрашимо встречавший грозное пожимание плечами господина декана и ужасные шутки господина ректора, бывал далеко не таким храбрым при вспышках доброй Онорины. Почему же доктор так сильно боялся этой маленькой, еще свежей, привлекательной женщины, которая казалась такою милою и столь преданной интересам своего хозяина? Почему? Спросите, почему Геркулес прял у ног Омфалы, почему Самсон допустил, чтобы Далила похитила у него силу и мужество, которые пребывали в его волосах, как сказано в библии?
Увы! Однажды, когда доктор, гуляя за городом, старался развеять отчаяние обманутой великой страсти (ибо недаром господин декан и господин ректор так сильно потешались насчет Ираклия, уходя от него в тот вечер), он встретил у какого-то плетня молоденькую девушку, пасшую овец. Ученый муж не всегда искал исключительно философскую истину и еще не подозревал тогда о великой тайне переселения душ; вместо того, чтобы заняться только овцами, что он, конечно, сделал бы, если бы знал то, чего тогда еще не ведал, – он, увы, пустился в беседу с тою, которая их пасла. Он вскоре взял ее к себе в услужение, а первая слабость влечет за собою последующие: скоро он сам сделался ягненком этой пастушечки, и втихомолку стали поговаривать, что если бы эта деревенская Далила, подобно Далиле библейской, обрезала волосы слишком доверчивого бедняги, она этим не лишила бы его чела всех бывших на нем украшений.
Увы, то, что он предвидел, осуществилось и даже превзошло его опасения! Увидев жителя лесов, заключенного в клетку из железных прутьев, Онорина тотчас воспылала самой неуместной яростью и, ошеломив своего испуганного хозяина проливным дождем весьма неблагозвучных эпитетов, обратила гнев на явившегося к ней нежданного гостя. Но последний, не имея, без сомнения, одинаковых с доктором оснований щадить столь плохо воспитанную домоправительницу, начал кричать, рычать, топать ногами, скрежетать зубами; он уцепился за перекладины своей клетки с такой яростной запальчивостью, сопровождаемой до такой степени нескромными жестами по адресу особы, увиденной им впервые, что та принуждена была отступить и, подобно побежденному воину, бежать и запереться у себя в кухне.
Ираклий, овладев таким образом полем сражения и восхищаясь неожиданной помощью, которую он получил от своего разумного товарища, велел внести его в кабинет, где поместил клетку и ее обитателя перед столом у камина.
ГЛАВА XII
О том, что учитель совсем не то, что укротитель
И вот начался обмен самыми многозначительными взглядами между двумя особами, которые находились друг перед другом; каждый день в течение целой недели доктор по целым часам разговаривал посредством глаз (по крайней мере так ему казалось) с интересным субъектом, которым он обзавелся. Но этого было мало. Ираклию захотелось изучать животное на свободе, подстерегать его тайны, его желания, его мысли, позволить ему ходить взад и вперед по собственной воле и, ежедневно проникая в его интимную жизнь, увидеть наконец проявление в нем забытых привычек и, таким образом, распознать по верным признакам воспоминание о предыдущем существовании. А для этого нужно было, чтобы гость был свободен, – следовательно, чтобы клетка была отворена. Но подобное предприятие менее всего могло обещать спокойствие. Доктор напрасно пытался пускать в ход то магнетизм, то пирожные, то орехи; четверорукий предавался действиям, внушавшим Ираклию опасения всякий раз, когда доктор слишком близко подходил к решетке. Наконец однажды доктор, не будучи в состоянии противиться желанию, которое его мучило, быстро подошел к клетке, повернул ключ в замке, отворил настежь дверь и, трепеща от волнения, отступил на несколько шагов, выжидая событий, которые и не заставили себя долго ждать.
Удивленный четверорукий сначала недоумевал, затем одним прыжком очутился вне клетки, другим на столе, на котором менее чем в одну секунду разбросал все книги и бумаги, затем третьим прыжком очутился в объятиях доктора, и выражения его нежности были так сильны, что, не будь на Ираклии парика, его последние волосы, наверно, остались бы в пальцах его грозного брата. Но, как ни проворна была обезьяна, Ираклий оказался проворен не менее ее: он прыгнул направо, затем налево, скользнул, как угорь, под стол, перескочил, как борзая собака, через кресла и, все еще преследуемый, достиг наконец двери, которую быстро захлопнул за собой; после этого, запыхавшись, как беговая лошадь, добежавшая до столба, он прислонился к стене, чтобы не упасть.
Остаток дня Ираклий Глосс был в состоянии полной растерянности. Он испытывал как бы внутреннее крушение, но особенно заботило его то, что он совершенно не знал, каким способом его непредусмотрительный гость и он сам могли бы выйти из создавшейся ситуации. Он придвинул стул к неприступной двери и устроил себе наблюдательный пункт у скважины замка. Тогда он увидел – о чудо!.. о неожиданное блаженство!.. – своего счастливого победителя, развалившегося в кресле и греющего ноги у камина. В порыве радости доктор сгоряча едва не вошел в кабинет, но размышление остановило его, и, как бы озаренный внезапным светом, он сообразил, что голод, несомненно, сделает то, чего не могла сделать кротость. На этот раз события показали, что он был прав: проголодавшийся четверорукий капитулировал. Так как, в сущности, это был добрый малый, то примирение было полное, и с этого дня они с доктором зажили, как два старых друга.
ГЛАВА XIII
О том, как доктор Ираклий Глосс очутился точно в таком же положении, как добрый король Генрих IV, который, выслушав спор двух адвокатов, решил, что они оба правы
Спустя некоторое время после этого достопамятного дня доктор Ираклий из-за проливного дождя не мог пойти по обыкновению в свой сад. Он сидел с утра в кабинете и философски созерцал своего четверорукого, который, вскарабкавшись на письменный стол, забавлялся тем, что бросал комочками бумаги в пса Пифагора, растянувшегося перед камином.
Доктор изучал градации непрерывного развития интеллекта у этих падших людей и сравнивал степень понятливости обоих находившихся перед ним животных. «У собаки, – думал он, – господствует еще инстинкт, тогда как у обезьяны преобладает рассудительность. Первая чует, слушает, воспринимает своими чудесными органами, которые наполовину составляют ее разум; вторая комбинирует и размышляет». В это мгновение обезьяна, выведенная из терпения равнодушием и неподвижностью своего врага, который спокойно лежал, опустив голову на лапы, ограничиваясь лишь тем, что время от времени взглядывал на задиру, занявшего столь выгодную позицию, решила пойти на разведку. Она легонько соскочила с письменного стола и двинулась вперед так тихо, что слышно было лишь потрескивание дров да тикание маятника, которое в глубокой тишине кабинета казалось слишком громким; затем быстрым и неожиданным движением она обеими руками схватила пушистый хвост злополучного Пифагора. Но пес при всей своей неподвижности следил за каждым движением обезьяны: его спокойствие было только уловкой, чтобы привлечь на близкое к себе расстояние недосягаемого до того времени противника; и в то самое мгновение, когда четверорукий господин схватил его хвостовой придаток, Пифагор вскочил одним прыжком и, прежде чем соперник успел обратиться в бегство, вцепился сильной пастью охотничьей собаки в ту часть тела, которую стыдливо называют окороком. Неизвестно, каков был бы исход боя, если бы не вмешался Ираклий; но когда доктор, восстановив мир и сильно запыхавшись, вновь усаживался на свое место, он задавал себе вопрос: не выказала ли в данном случае его собака, если принять во внимание все обстоятельства, гораздо больше хитрости, нежели животное, называемое «хитрым по преимуществу»? И он остался погруженным в глубокое недоумение.
ГЛАВА XIV
О том, как Ираклий чуть не съел зажаренных на вертеле прекрасных дам былых времен
Так как пора было завтракать, доктор вошел в столовую, сел за стол, засунул себе за воротник салфетку, развернул лежавшую рядом драгоценную рукопись и готовился поднести ко рту крылышко прежирной и ароматной перепелки, как вдруг его глаза, устремленные в священную книгу, остановились на нескольких строках, которые заблистали перед ним ужаснее, чем знаменитые три слова, внезапно начертанные неведомой рукой на стене пиршественной залы славного царя, именовавшегося Валтасаром.
Вот что прочел доктор:
«...Итак, воздерживайся от всякой пищи, прежде имевшей жизнь, ибо вкушать животное – значит вкушать себе подобного. И я говорю, что человек, убежденный в великой истине переселения душ, но убивающий и пожирающий животных, которые суть не что иное, как люди в их низших образах, – такой же преступник, как свирепый людоед, который съедает своего побежденного врага».
А на столе лежали рядышком полдюжины только что зажаренных и жирных перепелок, нанизанных на небольшой серебряный вертел и распространявших в воздухе аппетитный запах.
Ужасна была битва между духом и желудком, но скажем, к прославлению Ираклия, что она длилась недолго. Голодный, доведенный до отчаяния человек, опасаясь, что не в состоянии будет противиться страшному искушению, позвонил и разбитым голосом приказал служанке немедля убрать это отвратительное блюдо и впредь подавать ему только яйца, молоко и овощи. Онорина чуть не упала навзничь, услышав эти поразительные слова, она хотела протестовать, но непреклонный взор хозяина заставил ее бежать вместе с отвергнутыми пернатыми; однако она утешалась приятною мыслью, что потерянное для одного еще не потеряно для всех.
«Перепелки, перепелки... Кем могли быть перепелки в иной жизни? – задал себе вопрос несчастный Ираклий, печально кушая превосходную цветную капусту со сливками, показавшуюся ему в этот день отчаянно скверною. – Какие человеческие существа могли быть настолько изящными, хрупкими, нежными, что перешли в тела этих восхитительных маленьких созданий, таких кокетливых и хорошеньких? Ах, конечно, это могли быть только прелестные жеманницы прошлых веков...» И доктор еще сильнее побледнел, подумав, что в течение тридцати с лишком лет он каждый день съедал за завтраком полдюжины прекрасных дам былых времен.
ГЛАВА XV
О том, как господин ректор толкует божественные заповеди
Вечером этого злополучного дня господин декан и господин ректор пришли поболтать часок – другой в кабинете Ираклия. Доктор тотчас же рассказал им о затруднении, в котором находился, и объяснил, каким образом перепелки и другие съедобные животные сделались для него столь же запретными, как свинина для еврея.
Господин декан, который, без сомнения, плохо пообедал, потерял тогда всякое терпение и начал так страшно богохульствовать, что бедный доктор, очень уважавший его, хотя оплакивавший в то же время его ослепление, не находил себе места. Что касается господина ректора, то он вполне одобрил совестливость Ираклия и указал ему даже, что ученик Пифагора, питающийся мясом животных, может подвергнуться опасности съесть ребро своего отца с шампиньонами или начиненные трюфелями ноги своего деда, что совершенно противоречит духу всякой религии; в подтверждение же сказанного ректор сослался на пятую заповедь христианского бога:
Отца и матерь почитай,
И будешь долголетен.
– Правда, – прибавил он, – лично я, как неверующий, предпочел бы не морить себя голодом и слегка изменить эту заповедь:
Отца и матерь пожирай,
И будешь долголетен.