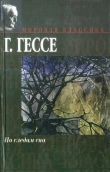Текст книги "Магия книги (сборник)"
Автор книги: Герман Гессе
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
(1915)
* Перифраз из Библии, см. I Царств 15, 27 и 24, 5 и 6.
ЯЗЫК
От несовершенства и скудости языка писатель страдает более, чем от недостатка всего прочего. Иногда он просто ненавидит язык, обвиняет и проклинает его, а точнее – самого себя за то, что рожден для работы с этим жалким орудием. С завистью думает писатель о живописце, чей язык – краски понятен одинаково всем от Северного полюса до Африки, или о музыканте, который пользуется звуками, тоже говорящими на всех человеческих языках, и которому послушны всякий раз столько новых, неповторимых языков, тонко отличающихся друг от друга – от монотонной мелодии до многоголосого оркестра, от трубы до кларнета, от скрипки до арфы.
Особенно глубоко и постоянно завидует писатель музыканту за то, что он владеет своим языком безраздельно и только для музицирования! А писатель вынужден использовать тот же язык, на котором и учат в школах, и заключают торговые сделки, и строчат телеграммы, и выступают в суде. Как же беден писатель: не имея для своего искусства собственного средства, собственного жилища, собственного сада, собственного окошечка, чтобы смотреть на луну, он вынужден все делить с обыденной жизнью! Говоря "сердце" и разумея трепетную живейшую суть в человеке, его сокровеннейшие свойства и слабости, он невольно указывает и просто на мускул. Говоря "сила", он вынужден сражаться за употребление этого слова с инженером или электриком. А когда он пишет "блаженство", то в образ, сим обозначенный, вкрадывается что-то теологическое. Писатель не может употребить ни слова, которое бы одновременно не значило и что-то другое, на одном и том же дыхании не привносило бы чужих, мешающих, нежелательных представлений, в самом себе не содержало бы преткновений и неловкого смысла и само бы не гибло, зажатое стенами, о кои биясь, оно угасает, так и не прозвучав до конца.
Писатель не может быть хитрецом, который, как говорится, больше дает, чем имеет. Он не в состоянии дать и десятой и сотой доли того, что хотел бы, он рад, если понят хотя бы вчуже, хотя бы примерно, мимоходом и кое-как, хотя бы без грубых недоразумений относительно самого важного. Большего писатель добивается редко. И повсюду, где его хвалят или поносят, где он пожинает успех или насмешки, где его любят или отвергают, речь не собственно о его мыслях и грезах, а лишь о сотой доле того, что сумело пробиться через узкий канал языка и не более просторный канал читательского восприятия.
Потому-то люди так страшно противятся – противятся не на жизнь, а на смерть, – когда какой-то художник или целая группа творческой молодежи, сотрясая мучительные оковы принятых стилей, пытаются ввести в оборот новые выражения и языки. Ведь для сограждан язык (всякий язык, усвоенный ими с трудом, не только словесный) – святыня. Для сограждан святыня все общее и коллективное, все, что каждый разделяет со многими, по возможности – со всеми, что не вынуждает думать об одиночестве, рождении и смерти, о сокровеннейшем Я. Сограждане, как и писатели, лелеют идеал всемирного языка. Но всемирный язык сограждан отнюдь не таков, каким мечтается он писателю, у них он не первобытная россыпь сокровищ, не бесконечный оркестр, а упрощенный набор телеграфных знаков, экономящий силы, слова и бумагу и не мешающий зарабатывать деньги. Ведь литература, музыка и тому подобное всегда мешают зарабатывать деньги!
Сограждане, разучив язык, считающийся у них языком искусства, довольны и мнят, что теперь-то они понимают искусство, теперь-то оно им доступно, а узнав, что язык, с таким трудом изученный ими, годится лишь для незначительной сферы искусства, приходят в негодование. Во времена наших дедов жили прилежные и просвещенные люди, которые в музыке, кроме Гайдна и Моцарта, добились понимания также Бетховена. И почувствовали, что "идут в ногу со временем". Но, когда появились Шопен, Вагнер и Лист, предложив им вновь овладевать еще одним языком, еще раз по-революционному и по-молодому, радостно и без предвзятостей воспринять нечто новое, они забрюзжали, заговорили об упадке искусства и вырождении эпохи, в коей им поневоле приходится жить. То, что случилось с теми несчастными, вновь происходит со многими тысячами. Искусство порождает новые лики, новые языки, по-новому учится говорить и выражать себя, оно сыто по горло вчерашними и позавчерашними языками, оно жаждет не только речи, но также и танца, жаждет сломать все рамки, сдвинуть шляпу набекрень и пойти зигзагом. И от этого сограждане в ярости, им кажется, что это издевка над ними, что с корнем вырывают их ценности, и, разражаясь бранью, они прячутся с головой под одеяло собственного образования. А те сограждане, которые из-за малейшего ущемления их достоинства немедленно бегут в суд, изощряются в оскорблениях.
Но эта ярость и эта бесплодная суета не освобождают сограждан, не разряжают и не очищают их нутра, никак не гасят их внутреннего беспокойства и раздражения. А художник, у которого жаловаться на сограждан оснований не меньше, выражает свой гнев, презрение, горечь, изыскивая, создавая, разучивая новый язык. Он чувствует, что ругань тут не спасает, что оскорбляющий всегда неправ. И, так как в нашу эпоху у художника нет иных идеалов, чем собственная его личность, так как он не желает ничего иного, чем быть самим собой и выражать то, что приуготовлено в нем природой, свою враждебность к согражданам он претворяет в наивозможно личное, наивозможно прекрасное, наивозможно выразительное, но не выплескивая гнева с пеной у рта, а выбирая и строя, отливая и оттачивая справедливую форму для своего гнева – новую иронию, новый гротеск, новый способ обратить неприятное и раздражающее в приятное и прекрасное.
Как бесконечно много языков у природы и как бесконечно много создано их людьми! Пара тысяч незамысловатых грамматик, смастеренных людьми за период между санскритом и волапюком, – достижение сравнительно скудное. Скудное потому, что эти грамматики довольствуются лишь самым необходимым, а самым необходимым сограждане считают между собою всегда только заработки, выпечку хлеба и прочее. А это не способствует процветанию языков. Человеческий язык (я имею в виду грамматику) еще никогда не достигал той легкости, живости, блеска и изящества, которые расточает кошка извивами своего хвоста, а райская птичка серебряной россыпью своего свадебного наряда.
И все же человек, оставаясь собою и не стремясь подражать муравьям или пчелам, превзошел и райскую птичку, и кошку, и других животных, и растения. Он выдумал языки, бесконечно лучше передающие мысли и чувства, чем немецкий, греческий или итальянский. Он словно по волшебству вызвал к жизни религии, архитектуру, живопись, философию, создал музыку, чья игровая выразительность и богатство красок превосходят всех райских птичек и бабочек. Я говорю "итальянская живопись" и слышу тысячи изобильных смыслов, пение хоров, преисполненных набожности и сладости, блаженное звучание разнообразных инструментов, ощущаю прохладу мраморных храмов, вижу склонившихся в жаркой молитве монахов и прекрасных мадонн, величаво царящих среди мягких ландшафтов. Или я думаю: "Шопен", – и ночь наполняется кроткими и меланхоличными жемчужными звуками, в струнах одиноко стенает тоска по отчизне: утонченнейшая, личнейшая скорбь выражена в гармониях и диссонансах куда задушевней, бесконечно точней, достоверней, чем это возможно у иного страдальца посредством всяких там терминов, цифр, кривых или формул.
Кто считает всерьез, что "Вертер" и "Вильгельм Мейстер" написаны одним языком? Что Жан Поль говорил на том же языке, что и наши школьные учителя? А они писатели! Им приходилось работать с языком, убогим и нищим, орудием, созданным совсем для другого.
Произнеси слово "Египет", и ты услышишь язык, мощными, гулкими аккордами славящий Бога, язык, насыщенный предчувствием вечности и трепета перед бесконечностью: окаменелым взглядом неумолимо смотрят цари поверх миллионов рабов, поверх всего и вся, но неизменно – лишь в темные очи смерти; величественно, словно выросшие из земли, застыли священные животные; нежный аромат источают цветы лотоса в руках у танцовщиц. Вселенная, звездное небо, преисполненное бесчисленных миров, – лишь одно это слово, "Египет". Можно лечь навзничь и целый месяц не думать более ни о чем. Но вдруг тебе приходит в голову другое. Ты слышишь имя "Ренуар" – и улыбаешься, видя, как весь мир составляется из округлых живописных мазков, розовый, светлый и радостный. Говоришь "Шопенгауэр" – и тот же мир претворяется в черты страдающего человека, который в бессонные ночи создает из скорби своей божество и с горестным ликом идет по длинной тернистой дороге, ведущей к бесконечно тихому, неприметному и печальному раю. Или прозвучит в тебе "Вальт и Вульт" *, и все вокруг, словно облако, по-жанполевски пластично преобразится в немецкое обывательское гнездо, где разделенная на двух братьев человеческая душа как ни в чем не бывало живет и действует среди кошмара, вызванного безумным завещанием и интригами филистеров, этой неуемно копошащейся муравьиной кучей.
Обыватель склонен уподоблять фантаста сумасшедшему. И чутье не обманывает обывателя: он немедленно обезумеет, если, подобно художнику, верующему, философу, подпустит себя к бездне собственного нутра. Как бы мы ни называли эту бездну, душой или бессознательным, именно она источник всякого движенья нашей жизни. У обывателя же между ним самим и его душой имеется страж – сознание, нравственность, институция безопасности; и для обывателя не существует ничего, что исходит из душевной бездны его непосредственно, без визы охранительного учреждения. А художник всегда недоверчив к области не души, а к той таможне, и, тайно минуя ее, он туда и сюда курсирует через границу между "сей" и "той" стороной, между сознательным и бессознательным, словно он дома и здесь и там.
Находясь по сю сторону, в известной освещенной области, где проживает и обыватель, он чувствует себя неимоверно угнетенным скудостью всех языков, и жизнь писателя кажется ему тогда тернистой. Но когда он на той стороне, в области души, то всякое дуновение волшебно становится словом, и льется музыка звезд, и улыбаются горы, и мир, Господень язык, совершенен, в нем под рукой все буквы и слова, все выразимо, все звучит и все искуплено.
(1918)
О СТИХАХ **
Однажды, когда мне было десять лет, по книге для чтения мы проходили в школе одно стихотворение, называлось оно, кажется, "Сыночек Шпекбахера". В нем говорилось о маленьком мальчике-герое, который в каком-то сражении не то собирал патроны, не то совершал что-то еще очень героическое. Мы, мальчишки, были в восторге. И когда учитель с оттенком иронии в голосе спросил нас: "Ну так что, хорошее это стихотворение?" – мы закричали: "Да!" А он улыбаясь покачал головой и сказал: "Нет, дети, это плохое стихотворение". Он был прав, по канонам и вкусам нашего времени и искусства стихотворение было нехорошим, неизящным, не подлинным, халтурным. И все-таки в нас, мальчишках, оно вызвало прилив восхищения.
* Герои романа Жан Поля "Озорные годы".
** Новая, 1954 года, редакция эссе, написанного в 1918.
Десять лет спустя, в двадцать один год, с первого же прочтения я бы не задумываясь смог сказать о том стихотворении, хорошее оно или плохое. Это было бы просто. Хватило бы одного взгляда, прочтения вполголоса нескольких строк.
Меж тем опять прошло несколько десятилетий, я держал в руках и читал множество стихов, и ныне я вновь сильно сомневаюсь, смогу ли оценить показанное мне стихотворение. Мне часто показывают стихи, их авторы обычно молодые люди, желающие получить о них "суждение" и найти издателя. И юные поэты всякий раз удивлены и разочарованы, видя, что у их старшего коллеги, которому они приписывали опытность, никакого опыта нет; неуверенно листая рукопись со стихами, он ничего не решается сказать об их качестве. То, что в двадцатилетнем возрасте я бы абсолютно уверенно сделал за две минуты, теперь стало трудно, нет, не столько трудно, сколько невозможно. "Опыт" к тому же еще и нечто, о чем в юности думалось, что оно приходит само собой. Но опыт сам собой не приходит. Есть люди, талантливые по части опыта, у них он есть всегда, есть со школьной скамьи, если уже не в материнской утробе; есть и другие, к ним отношусь и я, – они могут прожить сорок, шестьдесят или сто лет и умереть, так по-настоящему не усвоив и не поняв, что же это, собственно, такое "опыт".
В двадцать лет моя уверенность в суждении о стихах зиждилась на любви к определенным стихам и поэтам, любви столь сильной и исключающей почти все остальное, что каждую книгу и стихотворение я тотчас сравнивал с ними. Если сходство обнаруживалось, они были хороши, и, если нет, никуда не годились.
У меня и сегодня есть несколько особенно любимых поэтов, и некоторые из них те же, что и прежде. Но сегодня чаще всего я недоверчив по отношению именно к тем стихам, звучание которых тотчас приводит на память одного из этих поэтов.
Но поведу я речь не о поэтах и стихах вообще, а только о "плохих", то есть о таких, которые почти всеми, кроме самих поэтов, в два счета объявляются посредственными, захудалыми, неполноценными. Подобных стихов за истекшее время прочел я немало и раньше совершенно точно знал, что они плохие и почему. Сегодня я уже не так уверен в этом. Но и эта уверенность и это знание, как бывает со всякой привычностью и всяким знанием, как-то раз показались мне в сомнительном свете, стали внезапно скучными, сухими, чужими и ущербными, все возмутилось во мне против них, и, в конце концов, они обернулись чем-то отжившим, что уже позади и чью ценность я больше не понимаю.
И теперь у меня со стихами бывает порою так, что хочется одобрить и даже превознести несомненно "плохие" стихи, а хорошие и даже отличные кажутся зачастую подозрительными.
То же чувство испытываешь иногда по отношению к профессору, чиновнику или сумасшедшему. Ведь обычно хорошо знаешь и убежден в том, что господин чиновник безупречный человек, законное дитя Божие, вставленный в свое гнездо и полезный гражданин общества, а сумасшедший – бедолага, несчастный больной, которого терпят, жалеют, но считают неполноценным. Однако проходят дни или только часы, когда, бывает, необычно много наобщаешься с профессорами или сумасшедшими, и тогда истина вдруг обращается в свою противоположность: в сумасшедшем начинаешь видеть тихого, уверенного в себе счастливца, божьего любимца, человека по-своему с характером и довольного собственной верой, а профессор или чиновник кажутся жалкими, посредственными, безликими, марионеточными фигурами, каких на дюжину приходится двенадцать.
Так вот то же самое бывает у меня порою и с плохими стихами. Вдруг они начинают казаться совсем не плохими, внезапно приобретают для меня аромат, своеобразие, детскую живость, и их очевидные слабости и недостатки становятся трогательными, оригинальными, милыми и восхитительными, а прекрасное стихотворение, впрочем любимое, по сравнению с ними предстает бесцветным, шаблонным.
С появлением экспрессионизма нечто подобное видим мы и в творчестве некоторых наших молодых поэтов: они принципиально больше не пишут "хороших" или "красивых" стихов. Они считают, что красивых стихов уже достаточно много, что сами они рождены и живут в этом мире вовсе не для того, чтобы продолжить вереницу очаровательных стихов и играть в начатую предыдущими поколениями игру "кто кого перещеголяет". Наверно, они совершенно правы, и стихи их порою звучат столь же трогательно, как это, впрочем, бывает лишь с "плохими" стихами.
И понятно, в чем здесь дело. Причина появления на свете стихов предельно однозначна. Они – разрядка, зов, крик, вздох, жест, реакция взволнованной души, стремящейся выплеснуть или осознать возбуждение, эмоцию. В этой главной, изначальной и важнейшей своей функции не поддается оценке никакое стихотворение. Прежде всего оно обращено лишь к самому поэту, оно его дыхание, его голос, его греза, его улыбка, его припадок. Кто возьмется судить об эстетической ценности ночных сновидений и о целесообразности движений рук и головы, мимики и походки?! Грудной ребенок, засовывающий в рот большой палец руки или ноги, поступает столь же правильно и умно, как и автор, грызущий кончик своего пера, или павлин, распускающий хвост. Ни один из них не поступает лучше, чем другой, ни один не больше и не меньше прав.
Иногда бывает, что стихотворение, давая разрядку и облегчение автору, может радовать, волновать и трогать также и других людей, бывает оно и красивым. Это происходит, вероятно, тогда, когда стихотворение выражает нечто, присущее многим, нечто возможное у всех. Но не обязательно только тогда!
Вот здесь-то и начинается проблематичное круговращение. "Красивые" стихи делают поэтов любимцами публики, из-за чего рождается вновь тьма стихотворений, которые, совершенно забыв о своей изначальной, пред-мировой, священнослужительской функции, все до одного хотят быть только красивыми. Такие стихи по своему рождению созданы для других, для слушателей, для читателей. Они более не грезы, не движения танца или крики души, не реакция на пережитое, не косноязыкие желанные видения или заклинания, не лик мудреца или гримаса безумца, а всего лишь выдуманные изделия, фабрикаты, конфеты для публики. Их смастерили, чтоб распространять и продавать, чтобы покупатели их потребляли для собственного увеселения, возвышения души или отвлечения. И именно эти стихи пользуются успехом. В них не нужно погружаться серьезно и любовно, они не мучат и не потрясают, а весело, уютно качают на своих красивых и мерных волнах.
Эти "красивые" стихи могут показаться порою столь же неприятными и сомнительными, как и все приглаженное и подогнанное по рамке, как профессора и чиновники. И когда правильным миром становишься сыт по горло и хочется бить фонари и поджигать храмы, – в такие дни все "красивые" стихи, вплоть до святых классиков, кажутся немного цензурированными, кастрированными, слишком уж приемлемыми, слишком прирученными, слишком добропорядочными. Тогда обращаешься к плохим. Тогда вообще уже нет ни одного достаточно плохого стихотворения.
Но и здесь подстерегает разочарование. Чтение плохих стихов удовольствие слишком краткое, они быстро вызывают насыщение. Но зачем читать? Почему бы каждому самому не сочинять плохие стихи? – Возьмитесь, и вы увидите, что сочинение плохих стихов делает человека намного счастливее, чем чтение самых распрекрасных стихотворений.
(1918)
КНИЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Жил-был человек, который от пугавших его жизненных бурь еще в ранней юности нашел убежище в книгах. Комнаты его дома были завалены книгами, и, кроме книг, он ни с кем не общался. Ему, одержимому страстью к истинному и прекрасному, казалось, что куда как правильней общаться с благороднейшими умами человечества, чем отдавать себя на произвол случайностей и случайных людей, с которыми жизнь так или иначе сталкивает человека.
Все его книги были написаны старинными авторами, поэтами и мудрецами греков и римлян, чьи языки он любил и чей мир казался ему столь умным и гармоничным, что порою он с трудом понимал, почему человечество давным-давно покинуло возвышенные пути, променяв их на многочисленные заблуждения. Ведь древние достигли вершин во всех областях знания и сочинительства; последующие поколения мало что дали нового – за исключением, пожалуй, Гёте, – и если кое-какого прогресса человечество все же добилось, то лишь в сферах, не волновавших этого книжного человека, казавшихся ему вредными и излишними, – в производстве машин и орудий войны например, а также в превращении живого в мертвое, природы – в цифры и деньги.
Читатель вел размеренную безмятежную жизнь. Он прогуливался по своему крохотному саду со стихами Феокрита на устах, собирал изречения древних, следовал им, в особенности – Платону, по прекрасной стезе созерцаний. Порою он ощущал, что жизнь его ограниченна и бедновата, но от древних ему было известно, что счастье человека не в изобилии разнообразия и что умный обретает блаженство верностью и самоограничением.
И вот эта безмятежная жизнь прервалась: в поездке за книгами в библиотеку соседнего государства Читатель провел один вечер в театре. Давали драму Шекспира; он хорошо ее знал еще со школьной скамьи, но знал так, как вообще знают что-либо в школе. Сидя в большом, погружающемся во мрак помещении, он чувствовал некоторую подавленность и раздражение, ибо не любил больших скоплений людей, но вскоре ощутил в себе отклик на духовный призыв этой драмы, увлекся. Он сознавал, что инсценировка и актерское исполнение посредственны; не будучи вообще театралом, через все препоны различал он, однако, какой-то свет, ощущал какую-то силу и могучие чары, каких по сю пору не ведал. Когда занавес упал, он выбежал из театра опьяненный. Продолжил поездку и привез из нее домой все произведения этого английского поэта. И стал читать – словно в запое, стал читать "Лира", "Отелло", "Ромео и Джульетту" и все прочие драмы, и в душе его поднялся вихрь страстей, разыгралась буря демонической и хмельной жизни. В угаре чтения летели дни; счастливый, чувствовал он, что перед ним распахнулись иные области существования, и долгое время он жил в своем доме и садике, неотступно сопровождаемый персонажами этого непостижимого сочинителя, который, казалось, сорвал с места все, что было напрочно установлено греками, и поступил тем не менее правильно, ибо устранил все возникшие противоречия.
Мир Читателя впервые получил пробоину, и через нее в античный покой хлынули воздух и свет. А может, все это уже имелось внутри самого Читателя и теперь пробудилось и тревожно било крылами? Как это было странно и ново! Сочинитель, давно к тому же усопший, казалось, не исповедовал никаких идеалов, а если и исповедовал, то совершенно иные, чем античные греки; Шекспиру человечество, видимо, представлялось не храмом уединенного созерцания, а бушующим морем, по которому носит захлебывающихся и барахтающихся людей, блаженных собственной несвободой, опьяненных собственным роком! Эти люди двигались как созвездия, каждый – по предначертанному пути, каждый – влекомый ничем не облегченной собственной тяжестью, в неизменно поступательном устремлении даже тогда, когда путь приводит к низвержению в пропасть и смерти.
Когда же Читатель, словно после феерической вакханалии, вновь наконец очнулся и, вспомнив прежнюю жизнь, вернулся к привычным книгам, он почувствовал, что у греков и римлян теперь уже вкус иной – пресноватый, поднадоевший, какой-то чужой. Тогда попробовал он читать современные книги. Но они ему не понравились; в них, как ему показалось, все сводилось к вещам незначительным, мелким, и само повествование велось словно бы не всерьез.
И Читателя больше не покидало чувство голода по новым, великим очарованиям и потрясениям. Кто ищет, тот находит. И следующее, что он нашел, была книга норвежского писателя по имени Гамсун. Странная книга странного писателя. Казалось, что Гамсун постоянно – а он был еще жив – в одиночку скитается по свету, ведя бурное существование без руля и ветрил, без Бога в душе, полубаловень, полустрадалец, в вечных поисках чувства, которое он порою словно бы обретает лишь на мгновение как гармонию сердца с окружающим миром. Этот писатель изображал не мир людей, как Шекспир, а сплошь и рядом только себя самого. Но нередко охватывали Читателя то сильное волнение, то горькая скорбь, а порою он внезапно и для себя совершенно нежданно начинал хохотать. Каким же ребенком был этот писатель, каким строптивым мальчишкой! И вместе с тем каким же бывал он великолепным, и кто вчитывался в него, видел падучие звезды и слышал далекий прибой.
Потом Читатель обнаружил толстую книгу, которая называлась "Анна Каренина", и потом – стихи Рихарда Демеля. А чуть позже набрел он на сочинения Достоевского. С тех пор как прочел он Шекспира, литература будто преследовала его, оказываясь рядом, как только он ощущал пустоту, – словно по волшебству, которое теперь воспринимал он естественным и естественно жил им. Он рыдал и проводил бессонные ночи над русскими книгами. Он забросил Горация и раздарил очень много своих старых книг. Когда он перебирал библиотеку, в руки ему попалась одна латинская книга, которую раньше он мало ценил. Он отложил ее и вскоре прочел. То была "Исповедь" Августина. От нее он вернулся опять к Достоевскому.
Однажды под вечер, начитавшись до ломоты и рези в глазах – он был уже немолодым человеком, – Читатель погрузился в раздумья. Над одним из высоченных книжных стеллажей красовался давно туда водруженный, начертанный золотыми буквами греческий девиз, который гласил: "Познай самого себя". Теперь он приковал внимание Читателя. Ибо Читатель себя не знал, давно уже ничего не знал о себе. По едва заметным следам воспоминаний он мысленно вернулся в прошлое и старательно начал отыскивать в нем то время, когда его восхитила лира Горация и осчастливили гимны Пиндара. Читая античных акторов, он узнал тогда в себе то, что называется человечеством; вместе с писателями он был и героем, и властителем, и мудрецом, он издавал и упразднял законы; он, человек, вышедший из неразличимости первозданной природы навстречу лучистому свету, был носителем высшего достоинства. Теперь же все это сокрушилось, рассеялось, словно никогда не существовало, и теперь он не только читал разбойничьи и любовные истории и испытывал радость от них, нет – он чувствовал себя и со-любовником, и co-убийцей, и co-страдальцем, и co-грешником, и co-насмешником, он падал в бездну порока, преступления и нищеты, диких животрепещущих инстинктов и чувственных страстей; дрожа от страха и наслаждаясь, копался он в мерзостном и запретном.
Его размышления оказались бесплодными. И вскоре он вновь, как в горячечном бреду, погрузился в странные книги. По каплям он впитывал в себя лихорадящую атмосферу аморальных историй Оскара Уайльда, плутал по скорбно-неверующим путям богоискательства Флобера, читал стихи и драмы новых и новейших писателей, которые, казалось, объявляли войну не на жизнь, а на смерть всему гармоничному, всему греческому и классическому, проповедовали мятежи и беспорядки, обожествляли уродство и хохотали над ужасным. И Читатель вдруг понял, что в чем-то правы и они, что есть, должно в человеке иметься и все это тоже. Утаивать это было бы ложью. Было бы самообманом прятаться от кровавого хаоса жизни.
Потом напряжение схлынуло, и Читателя охватила усталость. Книги, в которых к нему бы взывало новое, властное, больше не попадались. Он чувствовал, что болен, стар и обманут. Однажды ему приснилось его состояние. Он трудился над сооружением высокой книжной стены. Стена росла, и, кроме нее, не видел он ничего; задачей его было соорудить огромное здание из всех книг на свете. И вдруг часть стены зашаталась, книги начали выскальзывать из кладки и падать в бездну. Сквозь зияющие бреши ворвался странный свет, и по ту сторону книжной стены увидел он нечто ужасное: в чадящем воздухе невообразимый хаос, кашу из живых существ и предметов, людей и ландшафтов, увидел умирающих и рождающихся, детей и животных, змей и солдат, горящие города и тонущие корабли; он слышал вопли и дикое ликование, лилась кровь, струилось вино, нагло и ослепительно полыхали факелы... В ужасе вскочил он с кровати, чувствуя в сердце давящую тяжесть; все еще оцепенело стоя в лунном свете посередине своей тихой комнаты и глядя на деревья за окном и книгу на ночном столике, он внезапно прозрел.
Он обманут – обманут по всем статьям! Читая, переворачивая страницу за страницей, он жил бумажною жизнью; а за нею, за этой гнусной книжной стеной, бушевала настоящая жизнь: горели сердца, клокотали страсти, разливались кровь и вино, торжествовали зло и любовь. И все это к нему не относилось, все это происходило с другими, он же чувствовал лишь скользящие под пальцами тени на бумажных страницах!
В постель он уже не вернулся. Наспех одевшись, помчался в город. Там метался по сотням освещенных фонарями улиц, заглядывал в тысячи слепых черных окон, подслушивал у сотен запертых дверей. Брезжило утро. Подобно оставшемуся со вчерашнего дня пьянчуге, близкий к обмороку, блуждал он в бледном свете восхода. Город просыпался. Навстречу шла худая, болезненного вида девушка без кровинки в лице. Он опустился перед ней на колени, и она повела его с собой.
Он сидел в ее комнатушке на убогой кровати, над которой висел распахнутый японский веер, пыльный и в паутине. Сидел и смотрел, как играла она его талерами, потом вновь схватил ее за руку и взмолился: "Прошу тебя, не бросай меня одного! Помоги мне! Я стар, и кроме тебя, нет у меня никого. Останься со мной. Наверно, впереди уже нечего ждать, кроме болезней и смерти, но хоть их я хочу прожить сам, хочу сам хотя бы страдать и скончаться, хочу всем своим существом, кровью и сердцем. Как ты прекрасна! Тебе не больно, когда я сжимаю тебя? Нет? Как ты добра! Представь, что всю свою жизнь я был похоронен, заживо похоронен в бумаге! Ты знаешь, что это такое? Нет? Тем лучше. О, мы еще поживем, еще поживем. Солнце уже взошло? Я впервые увижу солнце".
Девушка улыбалась, гладила его беспокойные руки и слушала. Она не понимала его, и в утренней мерещи выглядела осунувшейся и несчастной, она тоже всю ночь провела на улице. Улыбаясь, она сказала: "Да-да, я тебе помогу. Успокойся, я обязательно тебе помогу".
(1918)
ЧИСТКА БИБЛИОТЕКИ
Недавно мне вновь пришлось провести чистку своей библиотеки. Под давлением внешних обстоятельств я должен был расстаться с частью книг. Я простаивал перед полками, шаг за шагом обходил книжные ряды, раздумывая: "Нужна ли тебе, например, эта книга? Ты любишь ее? Будешь ли наверняка ее читать? Настолько ли тебе не хочется ее лишаться?"
Я отношусь к тем людям, которые так и не научились "историческому мышлению" даже тогда, когда ему официально отдавалось предпочтение большее, чем мышлению человеческому. Поэтому я начал с книг по истории, и затруднений оказалось немного. Красивые издания мемуаров, итальянские и французские биографии, придворные истории, дневники политических деятелей – к черту! Разве бывали политики когда-нибудь правы? Разве один стих Гёльдерлина для меня не более ценен, чем все мудрости власть предержащих? Долой их!
Туда же и история искусств. Неплохие книги Вазари об итальянской, нидерландской и бельгийской живописи, сборники писем художников – не очень-то жалко. Прочь!
Очередь дошла до философов. Разве нужно было иметь словарь Маутнера? Нет. Стану ли когда-нибудь снова читать Эдуарда фон Гартмана? Да нет же. А Канта? Я заколебался. Неизвестно, может, и буду. И оставил его на полке. Ницше? Необходим, и все письма его тоже. Фехнер? Было бы обидно его лишаться, пусть стоит. Эмерсон? А-а, не нужен! Кьеркегор? Нет, мы еще подержим его. Шопенгауэра – тем более. Симпатичными, правда, кажутся и сборники и антологии: "Немецкая душа", "Книга привидений", "Книга гетто", "Немцы в зеркале карикатуры", – но разве они мне нужны? Долой! Долой все это!