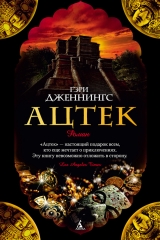
Текст книги "Ярость ацтека"
Автор книги: Гэри Дженнингс
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
14
Моего товарища по камере звали Хосе Хоакин Фернандес де Лизарди. Он родился в городе Мехико, и ему недавно исполнилось тридцать два года. Хотя его родители и утверждали, будто состоят в родстве с самыми влиятельными гачупинос города, сами они были всего лишь небогатыми креолами. Я не раз встречал подобных людей: со скромными средствами, но большими амбициями; у нас в Новой Испании про таких говорят, что «головы их находятся в облаках, а ноги – в грязи».
Мать Хосе происходила из семьи продавца книг в Пуэбле, а отец его был врачом в Мехико. Докторами у нас в колонии по большей части становились именно креолы, ибо, с одной стороны, эта профессия считалась не слишком престижной, но, с другой, искусный лекарь вполне мог обеспечить себе безбедное существование. Правда, спрос на услуги медиков был не особенно велик: если простым людям требовалось отворить кровь или поставить пиявок, они предпочитали позвать цирюльника. И само собой, большинство хирургических операций тоже выполняли цирюльники.
Я сразу понял, что Хосе относится к тем людям, которых кличут «Don Nadie», что означает «Сеньор Никто»: креол, то есть испанец по лицу и крови, но уроженец колонии; не нищий, однако без значительных средств и собственной гасиенды, не имеющий права претендовать на звание кабальеро. Наверное, у его родителей имелся скромный экипаж, в который запрягали единственную лошаденку, но о золоченой карете речи не шло. Врачи в Новой Испании, как правило, проживали в скромных, аккуратных двухэтажных домах, окруженных небольшими, скрытыми за заборами участками, и держали не больше одного-двух слуг. Выходцы из таких семей не сиживали за столом вице-короля и не дослуживались до высоких должностей ни на гражданском поприще, ни в армии. У них не было ни малейших шансов получить от правительства лицензию на монопольную торговлю, зато из них получались прекрасные лавочники, учителя, священники, мелкие чиновники и младшие офицеры. Юноши из таких семей – во всяком случае, те, которые не получали в наследство от отцов лавки и не избирали духовную стезю, – порой становились letrados, то есть учеными, и мой сокамерник относился как раз к этой категории. Книжек он прочел уйму, но вот практической сметки у него не было ни на грош.
Когда же этот малый рассказал, что привело его в каталажку, я поначалу не поверил своим ушам.
– Невероятно! Ты оказался в тюрьме за то, что сочинил памфлет?! Да разве человека могут арестовать за какие-то слова, нацарапанные чернилами на бумаге?
Лизарди покачал головой.
– Твое невежество просто удивляет. Неужели ты никогда не слышал о революции восемьдесят девятого года, мятеже, во время которого французы убили короля и провозгласили республику? Или о том, как в семьдесят шестом году – это было как раз в тот год, когда я родился, – жители североамериканских колоний восстали против британского короля и объявили о своей независимости? Похоже, ты совершенно не разбираешься в политике, не слышал о правах человека и о том, как самодуры и тираны эти права попирают!
– Ты путаешь невежество с безразличием. Разумеется, я слышал обо всех этих событиях. Просто меня не интересует политика и всякие там революции: подобная ерунда волнует только глупцов да книжных червей вроде тебя.
– Ах, amigo, отсутствие интереса к политике лишь подтверждает твое невежество! Именно из-за равнодушия таких, как ты, тираны продолжают править и мир не меняется в лучшую сторону!
Ну и пошло-поехало: все в том же роде, и чем дальше, тем пуще. Лизарди получил университетское образование, говорил на латыни и греческом, про философов да королей знал, наверное, все, а вот в реальной жизни не разбирался ни на грош. Насчет прав человека мог часами разливаться соловьем, но как люди живут в действительности, представлял себе плохо. Хосе был плохим стрелком, скверным наездником и совсем уж никудышным фехтовальщиком. На гитаре он не играл, спеть серенаду возлюбленной не сумел бы нипочем, а оказавшись вовлеченным в самую пустяковую стычку, мигом удрал бы, поджав хвост. Но если в чем мой новый товарищ и проявлял храбрость, так это в писанине, когда проливал на бумагу не алую кровь, а чернила, которые обретали под его пером форму стихов, басен, диалогов, нравственных поучений и политических памфлетов. И ведь в конце концов именно писанина довела его до тюрьмы. Вот как сам Лизарди рассказывал мне об этом:
– Я осудил незаслуженные привилегии гачупинос и то, что вице-король попустительствует этой несправедливости. Мы, креолы, уроженцы колонии, повсюду ущемлены в своих правах и возможностях, ибо лучшие должности, выгодные лицензии и прочие преимущества достаются выходцам из Испании. Между тем они здесь лишь временные гости: зачастую гачупинос оставляют семьи дома и приезжают сюда только затем, чтобы плодить бастардов и пожинать плоды чужого труда. Они узурпируют высокие посты в нашем правительстве, университетах, армии и церкви. Мало того что гачупинос бессовестно грабят наши промыслы, рудники и гасиенды, так они еще вдобавок взирают на креолов с презрением.
И я считаю абсолютно несостоятельным утверждение, что подобная система якобы основана на чистоте крови, ибо мы, креолы, такие же испанцы, как и гачупинос, родившиеся в метрополии. Все дело тут в другом: в желании короны сохранить безраздельный контроль над колонией. Иначе почему Новой Испании отказано в праве выращивать оливки для производства оливкового масла и виноград для изготовления вина? Ну объясни мне, Хуан, какая во всем этом логика? Мы вынуждены покупать продукты в Испании, хотя можем производить их на месте, что обойдется куда дешевле.
Признаться, его жалобы растравили мне сердце: я вспомнил, что и сам еще совсем недавно носил и пускал в ход острые шпоры.
– Я выразил свои мысли на бумаге и опубликовал памфлет в столичном городе Мехико, – продолжал рассказ Лизарди. – Там содержался прямой вызов вице-королю, я настоятельно требовал устранить несправедливость, покончить с угнетением и запретить приезжим занимать высокие должности в колонии, если только они не намерены поселиться здесь навсегда. А еще я хотел, чтобы колониям разрешили самостоятельно производить все необходимые товары, дабы те могли конкурировать с привозными, а возможно, и вывозиться в Испанию. Разумеется, вице-король с презрением отверг все мои требования, и, узнав, что служители Аудиенсии добиваются моего ареста, я был вынужден бежать из города. Увы, меня все-таки схватили здесь, в Гуанахуато, сегодня утром. Нашлись предатели, которые донесли на меня.
– Тебя опознали?
– Нет. Взяли с поличным. У меня на руках еще осталось немало экземпляров памфлетов, и меня арестовали, когда я распространял их.
– Вот оно что! И еще говорят, что образование приносит пользу! – заключил я и почесался.
– Почему ты постоянно чешешься? – спросил Хосе.
Я продемонстрировал ему вошь.
– Этот hombre находит меня аппетитным. А не далее как сегодня ночью его собратьев будешь кормить и ты.
– А сам-то ты как сюда угодил? – поинтересовался Лизарди. – Я вижу, что, несмотря на невежество и заносчивость, у тебя речь и манеры настоящего кабальеро. Какое преступление ты совершил?
– Убийство.
– Ну разумеется, на почве страсти? Ты убил свою возлюбленную или счастливого соперника?
– Меня обвиняют в убийстве моего дяди.
– В убийстве дяди? А зачем ты... – Он озадаченно уставился на меня. – ¡Аy de mí!Я понял, кто ты. Тот самый негодяй, Хуан де Завала.
– Ты слышал обо мне? Расскажи, что за толки ходят об этом в городе?
– Говорят, что ты гнусный обманщик, который выдавал себя за гачупино: сперва внушил доверчивому старику, что якобы ты его родной племянник, а потом убил беднягу, дабы завладеть наследством.
– А ты, случайно, не слышал о том, что я насиловал монахинь и обворовывал сирот?
– Так ты совершал еще и эти преступления?
– Я вообще не совершал никаких преступлений, глупец. Я жертва. Ты вот утверждаешь, будто из своих книг вынес некоторое представление о том, что справедливо и нет. Так выслушай меня и скажи, случалось ли тебе читать о большей несправедливости, чем эта.
Я поведал ему свою печальную историю. Рассказал, как меня обвинили в том, будто я намеренно выдавал себя за другого (хотя на самом деле именно Бруто с детства внушал мне, будто я являюсь урожденным де Завала), и о страшных событиях последнего времени.
Лизарди слушал внимательно, изредка задавая вопросы. Когда я закончил рассказ о том, как Бруто пал жертвой собственного коварства, мой ученый сосед лишь покачал головой.
– Знаешь, чтобы ярче выразить свои идеи, я пишу басни, в которых многое выдумываю из головы, но клянусь, Хуан де Завала, мне в жизни не удавалось сочинить ничего столь поразительного, чем твоя правдивая история. – Тут Хосе нахмурился, взглянул на меня исподлобья и добавил: – Если только она правдивая.
– Я готов поклясться, что говорю правду, на могиле той шлюхи, которая, как уверяют, выносила, родила и затем продала меня.
– В этом нет нужды, я тебе верю. Ты уж не обессудь, но у тебя бы просто мозгов не хватило, чтобы самому придумать так лихо закрученную историю.
Еще неделю назад я бы предложил этому шуту-книгочею выбрать оружие и вызвал бы его на поединок, однако сейчас, натворив столько глупостей, я, как это ни парадоксально, чуток поумнел и научился не петушиться впустую. Ни к чему задирать этого умника, лучше держаться поближе к его припасам.
Неожиданно в камере появился тюремщик с наполненной провиантом корзиной, соломенным матрасом и хлопчатобумажным покрывалом. Он подошел к нашему алькову, поставил корзину и опустил на пол матрас.
– У меня уже есть один, – сказал Лизарди.
– Это для кабальеро, – буркнул тюремщик, кивнув в мою сторону. Последнее слово он произнес не без издевки.
Я вскочил на ноги.
– Как, мне теперь полагается матрас? Неужели вице-король понял, что местные власти допустили ошибку, и прислал мне подарок?
– Единственное, что пришлет тебе вице-король, так это тугую петлю, чтобы, когда тебя вздернут, шея сломалась сразу и палачу не пришлось вешать тебя дважды. – Он указал рукой на корзину, матрас и покрывало и пояснил: – Кто-то прислал слугу со всем этим для тебя и некоторой мздой для нашего брата, тюремного служителя. Имя твоего благодетеля слуга назвать отказался, да нам оно и без надобности. Даже метису вроде меня ясно, что если кто и позаботится о тебе, дон Убийца, так это женщина. Только женщина способна на такую глупость.
¡Ay María!Я знал это! Изабелла послала мне матрас и корзинку с едой. Никто никогда не любил меня так, как она. Бруто ошибался, считая Изабеллу ветреной, пустоголовой кокеткой. Приключившееся со мной несчастье отвратило от меня многих в Гуанахуато, включая и родителей девушки, но у нее самой любящее и верное сердце, доказательством чему служат эти дары! Я испытал бесконечное облегчение, сопряженное с толикой стыда, ибо все-таки позволил себе усомниться в Изабелле, гадая, не были ли правдой те недобрые слова, которые мне приходилось слышать от Бруто, да и не только от него одного. Теперь я уверился в том, что все старания недругов тщетны: моя дорогая Изабелла освободит меня из этой адской дыры и я снова буду скакать рядом с ее экипажем на paseo.
Я лежал на своем новом соломенном матрасе, насытив желудок и утолив жажду вином, и блаженно рыгал. Лизарди пристроился поблизости, но отвернулся в другую сторону, заявив, что не в силах терпеть исходящую от меня вонь.
Глаза мои закрылись, и я уже начал дремать, когда Лизарди вдруг прошептал:
– Хуан, ты не прав насчет того нотариуса.
– Что такое?
– Он вовсе не так глуп, как можно подумать.
– А разве стал бы умный человек утверждать, что годовалый ребенок способен выдать себя за другого?
– Версия, которой придерживался нотариус, – дескать, ты мошенник, обманом завладевший чужим наследством, – в точности совпадает с той историей, что рассказывали в гостинице, где я остановился. Люди, помнится, только об этом и толковали. Все наперебой судачили о том, как ловко ты провел дона Бруто, заставив поверить, будто ты его родной племянник...
– Повторяю: мне тогда едва исполнился год!
– Так-то оно так, однако в той истории, которую я слышал, об этом ни слова не говорилось.
– Эта история наверняка состряпана алчными «кузенами», которые жаждут заполучить мои денежки. Я должен любой ценой выбраться из тюрьмы и открыть людям глаза на то, как все было в действительности.
– Неужели ты не понял? Ведь алькальд и коррехидор, два самых влиятельных гачупинос в городе, присутствовали у смертного ложа твоего дяди, разве не так?
– Так. И что?
– Да то, что нотариус просто пересказал версию, которую распространяют городские власти. А почему они ее распространяют? Кто может приказывать градоначальнику? Только сам вице-король!
Я приподнялся на локте.
– Что-то я не пойму, с какой стати градоначальнику или вице-королю понадобилось распространять подобную клевету?
– А я тебе сейчас объясню. Именно гачупинос, как всем известно, управляют колонией. И вот получается, что более двадцати лет тебя ошибочно принимали за одного из них. Причем все вокруг, включая само семейство де Завала, считали тебя своим, хотя, если Бруто сказал правду, ты не только не гачупино, но и не креол. Ты презренный пеон, однако на протяжении многих лет никто ни разу не усомнился в твоем испанском происхождении.
Неужели ты не понимаешь, какими осложнениями это чревато для вице-короля, властей и всех гачупинос колонии. Они ведь утверждают, будто пользуются привилегиями по причине своего природного превосходства над всеми остальными. По их мнению, чистокровные индейцы и метисы мало чем отличаются от животных, и даже креолы, при всей чистоте их испанской крови, не пригодны для занятия высших постов в государстве. На этом зиждется их право на исключительность, и вдруг получается, что они приняли в свой круг пеона, причем долгие годы ошибочно считали его не просто испанцем, но гачупино, одним из самых блестящих кабальеро в колонии. Словом, ты являешься живым опровержением всех их жизненных принципов.
Я сел на матрасе и уставился на Лизарди, почти неразличимого в мерцающем свете свечи.
– Но я вовсе не желал опровергать ничьи принципы. По образу мыслей я гачупино .И все, что мне сейчас нужно, это возможность объясниться.
– О господи, вот ведь тупица! Неужели не понятно: твоя история не устраивает властей предержащих, поэтому они не желают слушать ее сами и не хотят, чтобы слышали другие. Им важно сохранить свое исключительное положение и дальше держать людей в страхе, поэтому они никак не могут допустить, чтобы над ними смеялись.
– Да что смешного в моей истории? По-моему, как раз наоборот, все очень грустно.
Лизарди вздохнул и снова прилег.
– Ты представляешь собой угрозу для властей Новой Испании.
– Но я ничего им не сделал.
– Если повезет, они тебя просто казнят или заплатят кому-нибудь, чтобы тебе перерезали горло. Для тебя это не худший вариант: куда страшнее, если власти решат держать тебя в заточении, пока ты не состаришься, а твои мозги не размягчатся, как та жидкая каша, которой нас тут кормят. Но в любом случае выпустить тебя на волю никак нельзя. Пойми наконец, власти могут простить настоящего убийцу, вора, даже мятежника или правдолюбца вроде меня – но никогда не проявят снисхождения к человеку, чья история способна выставить их на посмешище. И лично мне это как раз понятно: мы, испанцы, вне зависимости от того, где родились, народ гордый, самолюбивый, не терпящий насмешек. А ведь если ты начнешь повсюду рассказывать, что с тобой приключилось, высокомерные гачупинос, которые считают себя солью земли, сделаются предметом всеобщих насмешек.
Я заговорил, тихо, чуть ли не шепотом, как будто у здешних стен могли быть уши:
– А ведь ты прав. Ни один чиновник не может быть настолько безмозглым, каким показал себя тот нотариус. Теперь ясно, что он попросту писал текст, который был заготовлен заранее. Скорее всего, потом он солжет, заявив, будто я признался во всех тех злодеяниях, которые мне приписывают. Ты прав, amigo, меня наверняка убьют.
– И похоронят истину, – добавил Хосе.
Мы помолчали, потом я сказал:
– Я ошибался насчет тебя, сеньор Лизарди. Ты и впрямь мало что смыслишь в лошадях и женщинах, поединках и клинках, но теперь я вижу, что в руках иных людей перо и бумага могут быть столь же смертоносным оружием, как шпага и пистолет.
Некоторое время я молча ожидал ответа, пока не понял, что мой товарищ тихонько похрапывает.
А вот мне не спалось, и я еще раз заново все обдумал. Да, по здравом размышлении выходило, что Лизарди прав: то, что сейчас со мной происходит, вовсе не какая-то безумная ошибка. Нотариус отнюдь не глуп, он просто придерживался той версии событий, какой ему было приказано. Более того, власти, с целью распространять все ту же гнусную ложь, наверняка разослали своих людей по питейным заведениям и прочим общественным местам. Для начала они уничтожат при помощи клеветы мое доброе имя, а потом отнимут у меня и саму жизнь. Есть ли из такой ситуации выход? Наверняка, бросив меня в эту вонючую дыру, мои гонители полагают, что полдела уже сделано, ибо считают меня изнеженным щеголем, который быстро сломается от всех ужасов тюремной жизни. Но тут мои недруги явно просчитались. В отличие от большинства кабальеро я не был неженкой, не чурался работать вместе с vaqueros на своей гасиенде. Я любил жизнь в седле: мне частенько приходилось объезжать лошадей, перегонять стада, кастрировать и клеймить быков, перебираться через реки вброд. По много месяцев в году я проводил без крыши над головой, на открытом воздухе, в том числе и в горах, охотился и ловил рыбу. Нет, напугать и сломить меня врагам будет не так-то просто.
Впрочем, сейчас для меня самое главное – выбраться из узилища да разжиться клинком и пистолетом. И уж тогда кое-кому придется держать ответ за все эти гнусные происки.
15
Спустя два дня грянула новая беда.
– Все, что у меня оставалось, я отдал тюремщику еще прошлым вечером, – сообщил мне Лизарди. – Так что скоро нас выселят из этих удобных апартаментов, и нам придется присоединиться, – он фыркнул, указывая на тюремное отребье, – к этой публике.
К тому времени я уже прикончил содержимое своей корзинки, а больше снеди мне почему-то не присылали. Лизарди, сидевший по тюрьмам и раньше, пояснил, что человек, желающий передать что-то заключенному, должен хорошо знать, кому и сколько нужно за это заплатить, – иначе передача попадет не в те руки. Я подозревал, что Изабелла по-прежнему посылала мне еду, но та не доходила по назначению.
– А разве родные тебе не помогут? – спросил я.
– Они живут не здесь, а в столице. Я послал им весточку. Но на родителей надежда невелика: отец на дух не переносит мое увлечение политикой и даже лишил меня наследства.
– А сколько раз тебя уже арестовывали?
– Дважды. Понимаешь, amigo, сейчас мы оба с тобой в одинаково затруднительном положении. Меня наверняка погребут заживо в этих застенках или перережут мне глотку. Может быть, предварительно еще и подвергнут пытке, но, так или иначе, участь моя предрешена. Да и тебе самому, боюсь, уже никогда не оказаться на свободе.
И тут, как будто услышав наше перешептывание, невесть откуда материализовался тюремщик.
– Эй вы, безденежные léperos, а ну выметайтесь. Лучшая комната в этой прекрасной гостинице зарезервирована для другого гостя.
В алькове и впрямь поселился новый заключенный, здоровенный метис-лавочник, угодивший сюда за какие-то махинации с налогами. В отличие от мятежного писаки-слюнтяя запугать этого малого было не так-то просто, я даже не стал и пытаться. Так что пришлось нам с Лизарди покинуть уютный закуток и обосноваться у стенки, привалившись к ней спинами.
Лизарди застонал, обхватив голову руками.
– Какой позор, – причитал он. – Я, чистокровный испанец, получивший образование в университете, вынужден жить в гнусных условиях, среди жалких léperos.
Я влепил ему подзатыльник.
– Если еще раз оскорбишь меня, я обмакну твою голову в ведро с дерьмом.
Правда, сказано это было больше для виду, на самом деле я не злился на Хосе. К моему удивлению, он оказался в своем роде отважным человеком, хотя стойкость его проявлялась лишь в верности идеалам, а вот всякого рода физических тягот он страшился пуще изнеженной собачонки. Мне это сочетание храбрости и трусости было в диковину, тем паче что при всей моей несомненной мужественности у меня самого напрочь отсутствовали какие-либо идеи, философские взгляды или политические убеждения. Я действовал исходя из требований момента, всегда жил исключительно сегодняшним днем, брал то, что меня привлекало, и отбрасывал все, меня не интересовавшее. В частности, меня совершенно не занимали такие материи, как религия или политика, управление колониями и божественное право королей. Лизарди, скажем, мог часами распинаться о том, действительно ли Папа является наместником Бога на Земле, а мне это было безразлично – как раньше, до встречи с ним, так и теперь. Заразить меня своими идеями Хосе не удалось, я по-прежнему ни во что не верил.
Мой товарищ дремал, когда ввалился тюремщик и велел нам собираться на дорожные работы.
– Это еще что за новости? – спросил меня Лизарди. – Что мы будем там делать?
– Вкалывать, как рабочий скот. Тюремные власти сдают рабочую силу в аренду подрядчику, который занимается починкой дорог.
– И что, часто мы будем этим заниматься?
Я пожал плечами.
– Меня назначили в первый раз.
– Но я креол! Это неслыханно. Я поговорю со смотрителем тюрьмы.
– Валяй. Чем чаще ты будешь напоминать о себе, тем быстрее тебя отправят на виселицу. И обязательно вздернут тебя, этакого чистокровного белого, на чистой белой веревке. Надеюсь, это послужит тебе утешением.
Стражник сковал мои лодыжки двухфутовыми ножными кандалами, после чего такие же оковы надели и на Лизарди. Остальные заключенные подобной чести не удостоились: задержанные за пьянство или драки, они все равно не удрали бы дальше ближайшей пулькерии.
Построив в колонну, нас вывели из сумрака темницы на слепящий солнечный свет, и я наконец смог полной грудью вдохнуть воздух, чистый и свежий, а не отравленный зловонными миазмами тюремной камеры.
Правда, здесь, на залитой ярким солнечным светом улице, особенно остро ощущалось, насколько я грязен. ¡Аy de mí!Как же от меня, должно быть, воняет. Улицы выглядели незнакомыми, хотя я раньше ходил по ним сотни раз. Теперь я видел все по-другому, подмечая детали, на которые раньше не обращал внимания: цвета стали ярче, грани резче, люди казались более живыми, деятельными и энергичными.
В прошлом я всегда был таким напыщенным эгоистом и настолько гордился своим исключительным положением в жизни (я в прямом и переносном смысле слова почти всегда возвышался над толпой, гарцуя на великолепном скакуне), что не считал нужным изучать мир, существовавший вокруг меня, и уж тем более подо мною. Теперь люди тоже старались убраться с моей дороги, однако вовсе не потому, что боялись моего хлыста или конских копыт; встречные шарахались от одного только нашего вида, я уж не говорю про исходившую от нас вонь. Интересно, вот эти прохожие, слыхали они уже лживую историю о вымышленных преступлениях Хуана де Завала?
Признаюсь, я никогда не испытывал уважения к простолюдинам, даже к почтенным лавочникам или чиновникам, и теперь они вдоволь посмеются, когда придут полюбоваться на казнь высокомерного аристократа. Глазеть на то, как вешают преступников, – это любимая забава черни, и всякий сброд будет драться за места в первых рядах, чтобы получше видеть, как петля сдавит мою гортань и сломает шейные позвонки.
Нас вывели на дорогу, которая вела к paseo. Недавний ливень, сопровождавшийся настоящим ураганом, размыл ее, и нам предстояло заново замостить тракт булыжником. Эх, сколько раз в былые времена прогуливался я по этой дороге, сколько раз скакал по ней на Урагане, приветствуя встречных сеньорит.
Теперь я тащился по ней, грязный, вонючий, босой и в кандалах, которые к тому времени, когда мы добрались до улицы, уже до крови натерли мне ноги. Я пытался отогнать боль воспоминаниями о тех временах, когда гарцевал здесь на могучем вороном жеребце, наводя страх на слуг и восхищая сеньорит: они кокетливо хихикали и прятались за китайскими шелковыми веерами, услышав мои посулы во имя их красоты убивать англичан и драконов.
К действительности меня вернул грубый оклик подрядчика, который, указав на нагруженные камнями телеги, зычно возгласил:
– Эй вы, черти! Я заплатил вашим тюремщикам за то, чтобы вы работали, и работать вы у меня, уж будьте уверены, еще как будете. Отлынивать я никому не позволю. Кто попробует, для начала отведает моего сапога, а станет упрямиться, так и кнута. За дело!
Переложив камни с телег в мешки, мы потащили их в самый конец перегороженной улицы, на участок, который следовало замостить. Работа заключалась в том, чтобы рыть в земле небольшие ямы и вставлять в них камни. Очень скоро у меня на ногах живого места не осталось. Лизарди работал в сапогах, так что ему было полегче, однако руки его быстро покрылись волдырями и кровоточили не меньше, чем мои ступни.
– Руки, державшие перо истины, обагрились кровью неволи, – промолвил он, морщась от боли.
– Прибереги это для своих памфлетов, – пробормотал я. Пока мы работали, мимо проехало немало богатых сеньорит в каретах и молодых кабальеро верхом на лошадях. Я узнал многих из них, но никто, хвала Господу, не признал Хуана де Завала в грязном, вонючем узнике, с ободранными руками и кровоточащими ступнями, едва держащемся на ногах от боли и усталости. Никто, хотя при виде первого из своих знакомых я буквально застыл на месте, окаменев от ужаса и позора.
Глядя на всех этих изысканно одетых кабальеро, восседавших на красивых холеных скакунах, я завидовал уже даже не им, а их коням, поскольку... И тут десятник пнул меня в ногу с такой силой, что моментально хлынула кровь.
– Давай работай, свинья!
Пришлось вернуться к работе, хотя ко всем моим ссадинам и волдырям теперь добавилась еще и кровоточащая рана от грубого сапога. А ведь попробовал бы этот негодяй тронуть меня всего лишь пару недель назад... Да что там говорить, то была совсем другая жизнь, другой мир.
Я вспомнил, как однажды ночью, это было давным-давно, когда я ночевал под звездами в компании vaqueros со своей гасиенды, один из пастухов описывал мне ад ацтеков. В их загробном мире (он называется Миктлан, или Темная Обитель) люди проходят через множество испытаний: переплывают бурные реки, оказываются среди ядовитых змей, сражаются со злобными чудовищами, с ягуарами из джунглей, и прочее в том же духе. И вот теперь я невольно призадумался: не произошло ли ненароком какое-то смешение того и этого света и не ввергли ли меня ацтекские боги еще на земле в свой индейский ад? Умершему надлежит преодолеть девять преисподних Миктлана, объяснял мне vaquero, и, лишь пройдя множество мучительных испытаний, он сможет обрести наконец вечный покой. Но не воспарить на Небеса, как у христиан, а лишь окончательно избавиться от страданий, обратившись в ничто.
Может быть, мне на роду написано страдать, и капризная Фортуна захотела еще при жизни испытать мою стойкость чередой ужасных несчастий, с тем чтобы в конце концов я, подобно ацтеку, попал не в райские сады, а в небытие вечной ночи.








