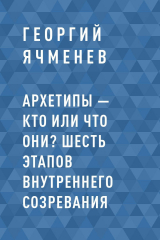
Текст книги "Архетипы – кто или что они? Шесть этапов внутреннего созревания"
Автор книги: Георгий Ячменев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Все эти закономерности внутреннего развития проще всего выразить следующе: раз захотел создать в себе новый порядок, то сперва взрасти внутри себя хаос, а уж после, занимайся своим психическим космосом столько, сколько пожелаешь. И человек пожелал, отдавшись тем самым на поводу космогонических мифов. Такие мифы, как календарные, космогонические и лунарные есть содержание Женского начала, основа которых состоит в их циклической повторяемости. И нужный нам повтор не заставил себя долго ждать, так как разворот был сделан в том же самом месте, где некогда свой выбор сделал архетип Женственности. Только если Женское пошло по пути более приближенного к земному, состраивала метафизику с опорой на физическую реальность, то вот следующий архетип наотрез отказывается от сей близости и погружается в сферу абсолютно отвлечённых понятий и идей. Этот выбор уже будет решением третьего архетипа – всего того, что в нас есть Мужского.
Мифология Мужественности
Если кто скажет, что физиологический голод куда сильнее духовного, на столь смелого оратора можно будет бросить не один вопросительный взгляд, мол: «А ты уверен в своей дерзостности?» В самом деле, хорошо ли подумал высказывающийся? Утоляя естественный голод, тело сыскивает комфорт и на какое-то время, даёт нам право заниматься чем-то отличным от организации физического достатка. Другим и отличным оказывается сфера духа, полнящаяся после Женского начала божественными формами – результатом слабого познания мира и его явлений. Так ли схожи эти две надобности: духовная и физическая? Принял краюху хлеба, запил её молоком и всё, преисполненное тело больше не ведает страсти к чему-либо. А вот относительно духовной парадигмы, вместо желудка, внутри вертится воронка бездонной червоточины и что туда не кинь, ей всё оказывается мало. Ни зооморфная мифологема, ни матриархальные мифы о плодородии и космогонии не могли усмирить раскручивающуюся внутри бездну. С этой постоянной жаждой, правящий матриархат сместился патриархатом, а мифы, заточенные на поклонение плодородности превратились в сказания о величии и героических подвигах.
Индоевропейская культура лучше остальных отразила подобную реформацию, так как кроме переделки внешнего устройства, был реконструирован и мифологический пантеон. Развитие двух сфер – материальной и духовной – шло параллельно друг другу и новая триадическая иерархия – боги-вседержатели, покровители воинства и земледелия17 – почти в точности соответствует обосновываемой здесь архетипной классификации, с тем лишь изменением, что вместо воинского начала уместно употребить териоморфизм.
Патриархальная структура отразима выделением средь богов новых вождей: в скандинавской мифологии культ Ванов (богов плодородия, таких как Ньёрд, Фрейр и Фрейя) свергла высшая иерархия в лицах Одина, Тора и Тюра (культ Асов); на Олимпе вознёсся Зевс, а в поверьях славян – литовский Перкунас или латышский Перконс18. Вместе с этим, ограничиваются ипостаси Животного (уход от териморфизма к построению полностью человеческих образов богов) и Женственности (в конструкте греческого пантеона, Деметра – покровительница плодородия – отодвигается поодаль, помещая в фокус внимания главенствование своего брата – Зевса). От пришедшей патриархальности, формируется новая категория мифов – героические. В шумерских мифах прославлялись истории о Гильгамеше; в Греции – похождения Одиссея; подвиги Геракла; путешествия Тесея. И, надеюсь, не раздосадуются здесь сторонники феминизма, но в чин героя всегда возводилась не женщина, а облик бравого и мужественного воина, конфликтующего с одними богами (ссора Одиссея с Посейдоном) и перенимающего поддержку от других (помощь Афины аргонавтам и дарение вдохновения Кадму, сразившего фиванского дракона). Вражда с божественными наблюдателями – это аналог описанному ранее факту, когда первое вступление в контакт с архетипами напоминает демоническое побоище.
В эпоху патриархальных мифов формируется бо́льшая настроенность на самостоятельность. Боги помогают нам, боги враждуют с нами, но как в первом, так и во втором варианте, до героя доходит, что, как бы не зависело его существование от провидения, ему вовсе не обязательно заручаться подмогой чего-то абсолютного. Достаточно всего лишь его собственных – человеческих – сил. Отстаивая позицию повышенной самостоятельности, героические мифы раскрыли другой аспект мужского начала – его гелиотропность19. Это не значит, что во главу божественных иерархий стали протискиваться боги солнца; Гелиос не пошёл против Зевса, а египетский Ра не решил вдруг всем доказывать, что он самый верховный. Солнцеликим богам не нужно было зачитывать ксении, дабы те снизошли к людям; им не требовалось искать определённое место в уже сложившихся божественных организациях; культ небесного или солнечного Абсолюта – это феномен так называемого Deus Otiosus20. Это какое-то верховное божество, которое стоит выше всех прочих сородичей и не испытывает нужды в фиксировании себя на определённом месте; оно как-бы фланирует между всеми существующими крайностями, не являясь ни мужским, ни женским. Хоть атрибутивность Солнца и позволяет судить о такого рода богах как производных от архетипа Мужественности (как противоположность лунотропности Женского начала), здесь всё же больше отслеживается нечто небесное, нежели конкретно солнечное.
Вообще, если брать явление замены культов Неба на культы Солнца в их исторической хронологии, то первое существовало заведомо раньше второго. У древних австралийцев Otiosus’ами были Байаме и Дарамулун, при чём, последнего дозволялось чтить лишь мужчинам; женщинам же и детям допускалось лишь знать их небесного бога как «Отца» всего и вся, но молиться ему они не имели права21. Поскольку эти боги «отошли от дел», связаться с ними было невозможно и вот тут-то прокралась та предрасположенность к язычеству. Раз с Богом нельзя поговорить напрямую, может удастся связаться с Ним через посредника? Так в религии появилось понятие Господа – делегата, между небесным и земным. В австралийском племени кулин, верховным божеством был Бунджиль и чтобы молитвы всё же достигали слуха его величества, был придуман Гаргомич – бог-господь, который хоть и был в более низшем сане, но зато он переправлял прошения человека на небеса22. Здесь были отобраны столь далёкие от нас формы культуры лишь за тем, дабы на их – уж простите за такое отношение к древним культам Австралии – примитивной религиозности показать, что сперва, всякий бог был скорее именно Богом – больше чем-то абстрактным, осветлённым и содержащим в себе потенцию к космогонии. Обобщая характеры космогоничности и небесности, высшие Otiosus’ы воплощались этакой сизигией мужского и женского, скрытой под сенью монотеистической установки. Как можно проследить по предшествующим высказываниям, архетип Животного привнёс языческую оформленность с множеством разномастных божков. Более известными прародителями пантеонов греческих, китайских и индийских религий были гомеровский Океан, Дао и Брахма; вся троица не имеет какой-то специфической выраженности, но именно из их труднопонимаемости и пришли все остальные божества. Особенно интересно то, что только верховным богам давалась возможность стать авторами каких-то течений, вроде китайского даосизма или индийского брахманизма и это полномочие исходило из их небесности. Много позже, с уже разросшимся язычеством, близкими к своим высшим пращурам ставились те боги, которые как-то повязывались с небесной тематикой: достаточно было управлять каким-то недосягаемым для человека элементом, который можно наблюдать лишь в пределах неба, вроде молнии (отсюда пошло восхваление богов-громовержцев) или солнечного света. Солнцетропные боги – это чуть-ли не прямые потомки тех «праздных» богов, наиболее аккуратно сохранившие в себе частицу своих прародителей, а именно, составление подле себя какого-то таинства. Такая ситуация просматриваема в случае с индоиранским Митрой, являющимся третьей реинкарнацией другого высшего бога Дьяуса и его ещё одной промежуточной формы – Варуны23. Митра вроде бы не занимал какого-то особого положения и, тем не менее, поклоняющиеся ему обособились в таком течении как митраизм; схожим модусом существования обладал и греческий Аполлон, также оставивший за собой некоторую общину, славящих в себе аполлоническое начало; этими прославителями были философы и мудрецы античности, всегда держащиеся критериев рассудка и разума, в противовес торжествующему в прошлом чувственному дионисизму.
Мужская направленность к солнечности и увеличение числа самостоятельно организованных сект – это перенимание наследия Deus Otiosus’ов, считавшихся в большинстве своём именно царями неба. С этим же и перешла мысль о невозможности прямого взаимодействия не то, что с Богом, но и с богами. Солнечные божества наделили своих собратьев теми же качествами, что и были присущи их общим предшественникам. При таком положении, требовался тот, кто согласится выступить проводником между миром материальным и миром духовным; сперва на должность проводящих органов ставились различные общности (даосизм, брахманизм, митраизм) и та уникальная черта архетипа Мужественности, скрытая в его проявлении среди героических мифов. Поэтому я и сказал ранее, что Мужское начало скорее повторяет некоторый момент в прошлом, изрядно обесценив тот, так как новым эмиссаром в высшие слои мироздания теперь назначался не бог-господь и даже не какое-то сообщество, а один единственный человек – герой, который был велик уже тем, что обладал двойственной природой: божественной и земной. Такое «соединительное звено» прозвали мессией, что дало начало новым мифологическим построениям.
Мифология Андрогинности
Пора бы представить один из наиболее популярных мифов, принимаемый полной противоположностью всякому космогоническому устроению. Когда кличут о приближающемся конце света или о событии, что перевернёт мир верх тормашками, значит в силу заступают эсхатологические мифы. Эсхатология – это общность идей, нацеленных на описание какого-то конца, будь то кончина истории, гибель мира или окончание развития в нас какой-то сущности. Эсхатологичность отчерчивает три предыдущие стадии развития (Животное, Женское, Мужское) и вместе с сопутствующими им мифами (культовые, тотемические и териоморфные; космогонические и лунотропные; героические и гелиотропные) проливает сок жизни над новой категорией, одновременно превознося представителя, универсально совместившего в себе все прошлые мифологемы. Им оказывается некоторый помазанник-герой, гендерную принадлежность которого нельзя отнести ни к женскому, ни к мужскому; такая личность не испытывает влечений ни к одному из полов и в своей неопределённости, она завуалированно таит соитие материи и духа; из последнего выдаётся то, что мессия – это реформатор, проповедник новой эпохи и разрушитель старой; он зачинает новую космогонию и позволяет человечеству приобщиться к своему учению, как некоторому слову, вымолвленному у него внутри Богом. Здесь сходится всё: и инициация разума для познания новой доктрины, и создание на её основе нового духовного бытия, и герой-учредитель.
Эсхатологический манер больше характерен для монотеистических религий, вроде христианства (новой историко-религиозной вехой становятся писания Нового Завета, а их посланцем – Иисус Христос) и ислама (схожими образами мессий являются Иса и Махди), но предпосылки к развитию андрогинного архетипа обрисованы и в политеизме. Так у индонезийцев, уже с имеющимся ассортиментом богов в своём собственном пантеоне, был и тот, кто стоял выше всех остальных; бог Макар олицетворял собою того же Otiosus’а, т. е. он не был никак заинтересован в деятельности своих родственников и людей, но самим своим существованием, отражал отверженность от Мужского архетипа. Отход от Мужественности – это провозглашение амбивалентности природы Макара – его нельзя было счесть ни лунной, ни солнечной ипостасью, а из заложенных в него функций он исполнил всего одну – это взял, да сотворил некогда мир – с тем учётом, что уже имелся ряд более перспективных для поклонения богов. Однако не смотря на их наличие, культ небесного Otiosus’a каким-то образом всё продолжал существовать24. Возможно, тогда никто и не мог понять, по кой такой причине, изначальные боги ещё старались казаться актуальными; никто и не осознал бы их значимости, если бы вскоре не принёсся архетип Андрогинности с мифами об эсхатологии. Влияние Otiosus’a и создание разного рода обществ – это прецедент для полагания только на что-то человеческое (мессию) и на посвящение себя в его учение (аналог тем братьям, возделанных на почёте гелиотропных богов), показывая, что вовсе не обязательно слушать одних только богов, а можно внимать и вокабулам их посланника.
Так осуществилась интеграция трёх первых архетипов и возрос новый вопрос: «Для чего же проповедовать эсхатологию, если нет уверенности, что следующий виток истории окажется более привлекательным?» Столь полезное замечание упразднялось тем, что человек уже на стадии развёртки из себя Андрогинности ощущал кристаллизацию следующего архетипа и от нарастающего внутри напряжения, крепла вера, что конец света – это не более чем конец мирского и образование чего-то божественного, а точнее – райского.
Мифология Космичности
Архетип Косма – это тяга человека к освящению каких-то мест, дабы из самого простого, ничем не примечательного пространства возделать что-то святое. Храмы, церкви, места силы и многое-многое другое – это попытки воспроизвести на нашей греховной землице что-то святое и безгрешное, словно бы произвести нечто похожее на утерянный когда-то рай. Восстановление райской целостности есть предназначение познаваемого внутри нас Косма. Космическое архэ вмещает в себя все мифы категории «Золотого века».
Именно с предвосхищением мифов о временах, когда «трава была зеленей», многие как раз-таки и соглашались повиноваться тем мандатам, прописанным в учениях мессий. Устранение старой космической гармонии принималось за уничтожение всего грешного в человеке и в своём новом, очищенном от всех проступков, облике, оставалось лишь ожидать наступления золотых времён, условием возникновения которых выколачивалась некая райская обитель. Мифы о восстановлении когда-то потерянной целостности имеются практически во всех мировых религиях: в иудаизме место о грехопадении отведено павшим Адаму и Еве, Великому Потопу и спасшемуся в ковчеге Ною, подарившего новый, пока ещё незапятнанный греховностью, человеческий род; шумерский Новый Год заменял бытие в грехе на очищенный от согрешений аналог25.
Эсхатологичность вкупе с идеей восстановления чего-то райского презентует психическую установку современного человека в отправлении себя в те далёкие времена, когда всё пребывало в неразрывной целостности, а история была движима не конкретно отобранными событиями и личностями, а универсалиями, лежащими в основе любого видимого феномена – культурно сложившимися архетипами26. Так и хочется сознанию возвратиться во времена, когда миром правил не рационализм, а мифы; всякая ночь представала не тёмным временем суток, а обновляющей мир экпирозой27; принятие пищи осуществлялось не с целью преисполниться энергией, а предаться ритуалу, как на великом платоновском пиру; празднование каких-то событий признавалось повтором некогда случившихся событий в прошлом с целью их актуализации в настоящем. Этим и многим другим мы тешим себя, но в большинстве своём, лишь бессознательно. Далеко не все доходят до покоящейся в нас мифологической настроенности и оставаясь в удалённости от подобного осмысления, уже успевшим завидеть все эти закономерности остаётся только одно – это обосновать всё узнанное ими архетипически, т. е. посредством тех универсальных сущностей, которые конгруэнтно единят в себе общую историчность с индивидуальной. На примере первого рода истории познаётся история каждой личности и сейчас, я хотел бы поведать вам, мои дорогие, то, как я пришёл к формированию предоставляемых вам на обозрение выводимых архетипов. Вот какова история юнца, попустившегося на несвоевременное развитие и расплатившегося за это здоровьем, как физическим, так и духовным.
Кризис – это смерть, но не бойтесь, не ваша…
Самый простой пример: если нам нужно что-то поместить куда-то, это куда-то должно быть свободным и ничем не занятым, тогда что-то спокойно встанет на своё почтенное место, но придёт время и с что-то придётся распрощаться, тем самым давая зелёный свет новому нечто. Неопорожнённый сосуд нельзя наполнить дважды, как и нельзя было допускать, чтобы одни категории мифов ютились рядом с соседними. Отрекаясь от поверхностных объяснений о том, что, несмешение разных мифологем обусловливалось культурной модой и исторической событийностью, высвечиваемая в данной работе идея синтеза мифологического умонастроя с нашим архетипическим содержанием даёт предпосылку мыслить об определённой закономерности развиваемого внутри архетипа с его интерпретацией в мифах. С этой позиции, если одна мифологическая категория рано или поздно сменялась другой, точно такой же процесс происходил и с архетипами; отмирало одно начало, рождалось какое-то новое. В мифологическом контексте такое явление получило название эвгемеризма, подразумевающего, что источник любого мифа – это сюжет события или жизнь какой-то реально существующей когда-то личности. Миф брал, да и абсолютизировал подобные истории, чтобы память о прошедшем не просто сохранилась, но стала некоторым объектом для веры и вдохновения.
Эвгемеризм – это мифологический ars moriendi28, когда одна мифологема теряла свою актуальность и заменялась какой-то другой и такое умерщвление объяснимо тем, что происходил внутренний акт периодизации архетипов. Тот же ars moriendi в соотношении с архетипами – это переживание человеком возрастного кризиса.
Моя история была такова, что мифологически я повторил некогда описанный каббалистический миф о грехопадении. Как написано в Сефер ха-Зоар29, после согрешения, душа Адама расщепилась на 600 тысяч частиц и каждая частичка, как и уничтоженная цельность, преподавалась в качестве отдельной души. На момент этого самодробления, мне было неведомо, что я грешу, нахожусь в тесной взаимосвязи с архетипами или чем-то подобным; мои действия были скорее интуитивными и полагаться мне приходилось на те знания, которые худо-бедно, но были как-то уложены в моей черепушке. Тогда я страстно увлекался практикой осознанных сновидений и вхождениями в некоторого рода трансы с полным отсутствием телодвижений. И вот, в одну из ночей, когда сон был не к чёрту, а интерес к трансцендентным сферам столь высок, мне удалось расколоть своё «Я» на множество, так сказать, «я». Эти крошечные «я» были чертами моего характера, которые мне было очень не просто принять. Можно даже сказать, я не принимал и не собирался их принимать, но в тот же момент понимал, что не выйдет избавиться от чего-то неприятного в себе, покуда последнему не будет объявлена битва в открытом поле. Так я и порешил сойтись в яростной схватке со своими отщеплениями. Число противников было невелико – всего двенадцать и каждый олицетворял какое-то качество: образы я обозначал то одиночеством, то гневом, страстью или же разнузданностью.
После «пробудившихся» образов, – эта дюжина была моим первым опытом и догадками, что внутри нас живёт какое-то определённое число архетипических сущностей, – мои практики «погружения» наотрез перестали получаться. Сколько-бы я не пробовал самоуглубиться, на меня либо нахлыновал сон, либо тело так и изнывало от желания дёрнуться, да нарушить медитативное сосредоточение. Вскоре я окончательно отпрянул от этих затей, перестал понапрасну насиловать своё мышление и позволил всему течь в своём темпе.
Посеянный внутри душевный разрыв соответствовал кризису, что в большинстве периодизаций приравниваем к границе между подростковым и юношеским возрастом. Тогда мне было около 17 – 18 лет и в пережитом кризисе, умерло моё старое «Я» и восстало новое. Реинкарнация ядра личности – это аналогичное перемене одних категорий мифов на другие; смене одного архетипического духа на своего сородича. Поскольку это был первый осознанно пережитый мною кризис, вместо смены архетипов у меня наступила скорее их активизация и вступление в свои законные права Животного начала. Во время кризисной пограничности во мне пала вся та неосознанно впитанная спесь, привитая уму в раннем детстве родственниками, друзьями и учителями. Выражаясь lingua sacra30 феноменологии, я сбросил с себя путы естественной установки31 и открылся для самостоятельного полагания своего бытия в мире. Погибель старых веяний освободила меня от шаблонного мышления и с причала эмансипированной мысли я отплыл на пакетботе в страну любви.








