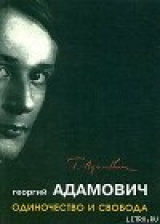
Текст книги ""Одиночество и свобода""
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Откуда вы все взяли? – вправе спросить кто-нибудь. Где это у Шмелева вообще, где это, в частности, в «Путях небесных»? Можно было бы ответить: везде, в замысле, в языке, в каждом случайном авторском замечании. Шмелев принадлежит к тем писателям, которые властно приглашают нас к умственному сотрудничеству, и додумывая его повествование, ища каких-либо реальных из него выводов, только к такому заключению и приходишь… Иного ключа к Шмелеву, мне кажется, нет: иначе его творчество оказалось бы пронизано фальшью… Добавлю, что иначе осталось бы необъяснимой и глубокая скорбность шмелевского вдохновения, не грусть, не печаль, а именно безысходная скорбь, разлитая в его книгах. Религиозное чувство само по себе есть прежде всего – чувство преодоления смерти. Казалось бы, у Шмелева оно должно привести к просветлению, к надеждам и обещаниям, – и вероятно, это было бы так, будь религиозное чувство у него свободно. Но оно густо окрашено в условно национальные тона, тесно связано с житейским укладом, с известным бытом и строем, и гибель оболочки оказывается, в конце концов, для Шмелева значительнее, нежели нетленность сущности. Смерть доминирует, и взгляд обращен назад, к воспоминаниям. Все искусство и все дарование художника направлено к тому, чтобы создать мираж и, вызвав из небытия исчезнувший мир, какой-то заклинательной волей водворить его на месте мира настоящего.
Даринька из «Путей небесных» отдаленно похожа на Катерину из «Грозы», хотя внутренняя тенденция образа противоположна той, которой наделил свое создание Островский.
Катерина пытается уйти оттуда, куда возвращается Даринька. В Катерине – основательно или нет, – многие у нас находили первые проблески женского протеста, а покойный Аким Волынский, если не ошибаюсь, даже сравнил ее со своевольными, горделивыми ибсеновскими героями. Даринька утверждает, как цель, как образец, именно то, отчего так называемые «новые женщины» отреклись: верность вопреки сердечному влечению, скромность, кротость, покорность судьбе. Родственна она Катерине лишь в страстном сознании долга, в волевом напряжении, в силе, скрытой под маской беспомощности. Как и Катерина, она могла бы по внутреннему складу быть одной из тех, кого жгли на кострах и травили дикими зверями на арене. Кончает Даринька монастырем. Бог должен – она в это не сомневается! – дать ей силы отвергнуть любимого человека и отказаться от счастья с ним. Счастье – «на пути земном», а она идет «путем небесным». Он, этот любимый человек, этот блестящий Дима Вагаев, волокита и донжуан, впервые в жизни действительно полюбивший, уйдет на войну… Все произойдет так, как должно случиться… в грустной, стройной, сладкой, прекрасной сказке о прекрасных, чистых и сильных сердцем людях, все будет, как бывает во сне, а не в жизни. Шмелев чувствует, что его герои не могли бы существовать в реальности, и отодвигает их для иллюзии на полвека назад. Но именно к ним обращен он душой, к ним и ко всей той простоте, цельности, строгости, к той бытовой и нравственной прелести, которые для него связаны со старой Россией. Только в России, нигде больше, это и могло произойти, – как бы восклицает он.
Здесь мы, конечно, далеки от «потненького графинчика», здесь Шмелев, наконец, как будто договаривается до мотивировки или объяснения… Но какая безнадежность в этом объяснении! Как страшна вообще эта скрытая, приглушенно-страстная борьба за прошлое, которое в исчезнувшей своей оболочке никогда возродиться не может и которое притом только в этой оболочке Шмелеву и дорого!
* * *
Конечно, из всех великих русских писателей Шмелеву самый близкий – Достоевский, и он многое у Достоевского заимствовал, многому у него научился.
Но не «жестокий талант», следовало бы сказать о нем, – как сказал Михайловский о Достоевском, – а «больной талант». Если прислушаться к напеву и строю шмелевской прозы, почти не вникая в ее непосредственный смысл, она кажется значительней, чем есть. Кажется, что она о чем-то ином, более глубоком и грозном рассказывает, иной, более глубокой страстью охвачена. Впечатление создается такое, что в процессе творческого развития произошло у Шмелева какое-то «искривление», задержавшее его рост, помешавшее ему стать тем, чем он стать мог бы. Интонация Достоевского, а дословный текст порой под стать цветным открыткам Самокиш-Судковской…
Над повествованием навис потолок, выше которого ему никак не подняться. И об этот потолок повествование бьется! Да, шмелевские герои почти всегда страдают.[3]3
А когда они не страдают, то становятся нестерпимы, – как нестерпимы романы, подобные «Солдатам». Шмелев становится самим собой, лишь когда темой своей «взят за горло», когда отсутствие вкуса, чутья и общей словесной культуры мало заметно. Иначе он способен написать так: «Голубовато-мраморная нога Люси, обнаженная до бедра, выкинулась за край постели, а роскошные руки-изваяния были замкнуты в истоме…» Это отрывок из «Солдат».
[Закрыть] Но, переняв или унаследовав от Достоевского его трагический, сдавленный, приглушенный, страдальческий «говорок», т.е. переняв тон Достоевского, Шмелев не заметил обоснования этого тона, и оттого страдание приобретает у него почти что физиологический характер. Он понял «достоевщину», а вовсе не Достоевского, он как рыба в воде чувствует себя в той атмосфере, которую создал Достоевский: жалость, обида, унижение, возмущение, бессильное, слишком позднее просветление, – но «метафизика» Достоевского, сомнения Ивана Карамазова, домыслы Кириллова, безысходная тоска Ставрогина, – все это полностью от него ускользнуло. Если мы спросим себя, из-за чего страдают шмелевские люди, что за их мучениями скрыто, каков смысл этого мучения, какой его духовный уровень, – от сходства с Достоевским не останется и следа. Нет ни «финальной гармонии», ни тяжбы с Богом, ни безумной по риску своему игры, есть следствие, но нет причины, есть нервы, но нет мысли, – а если мысль и пытается какой-то довод или ответ предложить, от ее очевидной несостоятельности становится тяжело.
Больной, искалеченный талант. Но за этим больным – и большим, подлинным талантом, – пылкая, требовательная, нетерпеливая душа, мимо которой никак не пройдешь с безразличием или скукой. «О, если бы ты был холоден или горяч…» вспоминает с содроганием и восхищением священные слова Степан Трофимович Верховенский, незадолго до смерти. «О, если бы ты был холоден или горяч, но поелику ты тепел…» Теплым Шмелев, во всяком случае, не был никогда: оттого-то с ним и хочется спорить, за это-то, должно быть, и простится ему многое.
БУНИН
Чехов когда-то сказал Бунину:
– Вот умрет Толстой, все пойдет к черту!
– Литература?
– И литература.
В последние годы возникло такое чувство по отношению к самому Бунину. «Вот умрет Бунин, все пойдет к черту…» Трудно было определить, что именно. «И литература», – так подчеркивал Чехов, говоря о Толстом, – но не только литература, а все то, чем она питается, движется, вдохновляется, все то, что она выражает и отражает.
Бунинские писания удивляют и почти что ослепляют ровным, сильным, ни на минуту не меркнущим блеском. Создается впечатление, будто свет физически присутствует во всех этих картинах и описаниях, да и в самом деле надо было бы когда-нибудь подсчитать, сколько в них световых эпитетов, световых образов!
Казалось бы, свет должен возникнуть и в сознании того, кто «Жизнь Арсеньева» или другие бунинские повести и рассказы читает. Казалось бы, читать и перечитывать Бунина должно быть радостно. А, как это ни странно, чувства охватывают скорей другие, или во всяком случае постепенно изменяются, темнеют, переходят в другие, не те, которыми были сначала, – как у Пушкина, когда он слушал первые главы «Мертвых душ» – веселость мало-помалу сменялась грустью. Но Пушкин вспомнил о России, вероятно, задумался о том, куда ведут и к чему Россию приведут все эти Чичиковы, Маниловы и Собакевичи. У Бунина темы тоже русские, но если мы и вспоминаем о России под впечатлением того, о чем он рассказывает, то никак не только о ней. Мысли возникают о чем-то больше, более широком: о нашем времени вообще, о его особенностях, о его характере. У Бунина в самом языке его, в складе каждой его фразы чувствуется духовная гармония, будто само собою отражающая некий высший порядок и строй: все еще держится на своих местах, солнце есть солнце, любовь есть любовь, добро есть добро. Когда читаешь писателя молодого, даже самого талантливого, наоборот, будто тащишься по ухабам и рытвинам. И дело тут не в отсутствии словесной плавности, не в синтаксисе, не в каких-либо синтаксических особых пристрастиях, а в том, что молодой писатель бредет по жизни впотьмах, наощупь, и в сущности, чем он даровитее, чем дальше он проникает, тем тьма, его обступающая, становится гуще. Именно бездарные молодые писатели, ничего не чувствующие, мало что понимающие, пишут сейчас безмятежно легко и гладко, – и если вглядеться, соскальзывание к ухабам началось у нас давно, с исчезновением Пушкина, последнего или даже единственного нашего поэта без тех «трещин», которые после него обнаружились сразу, с обеих сторон, у обоих его великих преемников – Гоголя и Лермонтова. 29 января 1837 года – роковая и глубоко загадочная дата в нашей истории, с бесконечно длительными в ней отзвуками.
Чеховские слова о Толстом – отголоски того же, длящегося и постепенно обостряющегося чувства. То же само чувство сплетается с впечатлением от чтения Бунина, и с особенной силой обнаруживается после его смерти. Ошибочно или нет – как знать? – хотелось бы назвать его «последним». Что дальше? Дальше все несется, все летит если и не к «черту», то к неизвестному будущему, и смущает, пугает нас это будущее не потому, чтобы мы совершенно твердо были уверены в его неприглядности, бесчеловечной сущности, нет, а потому, что в игру этого будущего врываются элементы, от нашего контроля ускользающие, что мы не знаем, где и как оно вновь утрясется, где найдет основание для нового движения культуры, творчества, самой жизни в конце концов. Сейчас, в наши малоблагополучные времена, эти недоумения, эти болезненные сомнения обступают человека со всех сторон и, конечно, вовсе не одного только человека русского.
Бунин у нас, в нашей литературе – последний, бесспорный, несомненный представитель эпохи, которую мы не напрасно называем классической, как бы ни был растянут и зыбок смысл этого слова. Классическая, т.е. хранящая какое-то равновесие, еще не скатившаяся к всесмешению, безразличию и безрассудству, еще не заигрывающая с откровенным и явным безумием, не поглядывающая на него с блудливо-растерянно-заискивающей улыбкой. Как трудно все это точно и толково объяснить, если только действительно надо тут что-либо объяснять, если не все ясно тут с полуслова! Остановит ход времени нельзя, и тянет иногда сказать: «Да будет то, что будет!» Но Бунин-то этого сказать не был склонен, он твердо стоял на своем, он не сдавался, и подчеркивая это, я вовсе не то имею в виду, что он мог иногда ни с того, ни с сего «изничтожить» Блока или в сердцах причислить Пастернака к прирожденным идиотам. Нет, эти его пристрастия, эти выпады не так важны, хотя, конечно, они не случайны (за ошибочной, пусть даже близорукой оценкой скрыта была здесь разница в коренном отношении к поэзии, в общем «мироощущении» – как у Толстого, в «Что такое искусство», где оценки чудовищно несправедливы, а основной, общий взгляд глубок и в самой спорности своей много ближе к подлинному искусству, чем рассуждения любого критика, беспрепятственно-понимающего и авторитетно-анализирующего любые модернистические тонкости). Нет, имею я в виду не мнения и вкусы Бунина, а его истинное творчество, его вдохновенные, светящиеся солнцем прозаические поэмы, в особенности поздние. Именно в них отражено то, что на наших глазах исчезает: строй, смысл, значение, порядок… Из круга, в них очерченного, страшно выйти, а между тем вечно в нем жить нельзя, круг суживается, границы его стираются, и что же дальше, что за ним? От этого-то вопроса и сжимается сердце. Что дальше? Чем все это будет заменено? На Бунина мы оглядываемся, будто идя куда-то «в ночь», по слову Фета, и почти что «плачем, уходя». Правда, там, у Фета сказано об «огне, просиявшем над целым мирозданием» – кстати, что Фет имел в виду: христианство? – а здесь не то. Однако и здесь – предчувствие грозной неизвестности, последняя перед ней задержка, последняя станция. Поезд как будто перескакивает на другие рельсы, и мчится только, чтобы мчаться, без уверенности, что есть цель, что не впереди обрыва.
Классический период русской литературы, великий русский девятнадцатый век: сколько в этих словах еще не вполне раскрытого значения, не вполне понятого содержания! Бунин сложился, вырос, окреп в веке двадцатом, но весь еще был связан с тем, что одушевляло прошлое. Оттого, бывая у него, глядя на него, слушая его, хотелось наглядеться, наслушаться: было чувство, что это последний луч какого-то чудного и ясного русского дня. Все встречавшиеся с Буниным знают, что он почти никогда не вел связных разговоров, в особенности разговоров на отвлеченные темы. Но как бывают глупые беседы о самых глубокомысленных вопросах и предметах, так бывает и вся пронизанная умом, полная содержания речь о пустяках. Очаровывала у Бунина чудесная меткость каждого слова, сверкание и сияние одареннейшей, щедрой и сознающей свою щедрость натуры. Собеседник улыбался, недоумевал, восхищался, соглашался, возражал, но при этом не мог не сознавать: все, что слышит он, – частица лучшего, что в России было. В последний раз была возможность подышать воздухом, в котором расцвело все, бывшее славой, оправданием, а может быть даже и сущностью России.
* * *
Бунин принадлежит к тем писателям, о которых говорить и писать трудно: черта, ни в какой мере не определяющая размеров дарования, имеющая отношение лишь к его особенностям и характеру.
В самом деле, спор о том, кто «выше», Пушкин или Лермонтов, Толстой или Достоевский – спор вполне бессмысленный, и втягиваемся мы в него только по нашей человеческой слабости, по неискоренимой любви к сравнениям и сопоставлениям. Совершенно ясно, однако, что о Достоевском легче говорить и писать, чем о Толстом, о Лермонтове легче, нежели о Пушкине, – при условии, конечно, чтобы слова не были пустой болтовней. У Достоевского или у Лермонтова – хотя у Лермонтова далеко не столь заметно, – мысли самые мотивы творчества лежат на его поверхности, у них чуть ли не на каждой странице есть за что зацепиться, что продолжить, на что непосредственно ответить. У Пушкина или у Толстого, – в особенности у Толстого до так называемого «перелома», – концы спрятаны в воду, все закруглено, нет повода к дальнейшим, уже нашим, читательским рассуждениям. Где больше ума – в «Карамазовых» или в «Войне и мире», решить невозможно, и еще раз: решать было бы бессмысленно. Но об одном разговоре Ивана с Алешей, предшествующем «Легенде о Великом Инквизиторе», написаны тысячи и тысячи страниц, а вокруг «Войны и мира» мы ходим в каком-то недоумении, чувствуя, что в глубине этого создания скрыто все, что есть в жизни, но не в силах почти ничего извлечь наружу.
Бунин, разумеется, – художник пушкинско-толстовского склада. Он не задевает мысли, вернее – не дразнит ее, не раздражает, не «провоцирует» ее. Мысли предстоит большая работа над его повестями и рассказами, но работа, так сказать, добровольная, не вынужденная самим характером бунинских книг и их тем. Бунин никогда не умничает, и в этом следует Толстому, – в противоположность наследникам Достоевского, который при личной своей глубине и гениальности породил целую плеяду беллетристов, лишь играющих в глубину и гениальность, и который в этом смысле ответственен за Леонида Андреева и других. Бунин умен в своем остром и беспощадном взгляде на мир, а вовсе не в выдумывании вопросов, «проблем», без которых огромное большинство людей жило, живет и будет жить. Его творчество можно и надо бы – осмыслить в целом, но на бесплоднейший труд обрек бы себя тот, кто пожелал бы это творчество разобрать по темкам и сюжетикам, с соответствующими цитатами для каждого случая и реестром возможных ответов на ту или иную мировую загадку.
* * *
В старину критики спрашивали: что писатель хочет сказать? – и если сейчас нам этот вопрос кажется смешным и наивным, то скорей из-за его упрощенной, прямолинейной формы, чем по существу. Что хотел сказать Бунин своими повестями и рассказами? Не что хотел он доказать – как когда-то люди утверждали, что Тургенев писал «Записки охотника» с целью доказать вред и несправедливость крепостного права, – а что может он нам дать, чем может нас обогатить, что может внушить или даже открыть?
Фабулу отдельной бунинской повести передать очень легко. Содержание передать очень трудно. В основе этого содержания, объединяющего все, что Буниным написано, – лежит вечный общечеловеческий вопрос: кто я? откуда я вышел? куда я иду? – и с изумлением перед непостижимостью ответа на этот вопрос соединяется благодарная уверенность, что «пустой и глупой шуткой» жизнь наша в целом быть не может.
В «Жизни Арсеньева» двойная, двоящаяся тема эта звучит широко и полно. Но проходит она и через длинный ряд маленьких рассказов, тех, главным образом, которые написаны в последние десятилетия.
Вот в каирском музее Бунин смотрит на коллекцию скарабеев – «триста штук чудесных жучков из ляпис лазури и серпантина».
«Вся история Египта, вся жизнь его за целых пять тысяч лет… Да, пять тысяч лет жизни и славы, а в итоге – игрушечная коллекция камешков! И камешки эти – символ вечной жизни, символ воскресения! Горько усмехаться или радоваться? Все-таки радоваться! Все-таки быть в том, во всем неистребимом, и самом дивном на земле, что и до сих пор кровно связывает мое сердце с сердцем, остывшим несколько тысячелетий тому назад… с человеческим сердцем, которое в те легендарные дни так же твердо, как и в наши, отказывалось верить в смерть, а верило только в жизнь. Все пройдет – не пройдет только эта вера!»
На могиле революционной Богини Разума, давно всеми забытой Терезы Анжелики Обри, на Монмартрском кладбище, в Париже:
«Что мы знаем? Что мы понимаем, что мы можем?
Одно хорошо: от жизни человечества, от веков, поколений остается на земле только высокое, доброе и прекрасное, только это. Все злое, подлое и низкое, глупое в конце концов не оставляет следа: его нет, не видно. А что осталось, что есть? Лучшие страницы лучших книг, предание о чести, о совести, о самопожертвовании, о благородных подвигах, чудесной песни и статуи, великие и святые могилы, греческие храмы, готические соборы, их райски-дивные цветные стекла, органные громы и жалобы…»
Из рассказа «Музыка»:
«Что же это такое? Кто творил? Я, вот сейчас пишущий эти строки, думающий и сознающий себя? Или же кто-то, сущий во мне, помимо меня, тайный даже для меня самого и несказанно более могущественный по сравнению со мною, себя в этой обыденной жизни сознающим?»
Цитаты можно было бы продолжить бесконечно. Везде – тот же вопросительно-восторженный и какой-то горестно-сладостный, скорбно-славословящий тон. Есть в нем что-то и от библейской «суеты сует», и от соловьевского вызова смерти: «Бессильно зло. Мы вечны. С нами Бог!» Что хотел сказать Бунин – в тех рассказах, из которых я привел выдержки: в «Митиной любви», в «Солнечном ударе», в «Косцах», в «Иудее», наконец, в «Жизни Арсеньева», где печаль и ликование без остатка сплавлены в единое целое? Перевод поэзии на логический язык неизбежно искажает и обедняет ее, но если все-таки на такую операцию решиться, перевод свелся бы приблизительно к следующему: в существовании нашем могут быть какие угодно несчастья, народы, государства могут гибнуть, цивилизации исчезать, но над нами есть небо, вокруг нас есть красота, одушевление и величие земной природы, и достаточно почувствовать свою связь с миром, чтобы верить и знать, что, в конечном счете, ничего дурного с человеком не будет. От любви к жизни исчезает страх перед ней, личная боль каждой отдельной участи растворяется в общем счастье существования, и именно так, при взгляде на синее небо, в лучах доброго солнца, карамазовские духовные бунты со «слезинками замученного ребенка» превращаются в книжные домыслы! В одной малоизвестной книге о Пушкине, изданной лет двадцать пять тому назад в Белграде, – «Пушкин и музыка» Серапина – есть замечание о его поэзии, одно из немногих верных и метких слов, которые о Пушкине в последнее время вообще были сказаны: Пушкин – это «трагический мажор». Едва ли и склад бунинского творчества можно было бы определить точнее.
Очень долго – и надо признать, что не без основания – Бунина считали темным, скорбным писателем. Действительно, «Деревня» – едва ли не самая мрачная, самая печальная – и притом какая-то душная – книга в новой русской литературе. О «Жизни Арсеньева» было сказано – и справедливо сказано, – что это плач об исчезнувшей России, о той России, которую Бунин любил и которой, по его убеждению, не суждено возродиться. Это оценки и замечания верные, но верные лишь до известной степени, «постолько-посколько», и с каждым новым бунинским произведением становилось яснее, что внешнюю их оболочку и окраску не следует смешивать с их сущностью. Даже больше: с каждым новым произведением оболочка становилась все прозрачнее, все слабее и меньше скрывая сущность.
Удивительно, что эта растущая, недоуменная восторженность, этот «восторг бытия» охватил Бунина лишь во второй половине его жизни. Обыкновенно бывает наоборот; недоумевает, восхищается и трепещет юноша, а затем, с годами, человек если не совсем успокаивается, то безвозвратно теряет свежесть сердца, и во всякого рода заботах, расчетах, сделках с умом и душой, «средь лицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы» погружается в бытие, уже не тревожась и не думая о его таинственной сущности. Бунин же помолодел к зрелости. Он долго глядел на мир, длительно и пристально вглядывался в него, – и только после этого сказал: «Что мы знаем? что мы понимаем? что мы можем?»
Почему это так, каковы были причины этого явления – не знал, конечно, и сам автор. Но не сыграла ли какой-то роли революция, та страшная встряска, которой она для всех русских людей была? По-своему, и даже при отсутствии всякого призвания и склонности к политической деятельности, каждый должен был ей как-то ответить. Каждого она заставила о многом задуматься, каждого вернула к «сути вещей», к основным вопросам и явлениям существования. Бунин, кажется, помолодел, окреп именно ей в ответ, отказавшись признать себя побежденным, обратившись от временного и преходящего к тому, что времени и смерти не подвластно.
* * *
О том, с какой прелестью и силой Бунин описывает природу, давно сказано все.
Отметил ли кто-нибудь, однако, что при несомненно здоровом и «мажорном» складе своей творческой натуры Бунин по-настоящему оживлялся лишь в отражении природы пронзительно-меланхолической, со следами тютчевской «возвышенной стыдливости страдания»?
Да, он великолепно опишет какую-нибудь весеннюю ночь с соловьями и ландышами, с ароматами и трелями, с желанием все в себя вместить и во всем раствориться. Еще великолепнее – знойный летний полдень. Однако несравненное его мастерство полностью обнаруживается лишь в какой-нибудь одинокой прогулке по сквозному, голому лесу, с холодновато-бледной синевой над ним, или под шум проливного дождя, вторящего митиному отчаянию. Природа сочувствует человеку и вместе с тем ищет сочувствия у него. Это не пушкинская «равнодушная природа», сияющая «вечной красой», и не лермонтовские «торжественные и чудные небеса» над кем-то, кому «больно и трудно»… это слияние, соединение, продолжение одного в другом.
Слово «описание», впрочем, в применении к Бунину – не совсем точно. Про другого художника, и даже очень большого, как, например, про Тургенева, – можно сказать, что он изображает людей вперемежку с описаниями природы. У Бунина разделения нет. Человек у него представляет собой острие, а природа представляет собой основание одной и той же сущности.
Замечателен в этом отношении «Сосед», совсем короткий рассказ, написанный лет тридцать тому назад. В нем слияние внутреннего и внешнего таково, что уже не знаешь, где кончается одно, где начинается другое.
* * *
Никто еще в русской литературе так не писал…
Зная по опыту, как часто случается быть неверно понятым, хочу тотчас пояснить эти свои слова: находясь в здравом уме и твердой памяти, я не утверждаю, конечно, что книги равной по значению «Жизни Арсеньева» или любому другому произведению Бунина, никогда у нас не было. Сам Иван Алексеевич, с его чутьем ко всякой лжи и фальши, наверное возмутился бы, если бы кто-нибудь в припадке глупой лести сказал ему, что он «больше» Пушкина, или Гоголя, или Толстого. Но он не возмутился бы – и был бы прав, если бы ему сказали, что так, как пишет он, никто по-русски до сих пор не писал, что не книга в целом, а отдельная страница его книги есть непревзойденный образец словесного мастерства, изобразительности, силы, правды… Не легко найти слово, которое бунинский язык, бунинский стиль определило бы. «Блестящий» – совсем не то. Некоторые критики пользуются словом «сочный»: отвратительный эпитет, будто стиль – это ананас или груша, и уж, конечно, в применении к Бунину, тоже – совсем «не то»! Слово «волшебный», ничего в сущности не значущее, пожалуй, все-таки ближе. Есть, например, в «Жизни Арсеньева» страница или даже полстраницы, где Бунин рассказывает, как герой приезжает зимним вечером в захолустный губернский город: этот снег, эта глушь, эти первые слабые звезды, эти молчаливо гуляющие парочки, – все это – именно волшебство, иначе не скажешь! Это не описание, а воспроизведение, восстановление. Бунин как будто называет каждое явление окончательным, впервые окончательно найденным, незаменимым именем, и не блеск у него поражает, а соответствие каждого слова предмету и в особенности внутренняя правдивость каждого слова.
Кто у нас так писал? Толстой сам признал, что ни он, ни Тургенев. Конечно, утверждений категорических в этой области быть не может. Каждый пишет по-своему, и некоторые толстовские страницы тоже ни с какими другими нельзя сравнивать. Но они – в ином духе и роде, к ним неприменимо чисто стилистическое мерило… Рядом с бунинскими картинками естественно было бы вспомнить, пожалуй, только Лермонтова, ту его «Тамань», о которой Бунин никогда не мог говорить без восхищения и волнения.
* * *
Один молодой английский писатель, знающий русский язык, на вечере памяти Бунина в Лондонском отделении Пэн-клуба сказал приблизительно следующее:
– Я никогда не был в России. Дореволюционных времен я по возрасту не помню… Но читая «Деревню» или «Суходол», я не сомневался, что все в этих повестях рассказанное – правда. Это так написано, что не может правдой не быть. Правда – в каждом слове.
Лучшей похвалы писателю, пожалуй, не найти. Самому Бунину слова молодого, неведомого ему иностранного читателя доставили бы, вероятно, истинное удовлетворение.
Творческая, художественная правдивость – самая характерная черта Бунина. В частности, при коренной, глубокой своей «русскости», он не выносил ничего демонстративно и вызывающе российского, ничего показного и назойливого. Его мутило от неискоренимой русской заносчивости, и из-за этого он бывал иногда несправедлив в своих оценках и суждениях, – как, по-моему, был не совсем справедлив к Шмелеву, у которого видел только ненавистный ему, тошнотворный для него, маскарадный и аляповатый style russe, ничего больше. Но даже и на эту несправедливость он, пожалуй, имел право, ибо правдивостью, верностью взятого тона восходил к лучшим русским художественным и моральным традициям. Однажды помню, с возмущением опровергая чье-то утверждение, что Толстой будто бы любил и ценил – хоть и с оговорками – писания Горького, он, содрогаясь, сказал:
– Толстой, у которого за всю жизнь, во всех его книгах не было ни одного фальшивого слова!..
В этом смысле он считал себя учеником Толстого, и в сущности не прочь был бы отослать на выучку к нему всех других писателей.
Что влекло его к Толстому, помимо преклонения перед толстовским художественным гением? У Бунина был, что называется, острый язык, и нет, кажется, ни одного современника, о котором он нет-нет да и не отозвался бы насмешливо, хотя бы только вскользь, и не придавая насмешке большого значения. Даже о Чехове, которого он любил и чтил, Бунин порой вспоминал лишь для того, чтобы рассказать что-либо смешное и скорей мало привлекательное. О Толстом он неизменно говорил с какой-то дрожью в голосе, совсем особы тоном. Да и писал он о нем иначе, нежели о каком-либо другом человеке.
Не знаю, есть ли в огромной литературе о Толстом что-либо значительное, красноречивое и, при всей внешней незамысловатости, что-либо более глубокое в интуитивном понимании того, что с Толстым в старости происходило, чем бунинский рассказ о последней встрече с ним:
«В страшно морозный ветер, среди огней за сверкающими, обледенелыми окнами магазинов, я шел по Арбату – и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной, подпрыгивающей походкой прямо навстречу мне.
Я остановился и сдернул шапку. Он тоже приостановился и сразу узнал меня:
– Ах, это вы! Здравствуйте, здравствуйте. Надевайте, пожалуйста, надевайте шапку… Ну, как, что, где вы и что с вами?
Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязаное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечий шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и ласково пожал мою, опять глядя мне в глаза горестно, с поднятыми бровями:
– Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания…»
Толстому в этот вечер было очень холодно. От мороза лицо его «имело несчастный вид». Но, право, без всякой риторики и громких слов, тут, за этим эпизодом открывается нечто другое, гораздо большее, и слово «горестно», повторенное много раз, едва употреблено Буниным в его воспоминаниях случайно.
В толстовском творчестве Бунину представлялась чертой самой важной, основной, прекрасной и существенной неизменная основательность замысла. Для таких людей, как Владимир Соловьев или, – ближе к нам, – Мережковский, в Толстом было «мало духа». Мережковский в общении с Толстым «задыхался», страдал от отсутствия того особого, позднеромантического, разреженного, леденящего эфира, которым он, как многие новые люди его склада, только и мог дышать, и который в таком изобилии разлит у Достоевского. Соловьев, весь погруженный в свои видения, всегда витающий в «нездешнем», тоже изнемогал от толстовских запахов, красок, звуков, влечений, от той связи с землей, которой проникнута каждая толстовская строка – и в отталкивании от всего этого, в раздражении от этого, договорился в «Трех разговорах» до явной нелепости: предсказал, что одно из забавных, но довольно-таки ничтожных сатирических стихотворений Ал.Толстого – «Камергер Деларю» – будет жить еще и тогда, когда «Война и мир» с «Анной Карениной» окажутся забыты.






