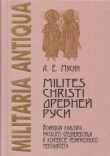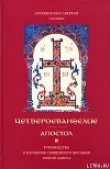Текст книги "Пути Русского Богословия. Часть I"
Автор книги: Георгий Протоиерей (Флоровский)
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
«Восстание» вспыхнуло в 1824-м году. Филарет так вспоминал о нем. «Восстание против министерства духовных дел и против Библейского общества и перевода священных книг образовали люди, водимые личными видами, которые чтобы увлечь за собою других добронамерных, употребляли не только изысканные и преувеличенные подозрения, но и выдумки и клеветы…»
Нет нужды много говорить об участии в этой интриге Аракчеева. Для него это был сходный повод и средство удалить от власти и правительственного влияния соперника, сильного личной связью с Государем…
Предлогом и поводом к решительным действиям был взят русский перевод книги Госнера «О Евангелии от Матфея» (в немецком подлиннике книга называлась: Geist des Lebens und der Lehre Jesu Christi, in Betrachtungen und Bemerkungen ueber das ganze Neue Testament, IBd., Matthaus und Marcus). Это был только повод, так как сама книга ничем не выделялась из ряда многочисленных тогдашних назидательно-пиетических изданий. Фотий несколько раз писал Государю об опасности, вполне в лихорадочном стиле. Он писал в сознании и убеждении, что послан и посвящен во свидетельство, на защиту осажденной Церкви и отечества. В Вербное воскресенье был послан к нему Ангел Божий, – предстал ему во время сна, имел в руке книгу разгнутую, а по ней было сверху начертано в ряд: «сия книга составлена для революции и теперь намерение ея революция». Оказалось, то было «Воззвание к человекам о последовании внутреннему влечению Духа Христова» (перевод с французского, вышел еще в 1820-м году; переводчик, И. И. Ястребцов, служил в Комиссии духовных училищ, правителем дел). «Весть к отступлению от веры Христовой и к перемене гражданского порядка по всем частям», так Фотий определяет основную идею этой лукавой и нечестивой книжицы…
«Революция» была единственным доводом, которым еще можно было поколебать «двойное министерство» в глазах Александра I, – Фотий прямо об этом говорит: «на него таковое политическое действие и умышление больше имело влияния, нежели самое благо Церкви всея…» В религиозном отношении Александр был вряд ли не радикальнее самого Голицына…
Фотий свидетельствовал. «Пребывая в сем граде полтора месяца, я вслед за Госнером тайно назирал и узнал, что он для приуготовления революции умы вызван учить и всячески так огражден, что никто не смеет его и коснуться: он вызван потому, что из нашего духовенства правоверного никого не нашлось способного к умыслам…»
Письма Фотия заинтересовали Государя именно своим истерическим апокалиптизмом. Потому и захотел он видеть Фотия лично. Перед тем был у него митр Серафим…
После аудиенции у Государя Фотий дважды встречается с Голицыным, и на втором свидании его проклинает…
«Фотий стоит у святых икон: горит свеща, святые тайны Христовы предстоят, Библия раскрыта (Иерем. XXIII глава). Входит князь и образом яко зверь рысь является (Иерем. гл. V, ст. 6 [51
[Закрыть]] ); протягивает руку для благословения. Но Фотий ему не давая благословения, говорит тако: в книге «Таинство креста» под твоим надзором напечатано: духовенство есть зверь, а я Фотий из числа духовенства есмь иерей Божий, то благословить тебя не хощу, да тебе и не нужно оно (дал ему прочитать Иерем. гл. XXIII). Но кн. Голицын не хотел и убежал, но Фотий в след растворенной двери закричал: если не покаешься, то попадешь в ад…»
Так рассказывает сам Фотий. Шишков в своих «Записках» прибавляет: «Фотий в след ему кричал: анафема! да будешь проклят…»
В этот же день был дан рескрипт о высылке Госнера заграницу и о сожжении русского перевода его книги рукою палача, с тем чтобы переводчики и цензоры были преданы суду…
Фотий очень боялся гнева царева за свою дерзкую анафему, но продолжал посылать во дворец свои воззвания, – одно с изложением как «плана разорения России», так и «способа оный план вдруг уничтожить тихо и счастливо». Вопрос о Библейском обществе здесь был поставлен со всей остротой. «Библейское общество уничтожить под тем предлогом, что уже много напечатано Библий, и оно теперь не нужно…» Министерство духовных дел упразднить, а другие два отнять от настоящей особы… Кошелева отдалить, Госнера выгнать, Фесслера изгнать и методистов выгнать, хотя главных…
И Фотий снова ссылается на вдохновение. «Провидение Божие теперь ничего более делать не открыло. Повеление Божие я возвестил: исполнить же в Тебе состоит. От 1812 года до сего 1824-го ровно 12 лет. Бог победил видимого Наполеона, вторгшегося в Россию. Да победит Он духовного Наполеона лицем твоим…»
В ближайшие дни затем Фотий и еще не раз писал и пересылал свои взбудораженные «хартии» к Государю. «Тайна беззакония великая, страшная деется, я и открываю тебе, о, сильный крепостию и духом Божиим…»
Цель была достигнута. 15-го мая 1824-го года Голицын был уволен, «сугубое министерство» упразднено и разделено по-прежнему. Впрочем, Голицын не впал при этом в немилость, и личного влияния не потерял, даже и после смерти Александра. Министром отделенного министерства народного просвещения был определен престарелый адмирал Шишков, – «вырыли из забвения полумертвого Шишкова». И Шишков, хотя уже и не был министром духовных дел, по инерции продолжал политику «сугубого министерства», только с обратного конца, и настойчиво вмешивался в дела Синода…
Религиозные воззрения самого Шишкова не отличались большой определенностью. Это был сдержанный вольнодумец XVIII-го века, ограничивавший свой рационализм только народно-политическими сооображениями. Даже по свидетельству лиц, к нему расположенных и близких, был он причастен «мнений, подходящих близко, если не совершенно следующих социнианству». Фотий о нем выражается уклончиво: «Церкви православной ревнитель, поколику имел сведения…» Фотий хорошо знал, что эти «сведения» были очень скудными, и относились больше к положению Церкви в государстве, где она призвана быть опорой и оплотом против мятежа и революции…
Однако, по Библейскому делу у Шишкова было свое и очень твердое мнение. Для него сама мысль о переводе Библии представлялась злейшей ересью, – но это была, прежде всего, «литературная ересь» (по остроумному замечанию Свербеева). Ибо Шишков отрицал само существование русского языка, – «как будто бы некий особый», говорил он в недоумении. «У нас славянский и русский язык один и тот же, он различается только на высокий и простой», – это была основная религиозно-филологическая теза Шишкова. Литературный или разговорный русский язык, в его представлении и понимании, есть «только простонародное наречие» единого славено-русского языка. «Чтож такое русский язык отдельно от славянского? Мечта, загадка!.. Не странно ли утверждать существование языка, в котором нет ни единого слова…» Ибо словарь в обоих стилях или «наречиях» один и тот же. «Мы не иное что под славенским языком разумеем, как тот язык, который выше разговорного и которому, следственно, не иначе можно научиться, как из чтения книг; он есть высокий, ученый, книжный язык». В последнем счете Шишков различает два языка: «язык веры» и «язык страстей» – или «язык Церкви» и «язык театра». Библейский перевод и представлялся Шишкову «перекладкою» Слова Божия с наречия высокого и важного на этот низкий стиль, на этот язык театра и страстей. Это было умышленным умалением священного достоинства Библии, думал он. Отсюда именно все его хлопоты «о наблюдении православия в слоге». И к тому же перевод был сделан небрежно («был брошен нескольким студентам академии, с приказанием сделать оный как можно скорее»). Отступление русского перевода от славянского наводит тень на этот привычный и освященный церковным употреблением текст, внушает к нему недоверие. «Гордость какого-нибудь монаха или хвастуна ученого скажет: так по-еврейски. Да кто меня уверит, что он знает всю силу еврейского столь мало известного языка, на котором писано сие в столь отдаленные веки». Он имел в виду при этом вряд ли не самого Филарета…
Довольно часто Шишков выражается так, точно именно славянский язык был оригинальным языком Священного Писания: «как же дерзнуть на перемену слов, почитаемых исшедшими из уст Божиих…»
В этих религиозно-филологических рассуждениях Шишков был не один. Любопытно, что вполне отрицательно к русскому переводу отнесся и Сперанский, и по схожим мотивам. Язык и ему показался «простонародным», не столь выразительным и точным. Не лучше ли было бы приучить всех к славянскому языку?..
Дочери Сперанский советовал в трудных случаях обращаться к посредству английского перевода, но не русского. Подобным образом рассуждали и многие другие (срв., напр., у барона Штейнгеля, декабриста, о русской Библии: «подрывает доверие к одной из священных книг, чтомых в Церкви»)…
Особый умысел Шишков открыл еще в том, что к выпуску был приготовлен отдельный том Пятокнижия Моисеева, «отдельно от книг пророческих». В действительности, это был первый том полной русской Библии, предназначенный к выпуску прежде томов последующих, для скорости. Шишков догадывался, – не с тем ли это задумано и сделано, чтобы подтолкнуть простой народ к совращению в ересь молоканскую или просто в иудейство. Как бы не понял кто обрядового закона Моисеева в буквальном смысле, в частности, установление субботы, – не следует ли оговорить, что все это только прообразы и прошедшие тени…
С поддержкой митр. Серафима Шишкову удалось добиться, чтобы это русское Пятокнижие было сожжено, на кирпичных заводах Невской лавры. Впоследствии и Филарет Киевский с содроганием и ужасом вспоминал об этом истреблении Священных книг…
Шишков не видел никакой нужды распространять Библию среди мирян и в народе, – «может ли мнимая надобность сия, уронив важность Священных Писаний, производить иное, как не ереси и расколы…»
Не унизительно ли будет для Библейского достоинства иметь Писание в домах…
«Что же из этого последует?.. Употребится страшный капитал на то, чтобы Евангелие, выносимое с такой торжественностью, потеряло важность свою, было измарано, изодрано, валялось под лавками, служило обверткою каких-нибудь домашних вещей, и не действовало более ни над умами, ни над сердцами человеческими». И даже еще решительнее: «чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить отечество и произвести в нем междоусобия и бунты». Шишков верил, что Библейское общество и Революция есть одно…
Вполне последовательно, Шишков возражал и против перевода на другие языки: татарский, турецкий, – кто же поручится за верность перевода…
Шишков опасается и толкования Библии. Кто же будет объяснять Писание, когда эти книги станут так распространены и доступны? «Рассеиваемые повсюду в великом множестве библии и отдельние книги священного писания, без толкователей и проповедников, какое могут произвести действие. При сем необузданном и, можно сказать, всеобщем наводнении книгами священного писания, где найдут место правила апостольские, творения святых отцов, деяния священных соборов, предания, установления и обычаи церковные, одним словом – все, что доселе служило оплотом православию… Все сие будет смято, попрано и ниспровергнуто…»
С той же точки зрения Шишков усматривал злостное покушение в издании «Катихизиса», – к чему было так много экземпляров печатать, как не для распространения нечистой веры (отпечатано было всего 18.000 экз.)…
Всего больше Шишкова пугал здесь опять-таки русский язык. «Неприлично таковым молитвам, как Верую во единого Бога и Отче наш, быть в духовных книгах переложенным на простонародное наречие». Катихизис, составленный Филаретом, (первоначально поручение дано было митр. Михаилу) был выпущен с одобрения Синода и по Высочайшему повелению в 1823-м году. В конце 1824-го, «по отношению министра Просвещения», и под прикрытием Высочайшего имени, Катихизис был изъят из продажи. Кстати, и тексты Писания были приведены в Катихизисе по-русски. Против этого изъятия Катихизиса сразу же заявил протест Филарет, и открыто поставил вопрос о православии. «Если сомнительно православие катихизиса, столь торжественно утвержденного Святейшим Синодом, то не сомнительно ли будет православие самого Святейшего Синода…»
Митр. Серафим в своем ответе Филарету настаивал, что вопрос о православии не подымался, и о православии никакого сомнения и спору нет. Остановлен де катихизис только из-за языка текстов и «молитв». И Серафим продолжает, но не без двоящихся мыслей. «Вы спросите, почему русский язык не должен иметь места в катихизисе, а наипаче кратком, который предназначен для малых детей, незнакомых вовсе с славянским языком, а потому неспособным понимать истин веры, которыя излагаются им на языке сем, тогда как он, т. е. русский язык, доселе удерживается в священных книгах Нового Завета и в Псалмах. На сей и на многие другие вопросы, которые по сему случаю сделать можно, я удовлетворительно ответствовать Вам никак не могу. Надеюсь, что время объяснит нам то, что теперь нам кажется темно. А время сие скоро, по моему мнению, настанет…»
Этот ответ мог означать и то, что к новому ходу дел Серафим лично и активно непричастен, и то, что кажущаяся непоследовательность будет вскоре устранена распространением запрета и на русский Новый Завет, и на само Библейское Общество. Во всяком случае, Серафим говорил прямую неправду, отрицая, что ставился вопрос о православии Катихизиса. Фотий прямо и открыто обзывал его еретическим, сравнивал его с «канавной водой», и противопоставлял Катихизису давнее «Православное Исповедание». Кстати, именно в это время «Православное Исповедание» было переведено вновь, под смотрением лично близкого к Фотию князя С. А. Ширинского Шихматова (вскоре иеромонаха Аникиты), – однако, перевод был остановлен духовно-цензурным комитетом, по заключенно о. Гер. Павского. Если и не официально, то официозно и Катихизис был подвергнут разбору, – кажется, этот разбор был поручен прот. И. С. Кочетову, тогда законоучителю Царскосельского лицея (1790–1854, из магистров I го курса Петербургской академии, был впоследствии настоятелем Петропавловского собора), и заключение было дано скорее не в пользу катихизиса. Кочетов интересовался больше вопросами языка, чем богословием, и как филолог был членом Российской академии с 1828 года, а потом ординарным академиком (срв. его рассуждение «О пагубных следствиях пристрастия к иностранным языкам», в духе Шишкова, который и ввел его в академию)…
Очень критически отнесся к Катихизису и митр. Евгений, вызванный в то время к присутствию в Синоде. Симеон Крылов-Платонов, преемник Филарета в Твери и в Ярославле, называл Катихизис презрительно «книжонкой» и находил в ней неслыханное учение и «нестерпимую дерзость…»
Во всяком случае, обращение Катихизиса было восстановлено только в новом издании, после внимательного пересмотра, причем, все тексты и цитаты «вместо российского наречия предложены по-славянски», и сам язык изложения был нарочито приближен или приспособлен к славянской речи. Изменение в содержании были на этот раз, впрочем, только незначительные…
Шишков добивался от имп. Александра запрещения русских переводов и закрытия самого Библейского общества. Одни доводы он сам изобретал, другие ему подсказывались ревнителями, как Магницкий или А. А. Павлов (состоявший тогда за обер-прокурорским столом в Синоде, «славный воин 1824-го года, как его называет Фотий)…
С Шишковым заодно действовал и митр. Серафим. Впрочем, митрополит действовал больше под внушением. Человек не смелый, Серафим не имел «достаточной светлости в понятиях», чтобы ответственно разбираться в водоворотах тогдашних слухов, страхов, увлечений, подозрений. Лично он настаивал бы только на удалении «слепотствующего министра». Все дальнейшие выводы были ему подсказаны и даже втеснены. В свое время Серафим учился в Новиковской семинарии, в Библейском обществе был деятельным членом, и в звании Минского архиепископа, и в должности Московского митрополита. В Москве на библейских собраниях он не раз произносил патетические речи. В Петербург он переехал уже в новых настроениях. С Голицыным сразу же разошелся. Ставши, по удалении Голицына от дел, президентом в Библейском обществе, митр. Серафим стал домогаться у имп. Александра упразднения и закрытия библейских обществ вообще, с передачей всех дел, имущества и самого переводческого задания в Синодальное ведомство. Добиться этого удалось очень не скоро, только уже в новое царствование, под свежим впечатлением декабрьских событий, ответственность за которые Шишков уверенно возлагал именно на «мистиков». Однако, даже и в рескрипте о закрытии Библейского общества (от 12 апреля 1826 г.) была очень важная оговорка. «Книги священного писания, от Общества уже напечатанные на славянском и русском языке, равно и на прочих, жителями Империи употребляемых, Я дозволяю продолжать продавать желающим по установленным на них ценам». Даже Николай I не был готов следовать за Шишковым. На деле, впрочем, издания Библейского общества были изъяты из обращения, и только попечительные о тюрьмах комитеты продолжали из своих запасов снабжать Новым Заветом в русском переводе ссыльных и заключенных… Любопытно, что Шишкова в 1828-м году заменил в должности «министра Просвещения» князь К. К. Ливен, бывший перед тем попечителем в Дерпте, видный и влиятельный деятель бывшего Библейского общества, от самого его основания. Позже, в 1832-м году, кн. Ливен стал во главе возобновленного немецкого Библейского общества. Князь Ливен принадлежал к секте моравских братьев. «Случалось, что присланный откуда-нибудь чиновник, с важным поручением, застанет его в зале, громко распевающего псалмы перед налоем. Он обернется к нему, выслушает его, но, не отвечая ему, продолжает свою литургию» (Вигель). Конечно, кн. Ливен был немец и протестант, и восстановлено было немецкое Библейское общество. Но ведь министерством он был призван управлять всероссийским…
«Виды правительства» к этому времени, во всяком случае, опять переменились…
«Восстание» в 1824-м году было поднято не против Библейского общества только, но против всего «нового порядка». Филарет Московский верно определил смысл этого «восстания» – «обратный ход ко временам схоластическим». И главным защитником «нового порядка» оказался в эти годы именно сам Филарет…
Филарет Московский прожил долгую жизнь (1782–1867). Буквально: от покоренья Крыма и до «великих реформ». Но был он человеком именно Александровской эпохи…
Филарет родился в тихой и глухой Коломне. Он учился в старой дореформенной школе, в которой учили по латыням и по латинским книгам. Впрочем, в Троицкой Лаврской семинарии, где Филарет докончил свое школьное обучение и затем был учителем, дух протестантской схоластики был смягчен и умерен веянием того воцерковленного пиетизма, типическим выразителем которого был митр. Платон (Левшин). Ректор, архим. Евграф (Музалевский Платонов), как вспоминал впоследствии сам Филарет, преподавал по протестантским пособиям, – «задавал списывать отмеченные статьи из Голлазия». Уроки в классе сводились к переводу и объяснению этих списанных статей. «Общие нам с протестантами трактаты, как то: о Святой Троице, об Искуплении и т. п., пройдены были порядочно; а другие, напр., о Церкви, совсем не были читаны. Образования Евграф не имел стройного, хотя увидел нужду изучать отцов и изучал их». Евграф был представителем переходного поколения. Он любил и увлекался мистическим толкованием Священного Писания («Царствие Божие не слове, а в силе заключается»), старался переходить в преподавании на русский язык. Впоследствии он был ректором преобразованной Петербургской академии, но вскоре умер. Филарет не был слишком суров, когда отзывался: «богословию учил нас незрелый учитель по крайней мере с прилежанием». По личным воспоминаниям Филарет к этой «дореформенной» школе относился вполне отрицательно: «что там завидного…»
Сам Филарет вынес из школьного обучения блестящее знание древних языков и основательную стилистически-филологическую подготовку. Всем остальным он обязан был собственным дарованиям и самоотверженному трудолюбию. И впоследствии древние языки знал он лучше новых, а по-немецки и вовсе не научился. С основанием, в известном смысле, он любил называть самого себя самоучкой…
Из тихого Лаврского приюта, обвеянного духом благочестивой мечтательности, новоначальным иноком иеродиакон Филарет в 1809-м году был вызван в Петербург «для усмотрения» и для употребления во вновь образованных духовных училищах. Контраст был слишком резкий, переход был слишком внезапен. Странно показалось Филарету все в Петербурге, – «ход здешних дел весьма для меня непонятен», признавался он тогда же в письмах к отцу. В Синоде его встретили советами читать «Шведенборговы чудеса», учиться по-французски, – повезли смотреть придворный фейерверк и маскарад, чтобы там, буквально «средь шумного бала», представить его синодальному обер-прокурору, кн. Голицыну. На всю жизнь запомнились Филарету эти первые Петербургские впечатления. «Вот торопливо идет по двору какой-то небольшого роста человек, украшенный звездой и лентой, при шпаге, с треугольной шляпой и в чем-то, плащ не плащ, в какой-то шелковой накидке сверх вышитого мундира. Вот взобрался он на хоры, где чинно расположилось духовенство. Вертляво расхаживает он посреди членов Священного Синода, кивает им головой, пожимает их руки, мимоходом запросто молвит словцо тому или другому, – и никто не дивится ни на его наряд, ни на свободное обращение его с ними». Филарет был в первый раз в маскараде тогда, и не видал домино прежде. «Смешон был я тогда в глазах членов Синода», вспоминал он, —«так я и остался чудаком…»
Филарета встретили в Петербурге не очень ласково, и не сразу допустили к преподаванию в Академию. Но уже в начале 1812-го года он оказался ректором Академии и архимандритом, с настоятельством в Новгородском Юрьевом монастыре. Он выдвинулся, прежде всего, своим усердием и отличием «в проповедывании Слова Божия», своими «назидательными и красноречивыми поучениями об истинах веры», – как проповедник и стилист, Филарет привлек внимание к себе еще в Троицкой лавре. Действительно, у него был редкий дар и мера слова. Из отечественных проповедников у него чувствуется влияние Платона и еще Анастасия Братановского († 1806), – в Петербурге он читал французских проповедников ХVII-го века, Массильона [52
[Закрыть]] и Бурдалу, [53
[Закрыть]] Фенелона больше других. Но очень слышится и влияние отеческой проповеди, Златоуста и Григория Богослова, которого Филарет всегда как-то особенно любил и ценил. Темы для своих проповедей Филарет выбирал современные, – говорил о дарах и явлениях Духа, о тайне Креста, «о гласе вопиющего в пустыне»,– излюбленные темы пиетизма и квиетизма. Нередко проповедовал и в домовой церкви князя Голицына, даже в будни. Ученик и друг Филарета, Григорий (Постников), под конец жизни бывший митрополитом Новгородским, довольно сурово отзывался об этих ранних проповедях. Самому Филарету он писал откровенно, что в этих проповедях «часто видна была заботливость об игривости в словах, о замысловатости, о выражении другой мысли обиняками, что подлинно могло быть досадным сердцу, ищущему истины прямой и назидательной». Действительно, в первые годы Филарет говорил слишком напряженным и украшенным стилем; позже он стал спокойнее и строже, но навсегда его язык остался сложным и фразы у него построены всегда точно по контрапункту. Это не умаляет выразительности его проповедей. Даже Герцен признавал за Филаретом этот редкий дар слова: «владел мастерски русским языком, удачно вводя в него церковно-славянский». В этом «мастерстве» языка и первая причина влиятельности его слова, – это было всегда живое слово, и мыслящее слово, вдохновительное размышление вслух. Проповедь у Филарета всегда была благовестием, никогда не бывала только красноречием. И именно к этим ранним Петербургским годам относятся его неподражаемые и образцовые слова в Великий Пяток (1813-го и особенно 1816-го годов)…
Более напряженной была в эти годы учено-педагогическая деятельность Филарета. Ему достался тяжкий и суровый искус, – «мне должно было преподавать, что не было мне преподано». И за короткий срок, с 1810 по 1817 год, ему пришлось прочесть и обработать почти полный курс богословских наук, со включением сюда и истолковательного богословия, и церковного права, и древностей церковных. Не удивительно, что жаловался он на крайнее изнурение. Не удивительно и то, что эти первые опыты не всегда были удачны и самостоятельны, и отдают часто разными, слишком еще свежими впечатлениями, – сказать: «влияниями» было все же бы слишком сильно. Первые книги Филарета: «Начертание церковно-библейской истории» (1816) и «Записки на книгу Бытия» (1816) составлены были по Буддею, и из Буддея взят был и ученый аппарат. Это было совершенно неизбежно при срочной и спешной paботе, – нужно было дать студентам учебную книгу и пособие к экзаменам… Профессором Филарет был блестящим и вдохновенным. «Речь внятная; говорил остро, высоко, премудро; но все более к уму, менее же к сердцу. Свободно делал изъяснение Священного Писания: как бы все лилось из уст его. Привлекал учеников так к слушанию себя, что когда часы кончались ему преподавать, всегда оставалось великое усердие слушать его еще более без ястия и пития. Оставлял он сильные впечатления в уме от учений своих. Всем казалось истинно приятно, совершенно его учение. Казалось он во время оно оратор мудрый, красноречивый, писатель искусный. Все доказывало, что он много в науках занимался…»
Это отзыв самого архимандрита Фотия. И он прибавляет еще, что Филарет был истый ревнитель монашеского чина, «и был весьма сердоболен», – сердечность Филарета Фотий испытал на себе, в свои трудные и смутные академические годы…
Как рассказывал Стурдза, и Филарет бывал тогда «колеблен внушениями духов многоразличных». Филарет читал, как все в то время, и Юнга-Штиллинга, Эккартсгаузена, Фенелона и Гион, и книгу о ясновидящей Преворстской, и от этого чтения бесспорный след остался навсегда в его душевном и мыслительном складе. Он умел находить общий язык не только с Голицыным, но и с Лабзиным, и даже с проезжавшими квакерами, – его интересовали и привлекали все случаи духовной жизни. Но при всем том Филарет оставался церковно твердым и внутренне чуждым этому мистическому возбуждению. Он был всегда очень впечатлителен, потому и склонен к подозрительности, – за всем следил и во всякую подробность вдумывался и всматривался, что не было уютно для окружающих. Но он был и очень сдержан, себя он сдерживал и ограничивал больше и прежде всего. Даже Фотий, во многом укорявший и очень не любивший Филарета, в своих записках признает, что во времена своего студентского «жития под тонким взором архимандрита Филарета» он «никогда не заметил и не мог заметить даже единой тени противу учения Церкви, ни в классах в академии, ни частно». В одном только Фотий яростно винил Филарета, – в чрезмерной терпеливости, в чрезмерной молчаливости. Иннокентий Смирнов и советовал Фотию ходить почаще к Филарету и у него учиться молчанию. Это, действительно, было очень характерно для Филарета. Он казался скрытным и уклончивым. Как говорит Стурдза в своих воспоминаниях, было «нечто загадочное» во всем его существе. Вполне открытым был он только перед Богом, не перед людьми, – во всяком случае, не перед всеми и не перед каждым. «Филарет никогда не увлекался порывами беззаботной искренности…»
Отчасти его можно обвинить в чрезмерной опасливости и предусмотрительности, он не хотел рисковать, выступая против сильной власти («нам, двум архимандритам, Юрьевскому и Пустынскому, не спасти Церковь, если в чем есть погрешность», говорил Филарет Иннокентию). Но в этой осторожности был и другой момент. Филарет не верил в пользу и надежность суровых запретительных мер, не торопился вязать и осуждать. От заблуждения он всегда отличал человека заблуждающегося, и с доброжелательством относился он ко всякому искренному движению человеческой души. В самих мистических мечтаниях он чувствовал подлинную духовную жажду, духовное беспокойство, которое потому только толкало на незаконные пути, что «не довольно был устроен путь законный». И потому обличать нужно не прещениями только, но прежде всего учительным словом. Прежде всего нужно наставить, вразумить, – о такой положительной и творческой борьбе с заблуждениями прежде всего и думал Филарет, и воздерживался от нетерпеливых споров…
Под покровом мистических соблазнов он сумел распознать живую религиозную потребность, жажду духовного наставления и просвещения. Потому и принял он участие в работах Библейского общества с таким увлечением. Его привлекла сама задача, ему казалось, что за библейское дело должны взяться церковные силы, – «да и не отымется хлеб чадом…»
В обновляющую силу Слов Божия он твердо верил…
С библейским делом, с русской Библией, он неразрывно и самоотверженно связал свою жизнь и свое имя. Его библейский подвиг трудно оценить в должной мере. Для него лично он был связан с великими испытаниями и скорбями. В самый разгар антибиблейского «восстания» в Петербург Филарет в Москве свидетельствовал, напротив, что «самое желание читать священные книги есть уже залог нравственного улучшения». И, если кто предпочитает питаться кореньями, а не чистым хлебом, не Библейское общество в том виновато. На угадываемый вопрос, «для чего сие новое заведете в деле столь древнем и не подлежащем изменению, как христианство и Библия», Филарет отвечал: «для чего сие новое заведете? Но что здесь новое? Догматы? Правила жизни? Но Библейское общество не проповедует никаких, а дает в руки желающим книгу, из которой всегда истинною Церковию были почерпаемы, ныне почерпаются и православные догматы, и чистые правила жизни. Новое общество? Но сие не вносит никакой новости в христианство, не производит ни малейшего изменения в Церкви… Для чего сие заведете иностранного происхождения? говорят еще. В ответ на сей вопрос можно было бы указать любезным соотечественникам на многие вещи, с таким же вопросом: для чего они у нас не токмо иностранного происхождения, но и совершенно иностранные…»
По выражению современника, в то время «самые набожные люди имели несчастную мысль, что от чтения сей священной книги люди с ума сходят». Одно время чтение Библии было формально воспрещено воспитанникам военно-учебных заведений – в предотвращение помешательства, под тем предлогом, что два кадета уже помешались. А многие другие «почитали ее книгою только для Церкви потребной и для попов одних годной». Из страха мистических заблуждений и чрезмерностей тогда вдруг стали избегать и Макария Египетского, и Исаака Сирина, – «и умная сердечная молитва уничтожена и осмеяна, как зараза и пагуба…»