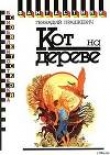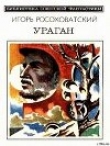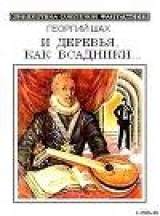
Текст книги "И деревья, как всадники…(сборник)"
Автор книги: Георгий Шах
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Монарх и его гость на экране вели свою беседу на старофранцузском языке, а чуть ниже изображения поползли буквы перевода.
Генрих (настойчиво и с раздражением). Говорите же, я жду!
Ольсен (после заметных колебаний). Вы правы, сир, я не ваш современник. Нас отделяют во времени восемь веков.
Генрих (хладнокровно). Как раз половина срока, минувшего от рождества Христова. Ну, зачем же вы к нам пожаловали?
Ольсен (смущен, в данной ему инструкции явно не предусматривался подобный вопрос). Видите ли, ваше величество, людьми моей эпохи движет понятная любознательность. Мы стремимся глубже познать прошлое, находя в нем бесценное поучение для сердца и ума. Полагаю, это не чуждо и вашим современникам.
«Витиевато изъясняется, не может найти нужного тона», – подумал Малинин.
Генрих (кивая). В молодости я основательно штудировал записки Цезаря о галльской войне. Вероятно, почерпнутая там мудрость помогла мне утереть нос испанскому кузену. Хотя и он, должно быть, читал Цезаря.
Ольсен (угодливо). Не каждому дано постигнуть мысль гения и извлечь урок из его деяний.
Малинин ощутил раздражение и по тому, как задвигались остальные, понял, что не он один. В самом деле, Ольсен изрекал какие-то банальности, да вдобавок тошнотворно льстил своему венценосному собеседнику.
Генрих (раздумчиво). Я всегда советую своим маршалам читать Цезаря. Не ради прямого подражания – упаси бог! Военное дело изрядно продвинулось вперед, особенно с тех пор, как появилась артиллерия. Но дух полководца, его воля – здесь всегда есть чему поучиться… (После секундной паузы, улыбаясь.) Впрочем, сам я ничему не научился, пока не набил себе шишек.
Ольсен. Иначе вы бы не стали великим королем.
Генрих. Да, разумеется. (Подавшись вперед и уткнув свой палец в грудь Ольсену.) Объясните, сударь, почему вы избрали для путешествия в прошлое день 14 мая 1610 года? Какое поучение вы и ваши ученые коллеги хотели извлечь из того факта, что фанатик, подосланный испанцами, собирался заколоть короля Франции?
Ольсен (в полном замешательстве). История полна неожиданностей, сир. Многие ее детали нам неизвестны, другие нуждаются в проверке. Кроме того, есть эффект присутствия. Одно дело описывать события с чужих слов и совсем другое – быть их свидетелем.
Генрих. Вы называете все причины, кроме главной.
Ольсен. Что государь имеет в виду?
Генрих. Вас прислали, чтобы предупредить меня о покушении Равальяка, не так ли?
Все замерли в ожидании ответа, и каждый напряженно соображал, каким он должен был бы быть. Ольсен на экране молчал. А сам он, воспользовавшись паузой, пробормотал нечто вроде: «Окажись вы на моем месте…»
Генрих (глядя на своего собеседника испытующе, с иронической усмешкой). Смелее, надо ли стыдиться столь богоугодных побуждений. Хотя вы, должно быть, не верите в бога…
Это прозвучало полуутверждением-полувопросом.
Ольсен (дипломатично). Мы не испытываем необходимости объяснять что-либо действием потусторонних сил.
Генрих (кивая в знак согласия). Я тоже. Поэтому мне не составило большого труда сходить к обедне, там у вас (помахал рукой, указывая куда-то в небо) знают этот эпизод?
Ольсен. Еще бы! Ваша фраза «Париж стоит мессы» стала крылатой.
Генрих. В каком смысле?
Ольсен. Как вам сказать… Ее употребляют, когда речь идет о циничном выборе. Ради большого куша стоит покривить душой или отречься от принципов… Приблизительно так.
Генрих (недовольным тоном). Вот уж ерунда! Как раз в душе я ни от чего не отрекся. Принятие католичества было взвешенным политическим шагом. Нельзя ведь в самом деле, придерживаясь иной веры, успешно управлять страной, где преобладают паписты. Монарх обязан держать своих подданных в страхе, может попирать их, как взбредет в голову, но он не имеет права не разделять их предрассудков. И потом, как вы знаете из хроник, Нантским эдиктом я даровал французам гражданский мир и избавил их от религиозных распрей. Разве ради одного этого не стоило отслужить обедню?
Ольсен (явно стремясь успокоить короля). Вы правы, сир, здесь был просто тактический расчет. Каждый на вашем месте поступил бы так же.
Генрих. Вернемся, однако, к нашим баранам. Вы не ответили на мой вопрос.
Ольсен (говорит четко и уверенно). Увы, ваше величество, не буду лукавить, передо мной не ставилась задача подать вам спасительный знак. Отнюдь не потому, что людям моей эпохи недостает человеколюбия. Просто мы не имеем права на милосердие. Подумайте сами, что случится, если путешественники во Времени начнут вмешиваться в ход событий, пытаясь исправить историю или на худой конец придать ей-более пристойный вид. Такое вмешательство могло бы привести к катастрофическим результатам.
Генрих (явно не понимая, но не желая признаться). Вот как?
Ольсен. Представим для наглядности, что кому-то пришло в голову предупредить столь почитаемого вами Цезаря о готовящемся против него заговоре…
Генрих (сухо). Не вижу ничего дурного, если б сей великий полководец прожил еще с десяток лет.
Ольсен (невозмутимо). Я выбрал неудачный пример. Ну а если какой-нибудь сердобольный пришелец из будущего решил бы остеречь ваших предшественников, сир, сообщив Карлу IX и Генриху III, что первого собираются отравить, а второго зарезать?
Генрих. Да, я улавливаю, это помешало бы осуществиться воле божьей.
Ольсен. У нас принято называть то, о чем вы говорите, естественным течением истории. Добавлю, что у меня есть и достаточно веская личная причина воздерживаться от всякого вмешательства в ваши дела. Согласно семейному преданию одним из моих предков по материнской линии является не кто иной, как ваш министр финансов…
Генрих. Вы потомок моего Рони?!
Ольсен. Похоже, что да. Так вот, перемены в вашей судьбе могли бы самым неожиданным образом повлиять на судьбу вашего фаворита и его близких. Вообразите, как это отразилось бы на потомках герцога Сюлли в тридцатом или сороковом колене! Вполне вероятно, что я вообще не появился бы на свет.
Генрих. Это было бы весьма прискорбно и для меня, сударь. Поскольку не смогла бы состояться наша интересная беседа.
Ольсен. Благодарю вас, ваше величество…
Ольсен. Благодарю вас, ваше величество…
Ольсен. Благодарю вас, ваше величество…
– Испорченная пластинка, – сказал Лефер, выражая вслух то, что пришло в голову каждому. Действительно, эффект был тот же самый, только странно было видеть его на экране. Повторяя свою фразу, Ольсен всякий раз подавался вперед и вежливо наклонял голову, а король Генрих делал ответный жест рукой, и оба они смахивали на трясущихся китайских истуканчиков. Ольсен уже поднялся с места и направился к панели, когда вдруг дело сдвинулось и появились очередные кадры необыкновенной хроники.
Генрих. И все же осталась одна неясность. Вы начали с того, что хотели предупредить меня о злодейском намерении Равальяка. А в противоречие с этим утверждаете…
Ольсен (перебивает). Да, сир, здесь есть противоречие. Дело в том, что я не имел права вмешиваться, – это, как я уже вам докладывал, категорически запрещено.
Генрих. Но вы нарушили запрет. (Ольсен кивает.) Не смогли противостоять своей человеческой натуре? (Ольсен кивает.) А чем это вам грозит, вас повесят или четвертуют?
Ольсен. Хуже: меня отстранят от путешествий во Времени. (Генрих смотрит на него с явным недоумением.) Однако откройте и вы мне свой секрет, сир. Как вы узнали, что я прибыл к вам из будущего?
Генрих. Очень просто. Вы здесь не первый.
Ольсен. Вы хотите сказать…
Генрих. Вот именно. Неделю назад ко мне заявился некий господин, предупредивший об очередном заговоре иезуитов. (В сердцах.) До сих пор не могу простить себе, что дозволил этим паршивцам вернуться во Францию! Кстати, этот человек не хитрил, как вы, мсье д'Ивар, а без всяких обиняков сообщил, что он из тридцатого столетия.
Среди зрителей произошло сильнейшее движение.
Ольсен. Тридцатого?
Генрих. Да, насколько я разбираюсь в арифметике, он на пять веков моложе вас.
Ольсен. И куда же девался наш с вами потомок?
Генрих. Испарился, как Асмодей.
Ольсен. Он не снабдил вас никакой другой информацией?
Генрих. Не понял?
Ольсен. Я хотел узнать, не рассказал ли ваш спаситель о своем времени?
Генрих. Нет, он не пожелал задерживаться. А жаль, мне бы хотелось кое о чем его порасспросить.
Ольсен. Вас, видимо, интересует, как устроено наше общество?
Генрих. Отчасти и это. Признаюсь, однако, в первую очередь меня одолевает любопытство, что у вас думают о моем царствии.
Ольсен (подумав). Видите ли, ответить на этот вопрос непросто. О вас создана обширная литература.
Генрих (удовлетворенно поглаживая бородку). Скажите главное.
Ольсен. Если в двух словах, то вас рассматривают как решающее звено в утверждении французского абсолютизма.
Генрих (с вытянувшейся физиономией). Какое звено?
Ольсен. Простите, это словечко из жаргона наших историков. Иначе говоря, считается, что при вас завершилось становление централизованного государства в форме абсолютной монархии.
Генрих. Только и всего? А между тем я заботился, чтобы мои подданные жили сносно, не обременял их непосильными налогами, поощрял искусства. Полагаю, мои победы на поле брани тоже не должны быть преданы забвению.
Ольсен (поспешно). Да, конечно, поэтому я предупреждал вас, что ответить на такой вопрос нелегко.
Генрих. А что говорят о моих… э… похождениях?
Ольсен. Историки, склонные морализировать, осуждают вас, а литераторы зовут веселым королем. Есть даже популярная песенка:
Жил-был Анри Четвертый,
Веселый был король,
Вино любил до черта
И пьян бывал порой.
Боец он был отважный
И дрался, как петух.
А в схватке рукопашной
Один он стоил двух.
Еще любил он женщин,
Имел у них успех,
Победами увенчан,
Он был счастливей всех.
Генрих. Недурно. Давайте еще раз. (Берет с этажерки футляр, достает из него лютню, наигрывает, нащупывая мотив, подает знак Ольсен у, и они вдвоем поют песенку о веселом короле; потом смеются, довольные друг другом.)
Ольсен. Как прекрасно звучит эта лютня!
Генрих. Она ваша. (Встает, подходит к Ольсену, кладет руку ему на плечо.) А жаль, д'Ивар, что вы из другой эпохи. Мы с вами могли бы подружиться.
Ольсен. Не сомневаюсь, сир.
Король хлопает в ладоши. Дверь кабинета отворяется, входит слуга с подносом, ставит перед собеседниками кубки с вином и удаляется. Они молча чокаются, пьют.
Генрих (со вздохом). У меня так мало по-настоящему преданных друзей. Вокруг все больше льстецы и предатели… Ладно, расскажите о своем времени. Кто вами управляет?
Ольсен. Так называемый Глобальный общественный совет, сир. В его составе пятьсот самых мудрых и уважаемых людей, главным образом из числа ученых.
Генрих. Их назначает король?
Ольсен. О нет, они избираются населением. Королей у нас давно не существует.
Генрих (в раздумье). Вот как! Значит, все-таки республиканцы своего добились! Что же, этот ваш правящий синклит устроен по типу римского сената или афинской агоры?
Ольсен. Ни то ни другое.
Генрих. Ну, тогда это, очевидно, нечто вроде наших Генеральных штатов. В нем представлены все сословия?
Ольсен. У нас давно уже нет сословий, ваше величество.
Генрих. То есть как, у вас нет дворян, священнослужителей, простолюдинов? Каким же образом отбираются достойные?
Ольсен. По достоинствам – уму, таланту, порядочности.
Генрих. Родовитость…
Ольсен (входя в раж). При чем тут родовитость! Разве качества человека определяются его генеалогическим древом? Вы сами, сир, только что изволили признать, что среди ваших придворных тьма ничтожных, подлых людишек. А ведь многие из них почти наверняка ведут свое происхождение от знатных вельмож, состоявших еще в свите Меровингов и Капетингов.
– Молодчина! – не удержался Лефер.
Генрих (примирительно). Ну, ну, не стоит из-за этого пререкаться. У нас здесь свои порядки, у вас свои. В конце концов, никто не должен совать свой нос в чужие дела. Недавно мне дали почитать любопытную книжонку некоего ученого голландца про войну и мир. Там есть дельная мысль о суверенитете. Так вот, эпохи, подобно государствам, имеют право на неприкосновенность. Кстати, а как обстоят у вас дела с европейской политикой, по-прежнему ли Франция воюет с Испанией, а Испания с Англией?
Ольсен. О нет, сир. Теперь в Европе, как и вообще на Земле, нет отдельных государств.
Генрих (с грустью покачивая головой). Значит, Франция лишилась независимости, а заодно основанных мной заморских колоний.
Ольсен. Франция ничего не лишилась, она приобрела весь мир, так же как мир приобрел Францию.
Генрих. Но если не стало государств, кто же и с кем у вас воюет?
Ольсен. Никто. С этим навсегда покончено.
Генрих. Стало быть, вечный мир стал явью! А ведь и я вслед за чешским королем Подебрадом носился одно время с таким проектом для Европы.
Ольсен. Эти попытки украшают вашу репутацию. Хотя, признайтесь, вы собирались навязать европейским странам мир при гегемонии Франции и своей лично.
Генрих. А вы хотели, чтобы гарантом европейского мира стал мой свирепый сосед Филипп II или этот недоносок Яков?.. Следовательно, у вас нет больше ни солдат, ни генералов, ни пушек…
Ольсен (подхватывая). Ни какого-либо другого оружия. Его собрали однажды в одну кучу и уничтожили.
Генрих. А я, честно говоря, считал мечту наших пацифистов перековать мечи на орала утопией.
Ольсен. Что ж, для такого скептицизма были веские основания. Прежде чем прийти к миру без оружия, человечество прошло через чудовищные мировые бойни. В последней из них чуть ли не ежедневно гибло столько людей, сколько их пало во всех ваших баталиях, сир. Вы можете представить себе одну бомбу, способную уничтожить одновременно двести тысяч человек?
Генрих. Это нечто вроде землетрясения.
Ольсен. Вот именно. Но, к счастью, все уже позади.
Генрих. Для кого позади, а для кого и впереди.
Ольсен (смущенно). Действительно, я совсем упустил из виду, что нас разделяет несколько столетий.
Генрих. А мог бы я совершить вместе с вами прогулку в будущее? Разумеется, не для того, чтобы остаться у вас навсегда. Упаси бог!
Ольсен. Увы, сир. Мои современники могут путешествовать в будущее и даже легче, чем в прошлое. Но такой возможности лишены те, кто жил до изобретения машины времени.
Генрих. Жаль. Я бы с удовольствием поглазел на ваш идеальный мир. Объясните только, чем вы занимаетесь? Мы вот здесь по преимуществу тем, что любим и воюем. Если вы покончили с войнами…
Ольсен. Значит, нам осталась только любовь. (Смеются). Разве этого мало?
Генрих. Ну надо же чем-то заполнять паузы.
Ольсен. Если говорить серьезно, то никогда еще жизнь людей не была в такой степени полнокровна и осмысленна. Выкинув на свалку всевозможные перегородки, разделявшие его на враждующие части, человечество сумело высвободить таящиеся в нем гигантские силы созидания. Канули в вечность голод, нищета, мор, пустыни и болота превращены в сады, изобилие пришло в каждое жилище.
Генрих (улыбаясь). Та самая воскресная курица?
Ольсен (отвечая ему улыбкой). И еще кое-что. К слову (указывает на массивный бронзовый канделябр), вечерами вы читаете при свете свечи, а ваши соотечественники победнее довольствуются масляной плошкой. В моем же кабинете горит лампа, равная пятистам свечам. А питает ее энергия, извлеченная из воды. Вы скачете на лошадях со скоростью пять-семь лье в час. Наши городские экипажи движутся моторами, мощность которых достигает сотен и тысяч лошадиных сил. Мы не только ездим, но и летаем, покрывая за считанные минуты расстояние от Парижа до Москвы и за каких-нибудь полчаса – до Америки. И это еще не все. Мы пересекаем космическое пространство и после нескольких суток комфортабельного путешествия достигаем Луны, Марса, Венеры, других планет, освоенных человеком.
Ольсен замолк. Генрих пристально вглядывался в него, словно пытаясь найти в глазах путешественника во Времени образы той неведомой, непостижимой жизни, какая воцарилась на Земле спустя восемь веков. Потом отвел взгляд, уставился в окно.
Генрих. Вам приходилось когда-нибудь скакать на лошадях?
Ольсен. Нет. А почему вы спрашиваете?
Генрих. Вы не представляете, д'Ивар, какое это наслаждение – мчаться во весь опор по лесным тропкам и проселкам, когда ветки хлещут по лицу, а ветер свистит в ушах. В такие мгновения чувствуешь себя не просто воином или охотником, но покорителем пространства.
Ольсен. Вы правы, сир, каждому времени свое.
Генрих. И каждому свое время. (Чокаются, пьют.) Надеюсь, вы еще побудете в Париже? Я распоряжусь поселить вас в Фонтенбло.
Ольсен. Прошу прощения, государь, но моя миссия здесь исполнена, и я должен покинуть вас.
Генрих. Ну, на денек-другой задержаться вы можете?
Ольсен. Нет, сир. Дело в том, что в моем экипаже кончается зарядка, и, если я не уеду сейчас, я не уеду никогда.
Генрих. Вот как? Где же этот ваш экипаж?
Ольсен. Неподалеку.
Генрих. Вы мне не доверяете? (Ольсен молчит.) Что ж, правильно делаете, я и сам на вашем месте поступил бы так же. Ну хорошо, тогда исполните на прощанье одну мою просьбу.
Ольсен. Если это в моих возможностях.
Генрих. Это в ваших возможностях. Раскройте мне мою судьбу.
Ольсен. Я не сомневался, что вы зададите мне этот вопрос. И очень огорчен, что не могу на него ответить.
Генрих. Все тот же запрет?
Ольсен. Нет, просто я не знаю.
Генрих. Может быть, вы щадите меня? Тогда не стесняйтесь, я фаталист. Мать Жанна с детства меня наставляла: чему быть, того не миновать.
Ольсен. Но я в самом деле ничего не могу вам сказать.
Генрих. Полноте, мсье.
Ольсен. Судите сами, ваше величество, я знал, что вам угрожает гибель от руки Равальяка. Теперь этот вариант отпал.
Генрих. Допустим. Но рано или поздно мне все равно предстоит переселиться к праотцам. И вы в своем двадцать пятом веке не можете не знать, как это случилось.
Ольсен. Мои современники, безусловно, об этом знают. Однако вы забываете, что я-то был с вами и, пока не вернусь назад в свое время, поневоле останусь в неведении о вашей судьбе.
Генрих (смотрит на него недоверчиво). Мне кажется, вы меня морочите. Ведь до того, как вы оказались здесь, вы должны были знать…
Ольсен. Я и знал, что вам угрожает нож Равальяка.
Генрих. Заколдованный круг. Это смахивает на ребус: что было раньше, яйцо или курица. Но сдается мне, что вам известна разгадка. (Хлопает в ладоши. Входит бравый гвардеец. Король подзывает его поближе и шепчет что-то на ухо.) Что ж, настала пора прощаться, д'Ивар, хотя я надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Мой офицер вас проводит.
Ольсен (официально). Благодарю за аудиенцию, государь. Желаю вам удачи.
В последний раз камера показала крупным планом лицо Генриха. В прищуренных черных глазах, в уголках губ притаилась хитрая усмешка, смысл которой стал ясен чуть позднее.
3Ольсен со своим спутником идут бесконечными галереями Лувра. Навстречу им попадаются франтоватые гвардейцы в мундирах, расшитых золотыми позументами и отделанных кружевами, фрейлины в пышных юбках и высоких тугих жабо. Раз даже им приходится уступить дорогу старику в красной мантии с крестом на груди и в такого же цвета шляпе – кардиналу.
Офицер отворяет дверь и жестом приглашает Ольсена войти, но тот застывает на пороге. «Куда вы меня привели, сударь, король поручил вам вывести меня из Лувра». – «Король оказывает вам милость, мсье д'Ивар. Мне поручено завтра утром доставить вас в Фонтенбло. А сегодня вы можете удобно устроиться в этой гостиной. Из кухни его величества сюда будет доставлен отменный ужин. Чтобы вы не скучали, я готов составить вам компанию». – «Премного обязан государю, – говорит Ольсен, – но не смею злоупотреблять его гостеприимством». – «И не думайте отказываться», – возражает офицер. «Значит ли это, что я арестован?» – спрашивает Ольсен. «Упаси бог!» – восклицает офицер с жаром и слегка подталкивает своего нового друга, как он его называет, в спину. Тому не остается ничего другого, как войти в комнату. Дверь за ними закрывается.
Экран погас, стена приняла свое прежнее обличье.
– В чем дело, – спросил Лефер, – у вас кончилась пленка?
– Нет, конечно. Но все, что случилось дальше, можно было снять только со стороны. Вам придется довольствоваться моим рассказом.
Когда мы вошли, меня ожидал сюрприз: в стороне от дверей за круглым столом играли в кости два гвардейца. Итак, я взят под надежную охрану. Король явно решил не расставаться со мной. Не мог же он в самом деле так просто отпустить человека, владевшего тайной его судьбы. И природное мягкосердечие не помешает его христианнейшему величеству применить пытки, чтобы выжать из меня эту тайну.
Словом, надо было действовать немедленно, пока за мной опять не захлопнулись – и уже навсегда! – тяжелые кованые ворота Бастилии. Тогда уже не помогли бы никакие технические хитрости, которыми столь предусмотрительно вооружили меня ваши молодцы, Лефер. Впрочем, и сейчас не было гарантии, что мне удастся бежать. Их было против меня трое, да вдобавок я не имел права убивать.
Все эти соображения промелькнули в моей голове в доли секунды. Решив, что мой главный козырь – внезапность, я подставил офицеру подножку и сильно толкнул его в грудь. Он упал и покатился по полу, гневно чертыхаясь. Я кинулся к двери, рассчитывая выскочить наружу и скрыться в наступивших сумерках. О ужас, дверь была заперта снаружи! Ко мне уже подбегали с обнаженными шпагами гвардейцы, и не оставалось ничего иного, как принять бой. Я должен был справиться с этой парой вояк, пока к ним не присоединился их бравый начальник.
Выхватив свою шпагу из ножен, я стал размахивать ею, как дубинкой. Это на мгновение привело моих противников в замешательство, они никогда, разумеется, не видывали подобной манеры фехтования. Перекинувшись репликами, смысла которых я не уловил, гвардейцы стали теснить меня с двух сторон. Полагаю, у них был приказ беречь мою жизнь, и убивать меня они не собирались, разве что чувствительно царапнуть. К нам уже приближался офицер, держась одной рукой за голову: при падении он стукнулся о каминную решетку.
Медлить дальше было нельзя. Сорвав плащ, я швырнул его на голову одного из нападавших и на секунду обезопасил таким образом свой тыл. Затем я сложился пополам и метнулся к другому, сильно ударив его головой в пах. Тот взвыл от боли и, скорчившись, отполз в сторону. Теперь предстояло сразиться с офицером, который надвигался на меня с обнаженной шпагой и угрюмой отвагой на лице. Этот малый явно готов был наплевать на приказ своего монарха и выпустить из меня кишки, чего бы потом это ему ни стоило.
Когда наши шпаги скрестились, я нажал кнопку, спрятанную в эфесе…
– Почему вы не сделали этого раньше? – перебил Гринвуд.
– Мне хотелось проверить, способен ли наш современник постоять за себя в схватке с людьми той эпохи, не прибегая к технике.
– Вы вели себя как мальчишка, – отчитал его Кирога.
– Может быть. – Ольсен улыбнулся обезоруживающе. – Во всяком случае, экспериментировать дальше стало опасно, я должен был защищать свою жизнь. Вы бы посмотрели на физиономию офицера – кажется он был в чине лейтенанта, – когда его шпага выпорхнула из рук и прилепилась к моей. Он буквально остолбенел, а придя в себя, заревел как бык и кинулся меня таранить тем же способом, каким я разделался с его подчиненным.
Вы знаете, что в рукопашной я не промах. Увернувшись от грозившего мне удара, я приемом карате стукнул своего лейтенанта по шее, от чего он уже не смог оправиться. Пронесшись по инерции еще несколько метров, бедняга вторично врезался в ту же каминную решетку и остался лежать, охая и стеная. Последний мой противник, выбравшийся наконец из плаща, с ужасом наблюдал эту сцену и до того перепугался, что кинулся к двери и стал барабанить в нее, призывая на помощь. Подбежав сзади, я одной рукой развернул его к себе лицом, а другой легонько ударил в солнечное сплетение. Солдат секунду смотрел на меня с открытым ртом, а затем, жадно глотая воздух, сполз на пол.
– Вы рассказываете с таким сладострастием, Ольсен, будто получали удовольствие, расправляясь с этими несчастными, – сказал Малинин.
– Это в нем заговорила кровь его воинственных предков, – встал на защиту друга Лефер.
– Заверяю вас, что действовал строго в пределах необходимой самообороны, – сказал Ольсен, кинув опасливый взгляд на Гринвуда. – Продолжу, однако. В тот самый момент, когда за мной осталось поле боя, дверь распахнулась и в комнату ворвалась куча народа. Если это была не вся французская армия, то по крайней мере добрая ее половина. Вежливо пропустив отряд, я выскочил из-за дверей, выбежал наружу и запер своих преследователей. До сих пор ума не приложу, как мне удалось провести их таким примитивным образом.
– Д'Артаньян на вас еще не родился! – сострил Лефер.
– Конечно, им не стоило большого труда выломать дверь, и по тому, с каким остервенением они взялись за это дело, я мог не сомневаться, что имею в запасе не более двух-трех минут. Кинувшись бежать вдоль галереи, едва освещаемой тусклым светом масляных фонарей, я нечаянно сбил с ног какого-то монаха, а затем ухитрился сорвать кринолин с шедшей навстречу дамы. Наконец я достиг круглой башенки, откуда витая мраморная лестница выводила в наружный двор. Мне почему-то казалось, что в этом месте не должно быть сильного караула. Но, глянув вниз, я понял, что ошибся: весь двор был заполнен швейцарцами.
Что делать? Две-три секунды промедления едва не стоили мне головы. Услышав нараставший позади шум, я оглянулся и в неясном свете факелов увидел искаженные яростью лица набегавших на меня гвардейцев. В их глазах горела непреклонная решимость отомстить за поруганную честь! Еще бы, какой-то ничтожный чужеземец раскидал целую роту отборной королевской рати – топить его, палить огнем, тут ведь речь о престиже!
У меня оставалось несколько мгновений, и этого оказалось достаточно, чтобы выхватить шашку с веселящим газом и швырнуть ее им под ноги. Действие этого оружия мгновенно. Под сводами древнего замка разразился громовой хохот, достойный Гаргантюа и Пантагрюэля. Славные воины короля Генриха закатывались в истерике и один за другим в изнеможении опускались на каменный пол.
Я еще раз посмотрел вниз. Там царила полная кутерьма. По двору в разных направлениях бегали солдаты, не знавшие, что им делать: то ли хватать заговорщиков внутри Лувра, то ли оборонять его от внезапного нападения-извне. Раздавались панические выкрики: «Это опять Гиз!», «Спасайте короля!», «Испанцы в Париже!» Кто-то пытался навести порядок, хриплым натужным голосом отдавая команды, их перекрывал гул перебранки, треск горящих факелов. Несмотря на всю опасность своего положения, я не мог оторвать глаз от этой картины, напоминавшей по колориту полотна Рембрандта, а по буйному движению – батальные зарисовки Гро.
Внезапно все голоса перекрыл истошный вопль: «Вот он, дьявол, хватайте его!» Рослый швейцарец, сидевший на лошади, приподнялся в седле, чтобы наглядней показать своим товарищам, где противник. Залюбовавшись этим закованным в латы живописным воякой, я не сразу сообразил, что он указывает на меня. А ведь и в самом деле вид у меня был устрашающий. Стоя в клубах веселящего газа, частицы которого, пропитанные лунным светом, создавали подобие переливающегося белого шлейфа, и, главное, с диковинной маской на лице, я должен был показаться чудовищем из другого мира. И надо отдать должное мужеству швейцарца: он, не колеблясь, пришпорил коня, намереваясь въехать по лестнице на галерею, чтобы атаковать дьявола.
Для спасения у меня оставалась одна стихия – воздух. Молниеносно я скинул с себя кафтан, достал из висевшей у пояса сумки аэропакет и начал приводить его в рабочее состояние. Вы знаете, что в обычных условиях для этого нужно две минуты. Во время тренировок я научился собираться за полторы. На сей раз я был готов через сорок секунд – реальная опасность включает такие ресурсы организма, о каких мы знать не знаем. И все же проклятый швейцарец едва не успел помешать мне. Сопровождаемый разъяренной орущей толпой своих коллег, он буквально взлетел на своем коне на галерею и успел ухватить меня за ноги в момент, когда я, взобравшись на балюстраду, готов был воспарить над Лувром.
Конечно, я попытался освободиться, дернувшись всем телом, но он вцепился в меня мертвой хваткой, да и человек это был недюжинной силы. Самое скверное состояло в том, что я не мог пустить в ход руки, поскольку к ним уже были пристегнуты прозрачные механические крылья. А что, если взлететь с этим живым грузом, на высоте он сам поневоле отвалится? Рассудок тотчас дал знать, что мысль безумна: мощность аэропакета слишком ничтожна, чтобы поднять двоих, она рассчитана максимум на сто килограммов, а во мне одном восемьдесят.
К счастью, инстинкт следует впереди рассудка. Я распахнул руки-крылья еще до того, как поддался панике, и это меня спасло.
– Вы поднялись вдвоем? – удивился Лефер.
– Нет, конечно, но я упустил из виду психологический эффект. Вы не представляете, друзья, какой невообразимый ужас появился на лице моего швейцарца, когда он увидел над собой распахнутые серебристые, словно у архангела, крылья. Он весь обмяк, хватка его ослабла, руки бессильно опустились и повисли, как плети, а голова склонилась к луке седла. То ли обморок, то ли благоговейная молитва, подумал я, взмывая в небо.
Со смешанным чувством облегчения и торжества смотрел я, как мои преследователи рухнули на колени, воздымая руки и громкими кликами благодаря господа за явленное им знамение. Впрочем, это было уже мимолетное впечатление, потому что аппарат быстро набрал заданную высоту. Лувр уменьшился до размеров игрушечного домика, а фигурки людей – до едва различимых букашек. Потом на темном фоне небосклона мелькнула раздвоенная, словно катамаран, берущий старт к звездам, громада Нотр-Дама. Сориентировавшись по собору, я скорректировал курс и через несколько минут с идеальной точностью приземлился в кустах терновника у монастырской стены, где меня ждал хронолет.
Ольсен с облегчением вздохнул, как человек, отчитавшийся за командировку.
– А теперь, друзья, – сказал он, – я удовлетворю ваше любопытство и потешу слух.
Ольсен раскрыл лежавший на столе таинственный ящик и извлек из него старинный инструмент.
– Лютня, подаренная его величеством Генрихом IV, королем Франции, путешественнику во Времени Ивару Ольсену, профессору истории Вселенского Университета. – Он ударил по струнам и запел. Все подхватили:
Когда же смерть-старуха
За ним пришла с клюкой,
Ее ударил в ухо
Он рыцарской рукой.
Но смерть, полна коварства,
Его подстерегла
И нанесла удар свой
Ему из-за угла…
– Эффектная концовка, – сказал Гринвуд. – Вы большой мастер рассказывать. Притом какое совпадение! Можно подумать, Беранже догадывался, что люди из будущего своевременно предупредят веселого Анри, чтобы он дал Равальяку в ухо. Все-таки имеем мы право узнать, когда и каким образом старуха подстерегла его величество?