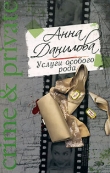Текст книги "Без бирки"
Автор книги: Георгий Демидов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Старик отошел в свой угол, а писарь назвал номер следующего заключенного. Когда все новоселы барака номер три были уже проверены, его дневальный вместо просьбы о разрешении обратился к старшему лейтенанту с просьбой об освобождении его от дневальства. Даже для человека, у которого по всеобщему мнению были "не все дома" это была очень странная просьба. Какая работа для заключенного в лагере может быть проще и легче, чем несложные обязанности дневального? Начальник УРЧ посмотрел на него с удивлением: – И куда же это ты податься захотел, же-триста восемнадцатый?
– Прошу отправить меня на шурфовку, гражданин начальник!
– Тот, видимо, решил вначале, что ослышался: – Чего, чего? – Кушнарев повторил просьбу.
Шурфовка, "битье" шурфов на полигоне была тяжелейшей работой на прииске. Она заключалась в выдалбливании в скалистом грунте колодцев для закладки взрывчатки под слой "торфов", сланцев, закрывающих золотоносные пески. Шурфовщики по четырнадцать часов в сутки работали киркой и ломом на жестоких уже морозах, не имея возможности обогреться. Добровольно проситься на эту каторжную работу мог только окончательно помешанный человек.
– У печки, что ли, надоело сидеть?
– Не получается у меня дневальства, гражданин начальник!
– Образование, что ли, не позволяет полы подметать?
– Не умею я на горло брать...
– Это верно, товарищ старший лейтенант, – подтвердил присутствовавший тут же надзиратель, "прикрепленный" к третьему бараку, – Дневальный он никудышный. В бараке замерзаловка, кипятку и то достать не может...
Это была правда. И дрова, и кипяток в здешнем лагере в большом недостатке. Дневальными бараков они брались с бою и робкому, не умеющими работать локтями Кушнареву часто или ничего не доставалось или доставалось то, что не брали другие.
– А почему на него не жаловались? – спросил начальник УРЧ.
– Да его в бараке за чокнутого считают, называют "Догорай веники" рассмеялся надзиратель. – Он и в самом деле больной вроде.
– А вот из лагеря бегать, так не больной! – заметил начальник по режиму, подозрительно глядя на Кушнарева. – Теперь вот на шурфовку просится... Опять что-то затеял, же-триста восемнадцатый?
– Ничего я не затеял, – буркнул Кушнарев, – нравится мне на шурфовке работать, вот и все...
Начальники переглянулись. В здешнем лагере, правда, есть один заключенный, который проделывает над собой еще и не такие номера. Пришил прямо к животу тряпку со своим номером, голый садится в снег... Но тот, возможно, симулирует сумасшествие, "косит на восьмерку", чтобы его не гоняли на работу. Этот же сам на нее напрашивается. Впрочем, вряд ли тут может быть какой-нибудь подвох. А если даже и есть, то за его последствия ответит внешняя охрана. – Что ж, – сказал начальник УРЧ, – не хочешь в тепле метлой работать, вкалывай ломом на морозе. Вот только подберем тебе заместителя без высшего образования... – Этой шутке улыбнулся даже вечно хмурый начальник по режиму.
После праздника Тридцать Первой годовщины Октябрьской революции, когда заключенных водили на работу с увеличенным числом конвойных, а их бараки запирались на замок даже днем, Кушнарев сдал новому дневальному барака N3 два ведра, бачок для воды и метлу. На следующий день утром он вышел на развод с бригадой, бившей шурфы на здешнем полигоне. Новые собригадники знали, что со своей завидной должности Кушнарев ушел добровольно и недоуменно пожимали плечами. Впрочем, чокнутый, он чокнутый и есть.
Согласно распоряжению заместителя начлага свою первую ночь в здешнем лагере Кушнарев провел в карцере, кондовой бревенчатой избушке с решетчатыми железными дверями внутри, еще пахнущей лиственничной смолой. Кондей, конечно, не отапливался, но бушлат на его первом заключенном оставили, а наручники с него сняли. Это было сделано, вероятно, снисходя к сомнительности психического здоровья нарушителя. Однако нарушение строя есть нарушение, тем более, что оно было произведено заключенным, дважды бежавшим из лагеря. На утро Кушнарева отвели к местному оперуполномоченному. Надо было выяснить, не затевал ли он побега и отсюда.
Как и почти весь начальствующий персонал нового лагеря опер тоже был демобилизованным из Армии офицером. Но в отличие от большинства своих коллег, бывших служащих штабов и интендантства, он, видимо, воевал по-настоящему. Гораздо убедительнее, чем орденская колодка на кителе лейтенанта об этом говорила толстая палка, на которую опирался при ходьбе лагерный "кум". Человек, по-видимому, неглупый и незлой, бывший фронтовик с любопытством всматривался в изможденное лицо первого, особо опасного преступника, с которым ему приходилось сталкиваться. Папка с лагерным делом Кушнарева лежала перед ним на столе.
Если бы опер начал беседу с нарушителем как обычно здесь, на "ты", в грубом или издевательском тоне, то Кушнарев, как всегда, просто замкнулся бы в себе и молчал. Но лейтенант пригласил его сесть, обращался на "Вы" и, расспрашивая о прошлом заключенного, причинах его странных побегов и истерическом поведении вчера перед лагерными воротами, проявлял, по-видимому, искреннее сочувствие. Измученный вечной и безрезультатной войной с собственной душевной слабостью, а теперь еще и надломленный этим неожиданным водворением в особо режимный лагерь, Кушнарев, как это часто бывает с истеричными людьми, расчувствовался. И поведал человеку с суровым, но вдумчивым лицом о своем стремлении уйти от постылой жизни и от посмертной бирки. Но смерти, как выяснилось, он безвольно и малодушно боится. И теперь уж не понять, он ли цепляется, вопреки рассудку, за эту жалкую жизнь, или она сама держит его железной хваткой. Все попытки Кушнарева покончить с собой кончаются тем, что темный инстинкт стремления жить выводит его из положений, в которых погиб бы всякий другой...
– Значит, и вчера, когда Вы кричали бойцам "Стреляйте!", Вы тоже делали такую попытку? – спросил внимательно слушавший опер.
Нет, это была просто бездумная нервная вспышка. Умереть так, это значит быть обреченным на бирку. Рассудок, однако, все чаще делает срывы...
– А вообще Вы полагаете, что он у Вас в порядке? – чуть заметно усмехнувшись, спросил уполномоченный.
– Такой вывод сделан магаданской психиатрической экспертизой, усмехнулся и заключенный. Ее заключение вот в этой папке...
Опер встал из-за стола и, опираясь на свою палку, прошелся по комнате. Ему не раз приходилось слышать, что дурак и сумасшедший это далеко не одно и тоже. Но в заключении с теми, кто соответствующими органами признан психически нормальным, надлежит и обращаться как с психически нормальными. Лейтенант остановился перед понуро сидевшим арестантом: – Вот что, заключенный Кушнарев! Здесь есть только одна возможность избежать бирки, которой Вы так боитесь – это честно отбыть свой срок! Всякие глупости надо прекратить! Отсидели десять лет, отсидите и остальные восемь... Вашу вчерашнюю выходку я оставляю без последствий, но это в последний раз. Можете идти!
В тот же день Кушнарева к его удивлению назначили не в одну из производственных бригад, а дневальным в барак. Потом он узнал, что неожиданный "блат" устроил ему опер.
Толстый слой глины, которым был обмазан этот барак еще не просох, когда в него поселили берлаговцев, главным образом работяг приискового полигона. Поэтому здесь было почти всегда не только холодно, но и сыро. Дров для железной печки, особенно при таком нерасторопном дневальном, каким был Кушнарев, едва хватало чтобы протопить ее перед самым возвращением бригад с полигона. Когда же изредка ее протапливали более основательно, глина издавала тяжелый, удушливый запах.
По вечерам здесь шли унылые разговоры о тяжелых условиях жизни и работы в этом чертовом Берлаге. То ли дело обычные ИТЛ с их дополнительным питанием за свой счет, зачетами рабочих дней, свободой передвижения на работе! С тех пор как в сочетании с гарантпайком все это было введено, люди рвутся на работу, чтобы сократить себе срок, заработать лишнюю копейку на своем лицевом счету, лишнюю миску супа. Здесь же никому не начисляется ни одной копейки. За найденный при шмоне рубль сажают на целый месяц в Бур, да еще отдают под настоящее следствие: где взял? Существуют, правда, повышенные категории питания, но заработать такое питание практически невозможно. Превращенные своими политруками в злых полуидиотов подсвинки-конвоиры не только изматывают своих подконвойных еще по дороге на прииск, но и отчаянно мешают работать. Если ты, скажем, выбил бурку для шурфа на нужную глубину, стой и замерзай! На новое место бригаду не поведут пока этой работы не закончат самые неумелые и слабосильные. Если у тебя затупился или сломался инструмент, считай, что день пропал без пользы. Замену такого инструмента производят, обычно, вольные десятники, но тут этих десятников и даже начальника прииска к заключенным и на пушечный выстрел не подпускают. В результате всего этого план прииска по вскрыше торфов отчаянно горит. Горит и финплан лагеря. Начальство экономит на гарантпайке, выдавая его недопеченным хлебом и баландой из плохо ободранного овса с длинными "усами". Нет даже тухлой селедки.
В бараке КВЧ под плакатом о воспитании правдой была приколота газета "Советская Колыма". Тот ее номер, в котором на прииск "Фартовый", как невыполняющий плана, была помещена большая карикатура. Она изображала его нерадивых работяг, загорающих на приисковом полигоне под ласковым солнцем. Пузатые дядьки возлежали в одних трусах на кучах песка рядом с составленными в козлы, кирками, лопатами и ломами. "Фартово лодырям на Фартовом!" гласила хлесткая надпись под карикатурой. В бараках смеялись. Вот бы автора этой карикатуры отвести на здешний полигон в одних трусах! Если в обычных лагерях работяг не выводили на работу уже при пятидесяти двух градусах, то для Берлага это нововведение писано не было.
Сразу же после поверки, которая происходила в бараке, всякие разговоры прекращались. Измерзшиеся за день и усталые работяги залезали на свои нары и засыпали. Дневальный, однако, не имел права спать до отбоя, точнее, до вечернего обхода лагеря дежурным комендантом. Он должен был встретить его рапортом по форме, что все население барака находится на месте и что посторонних в нем нет. После этого барак до утра запирался на замок.
В этот вечер в конце октября в нем было особенно холодно, так как морозы на дворе достигали здесь уже почти сорока градусов, а Кушнареву досталась на топливо только одна тонкая и сырая жердь. Обругав неспособного дневального: "Как ты на воле жил, такой чугрей?", работяги завалились спать, а он, привалившись к почти холодной печке, думал свою обычную, горькую думу о том, какой же он жалкий, слабовольный и никчемный человек. Он не сумел воспользоваться ни одной из бесчисленных возможностей, которые на протяжении многих лет предоставляли ему лагеря обычного режима для рассчета с ненужной и тяготившей его жизнью. Всегда робел, когда дело доходило до последнего, решающего усилия и откладывал на "потом".. И вот дооткладывался. Никто, конечно, не мешает сделать это усилие и здесь. Но избавиться от последующего лежания в земле с инвентарной биркой на левой ноге и фанерной эпитафией из своих собственных установочных данных здесь нельзя. В спецлаге стерегут так тщательно не людей – им и без охраны уйти отсюда почти некуда – а некие предметы с инвентарными номерами. И дело не в том, жив или мертв заключенный, а в том, чтобы он сохранился как этот предмет. И из такого отношения к заключенным здесь не делается никакого секрета. Кушнареву почти прямо говорили об этом и местный опер и здешний начальник УРЧ, от бирки-де не уйдешь... Опер, правда, советовал терпеть и "тянуть" оставшиеся восемь лет. Но теперь это уже невозможно. Предыдущие десять лет заключения не прошли бесплодно, а режим в спецлагере таков, что рано или поздно, а "загнешься на тачке" не выдержав изнурительной работы, холода и хронического недоедания. На дневальство особенно надеяться не приходится, непременно и скоро отсюда выгонят за нерасторопность. А это значит, что через год, от силы два, придется лежать в здешней мертвецкой с фиолетовым номером на пятке, ожидая очередь к "роялю" и бирке. От сознания этого охватывает чувство безысходности, которое бывает, наверно, у приговоренных не только к смерти, но и к посмертному глумлению над их телом. И всегда, когда это чувство особенно сильно, Кушнареву кажется, что оно знакомо ему уже давно, едва ли не с детства. Ощущение того, что происходящее сейчас когда-то уже было, знакомо всем. Чаще всего оно оказывается ложным, но здесь было что-то другое. Кушнарев напрягал память, пытаясь вспомнить что же именно, но не мог. Кроме разве того, что тягостное чувство связано у него с чем-то случившимся давно, давно, как будто даже в какой-то другой жизни.
Тяжелые мысли роились в тяжелой голове дневального все больше путаясь, а сама она клонилась все ниже. И вот исчез уже из глаз кусок грязного пола за печкой и край нижних нар со свисающим с него рукавом бушлата. Их место заняла поляна среди тропического леса с высокой дикарской хижиной посередине. В углу хижины, на охапке пальмовых листьев лежит человек, обессиленный лихорадкой. Недалеко от его ложа сидит перед дымным костром на корточках другой человек, темный и обезьяноподобный. Это Игрну, шаман племени охотников за черепами и главный препаратор трофейных голов. Вот и сейчас он любовно поворачивает очередной трофей так и этак, тщательно прокаливая его в дыму костра. Игрну – артист своего дела. Сквозь дым хижины шамана видно как с ее потолка свисает множество его изделий.
– Скоро и ты умрешь, – говорит шаман безнадежно больному белому, – А я высушу твою голову и повешу ее вон там, на самом видном месте... Отталкивающая физиономия дикаря становится еще уродливее от выражения на ней радостного удовлетворения, а умирающего охватывает чувство безнадежности и тоскливой, бессильной злобы.
Сознание задремавшего человека как бы раздваивается. Тоска европейца, погибающего в тропических джунглях, – его тоска. Но Кушнарев знает, что видит только сон, навеянный какими-то воспоминаниями и напряженно старается вспомнить, какими именно? Ах, да! Это же рассказ Джека Лондона "Красный звон", читанный в детстве и произведший тогда на Мишу Кушнарева сильнейшее и жуткое впечатление. Не тогда ли и зародилось в нем это неодолимое отвращение к посмертному надругательству над человеком, вспыхнувшее впоследствии в такой острой, болезненной форме? Читая рассказ, Миша остро сопереживал страданиям его героя и ненавидел Игрну, и чего только белый человек церемонится с этой отвратительной обезьяной? Да бабахнул бы шаману в башку из лежащего рядом ружья, которое дикари называют "громобойным младенцем"! Но автор, оказывается, имел в виду и этот вариант развития событий. Вот больной с усилием поднимает свое тяжелое ружье и целится в голову Игрну. Но тот только ухмыляется: – Ну что ж, если ты меня убьешь, то твою голову засушит кто-нибудь еще из племени, но все равно она будет висеть вон там... Ружье бессильно падает, а рядом с ним падает на руки и голова пленника. Теперь Кушнарев спит уже по-настоящему и видит настоящий сон. Игрну вдруг оказывается одетым в офицерский китель с орденской колодкой на груди. Он показывает рукой в потолок хижины, где между высушенных голов свисает на шпагате фанерная бирка с номером и установочными данными Кушнарева, и голосом опера глухо произносит: – Не уйдешь от нее, не уйдешь! – Потом шаман снова превращается в кривляющуюся обезьяну, подскакивающую к нему с визгом: – Не уйдешь! – Обезьяна множится в целое стадо себе подобных и все они приплясывая, кружатся вокруг бессильно лежащего человека и верещат: – Не уйдешь от бирки, никуда не уйдешь! – И вдруг в этом человеке вспыхивает такая ярость, что к нему возвращаются утраченные силы. – Уйду! – вскрикивает он и бьет кулаком по полу хижины. Пол оказывается неожиданно твердым и гудким как барабан, в который ежедневно колотят дикари. Видение исчезает. Снова виден кусок барачного пола за печкой, но теперь на нем стоят две пары добротных валенок. В валенки заправлены стеганые штаны, чуть выше закрытые полами овчинных полушубков. Обход! Испуганно протирая глаза дневальный вскакивает. За спанье до отбоя его могут сейчас отвести в кондей. Однако люди в полушубках настроены весьма благодушно. Они считают дневального третьего барака немного трахнутым, обиженным богом. – Этак ты печку расколотишь, дневальный! – говорит дежурный по лагерю, – Куда это ты уходить собрался? – Известно куда, в побег, – смеется надзиратель, ответственный за барак N3. Он же у нас на этом чокнутый... – и крутит пальцем перед звездочкой на своей шапке. – Ну нет, брат, – говорит комендант, – отсюда никуда не уйдешь, разве что на небо вознесешься, Иисус Христос... Надзиратели смеются, окидывают взглядом барак и, не требуя рапорта, уходят. Слышно как снаружи гремит железная полоса, которой перекрывается дверь, и два раза поворачивается ключ в тяжелом амбарном замке.
И эти о том же... Как сговорились все! "Разве что на небо вознесешься..." "Вознесся на небо" говорили на руднике, где пришлось работать Кушнареву, про одного тамошнего взрывника. Он подорвался на своих же шпурах в глубокой траншее. Сидя в "блиндаже", укрытий для работяг во время общего отвала, Кушнарев сам видел как над этой траншеей, среди высоко взметнувшихся камней летело что-то похожее на бушлат. У спецчасти лагеря, в котором содержался погибший заключенный, тогда возникли еще затруднения с его оформлением на архив-три. На одной из рук у него были оторваны пальцы, и снять отпечатки было не с чего... Среди вялых мыслей Кушнарева вдруг блеснула идея, заставившая его вздрогнуть, а затем замереть с открытым ртом. Взрыв – вот решение мучающей его проблемы! Человек, попавший в смерч огня и со свистом несущихся камней, умирает мгновенно. Кушнарев почувствовал, что перед этим видом смерти у него нет того страха, который он испытывал перед удушением водой или гибелью от голода. А главное, взрыв может быть и такой силы, что угодивший под него человек превращается почти в ничто, а его останки разметываются по окрестностям или погребаются под камнями. В этом случае не к чему бывает подвязывать бирки и не с чего снимать отпечатки пальцев.
Идея покамест была сырой. Конкретизировать задуманное, а затем и осуществить его можно было только работая на полигоне, на котором сейчас готовился гигантский взрыв "на выброс". Лучше всего в бригаде шурфовщиков.
Как ни плохо шли дела на Фартовом, а подготовка первого участка его полигона под такой взрыв приближалась уже к концу. Сквозь слой окаменевших глин толщиной около восьми метров, до уровня погребенного золотоносного песка здесь густо, через каждые два-три метра, были проделаны маленькие шахты. Это и были "шурфы", которые вместе с двумя сотнями других заключенных, вот уже почти три недели "бил" и Кушнарев. На первом участке эта работа была уже закончена. На дно шурфов заложены заряды, по целому ящику взрывчатки на каждый, и подведены провода электрозапалов. Теперь оставалось только снова засыпать колодцы камнями и щебнем и повернуть рукоять запальной машинки. Тогда сотни тонн аммонита, взорвавшись одновременно, поднимут на воздух и сбросят на борта полигона сотни тысяч кубометров камня. Дно древней реки с ее золотым песком будет обнажено и почти готово для выема и промывки этого песка. Это и есть взрыв на выброс.
Сегодня на первый участок, находившийся несколько в стороне от других участков прииска направлялись только бригады шурфовщиков. Все прочие в целях безопасности были отправлены, кто на расчистку дорог от снега, кто на заготовку дров. Работа предстояла нетрудная, засыпка шурфов, но сделать ее надо было быстро. На двенадцать часов дня был назначен взрыв.
Холода перевалили уже далеко за сорок, а на восходе солнца и за все пятьдесят, близился колымский декабрь. Мороз зло хватал людей за носы и щеки, особенно тех, у кого они и прежде были обморожены, а таких здесь было большинство. Боль и страх остаться без носа и ушей заставлял даже самых робких из заключенных забывать о правиле держать руки на этапе только за спиной. Но подносить их к лицу значило нарушать это правило. Следовал окрик кого-нибудь из бдительных конвоиров. Теперь придирки к этому виду нарушения строя вышли на первый план даже по сравнению с придирками к плохому равнению в шеренгах и "в затылок" тоже почти невозможными на горных тропах. Получившие замечание брались под особое наблюдение. После второго, а тем более третьего предупреждения на нарушителя одевались наручники. Если же он не подчинялся приказу выйти из строя, то на морозе держали всю колонну. На лица конвоиров были надеты вязаные маски с прорезью только для глаз и особенно спешить им было некуда. Вступивший в препирательство с конвоем в конце концов выходил. Таких кроме заковывания в наручники обычно травили еще собакой и записывали их номера на предмет рапорта начальнику лагеря о заключении непослушного арестанта в кондей. Происходившее каждое утро и каждый вечер происходило и сейчас. Однако сегодня конвоиры только записывали номера нарушителей строя, но почти не останавливали колонны и не производили с ними расправы на месте. Видимо существовал приказ не задерживать шурфовщиков по дороге на работу, чтобы не сорвать отвал в назначенный час. Несвоевременность взрыва, если бы она произошла по вине берлаговского конвоя, могла иметь неприятные последствия даже для его командования, хотя в общем то интересы производства были этому "до лампочки".
Когда замечание по поводу руки в рукавице, поднесенной к многократно обмороженному лицу получил и Кушнарев, он сначала сразу же завел эту руку за спину. Но потом, как будто вспомнив что-то, не только вернул ее на место, но добавил к ней и другую руку. – Же-триста восемнадцатый! – крикнул сержант, начальник конвоя, – Кому сказано? – руки назад! – И так как нарушитель снова не послушался, скомандовал: – Колонна, стой!
– Когда заключенные остановились, последовал приказ жэ-триставосемнадцатому выйти из строя. – Не выйду! – отозвался тот.
– Не выйдешь, подам начлагу рапорт! – А хоть его жене подавай! ответил Кушнарев. Такое вызывающее поведение было вовсе ему не свойственно. Несмотря на свои странные "рывки" обычно он вел себя с начальством и конвойными как робкий, забитый штымп.
Ладно, сволочь фашистская, ты у меня в карцере насидишься! – злобно пригрозил сержант, пряча в карман вынутые было наручники. Это ты – фашист! раздался в ответ голос Кушнарева. Начальник конвоя остолбенел от неожиданности и злости. Он был убежден в своем праве оскорблять заключенных, но ему и в голову не приходило, что сам он и его команда мало чем отличаются от молодчиков из СС. Задерживать этап, однако, было нельзя. Поэтому начальник конвоя только погрозил кулаком строптивому арестанту: – Ну, погоди! – и скомандовал: Шагом марш. – То ты тележного скрипу боишься, вполголоса сказал Кушнареву его сосед по ряду, – то, как дурак, на рожон лезешь... Ты ж сейчас не меньше десяти суток кондея отхватил, а то еще и дело заведут... – Не будет теперь никакого дела! – со странной уверенностью сказал Кушнарев. Сосед пожал плечами: – Смотри, тебе жить...
Жить... Многие замечали, что в последние недели несмотря на тяжелый труд на морозе, недоедание и издевательства конвоя Кушнарев как-то странно приободрился. Он теперь не плелся как прежде, а ходил, меньше горбился, глаза перестали быть тусклыми, а их взгляд приобрел уверенность. Но никто не знал, что произошло это именно потому, что жить более он не собирался. И не только не чувствовал в себе прежних колебаний и страха перед смертью, но и шел на нее сейчас с чувством какого-то просветления, почти радости. Все у него было в деталях продумано заранее, все укладывалось в стройную схему. Так бывает всегда, когда решение верно в принципе.
Изрешеченный шурфами полукилометровый участок полигона представлял собой узкую, шириной немногим более ста метров, и слегка изогнутую полосу на дне неширокого распадка. С одной стороны она почти вплотную примыкала к довольно крутой и высокой сопке, с другой полигон ограничивал продолговатый, невысокий бугор. На гребне этого бугра стоял столб с подвешенным к нему рельсом. С его помощью все в окрестностях полигона будут оповещены, что сейчас произойдет взрыв. По другую сторону бугра, почти рядом со столбом, находилась искусственная пещера, блиндаж взрывников. Туда, к запальной машинке сходились провода ото всех электродетонаторов, заложенных в ящики с аммонитом на дне шурфов.
Работа сегодня шла быстрее обычного, так как конвойные, с нетерпением ожидавшие невиданного ими зрелища большого взрыва ей, против обыкновения, почти не мешали. Последний ряд шурфов был засыпан за целый час до намеченного времени.
Затем по боковому склону сопки, граничащей с полигоном, заключенных отвели на ее гребень. Восхождение по заснеженному склону было нелегким, но зато здесь находилось самое безопасное место в ближайших окрестностях взрыва. В стороны камни отлетают иногда на километр и более, вверх же они поднимаются не выше чем на сотню, другую метров. Хотя общее количество заложенной в шурфы взрывчатки было огромно, она находилась на значительной глубине под землей и была сильно рассосредоточена. Главный взрывник заверил начальника конвоя, что ни один камень на вершину сопки не залетит.
Бывший фронтовик решил, однако, принять дополнительные меры для обезопасения людей и приказал заключенным, когда те немного отдышались после подъема на гору, сложить по ее краю подобие длинного бруствера. Поверхность сопки подверглась сильному выветриванию и огромные камни валялись здесь в изобилии. Когда невысокий бруствер был готов, последовал приказ залечь за ним всем. Приближалось время взрыва. Заключенные в тесный ряд легли на снег посредине ненужного заграждения, солдаты расположились на некотором расстоянии от них по его краям. И все, приподнявшись, принялись смотреть сквозь дыры между камнями на полигон внизу. Отсюда он был виден как на ладони и казался узенькой, саблеобразной полоской серого щебня на фоне сверкающего под солнцем снега. Многие испытывали не только любопытство, но и нервное напряжение сродни страху. Особенно конвойные. Никто из них не видел еще ничего подобного тому, что предстояло увидеть сейчас.
На той стороне полигона к рельсу на столбе подошел человек и часто заколотил по нему молотком. Окончив звонить, он нагнулся и что-то сделал у себя под ногами. Все знали: это он зажег запальный шнур заряда-петарды. Взрыв этой петарды и последнее предупреждение для попрятавшихся людей и сигнал к включению запальной машины. Длина шнура под ногами у взрывника ровно один метр. Значит, гореть он будет почти точно сто секунд. Начальник конвоя вынул из кармана часы и начал следить за их секундной стрелкой. Две, три, пять, десять секунд... До взрыва остается еще целых полторы минуты...
– Стой, стой! – вскрикнул вдруг, почти взвизгнул один из солдат и, вскочив, пустил очередь из своего автомата куда-то, по направлению к полигону. Скосив глаза в сторону заключенных, он увидел как один из них перескочил через импровизированный бруствер и бросился вниз по склону. Это произошло в месте, где только что сложенный заборчик из камней пересекал дорожку, протоптанную вольнонаемными рабочими прииска. Их поселок расположился в распадке по эту сторону сопки под ее более пологим склоном. Чтобы не обходить сильно вытянутую гору идя на работу, работяги помоложе, когда выпало уже достаточно снега проложили путь на полигон прямо через ее вершину. Они поднимались сюда и затем по противоположному изогнутому склону съезжали вниз на "пятой точке". Это сильно сокращало путь, но требовало известной сноровки и смелости. Скорость спуска, особенно после того как снег долго не выпадал и спусковая дорожка до глянца отполировывалась бушлатами и полушубками ребят, была очень большой. Пойти же кубарем, слететь с этой дорожки и треснуться о какой-нибудь выступ склона означало увечье, а то и смерть. Между самыми смелыми из вольняшек здесь устраивались даже соревнования по скорости спуска. Чемпионы этих соревнований скатывались вниз меньше чем за одну минуту, хотя длина склона со стороны прииска составляла здесь что-то около километра. И только эти чемпионы решились на такой спуск сегодня. Нового снега не было уже больше недели и дорожка к полигону на фоне заснеженного склона сопки выделялась пугающе блестящей узкой полоской.
Отчаянный беглец стартовал совсем не так как парни с поселка при спуске с горы. Те усаживались на дорожку, обычно подложив под себя какую-нибудь тряпку чтобы не протирать одежды, и обхватывали руками колени. Этот же бросился на нее плашмя, лицом вниз и сразу же заскользил к полигону. Так прыгают с невысокого берега в воду пловцы, когда хотят поскорее набрать скорость.
В нескольких шагах от бруствера дорожка круто загибалась вниз. Поэтому впопыхах пущенная из-за этого бруствера очередь бдительного конвойного вряд ли задела беглеца. А когда по нему начал строчить уже целый взвод, он был уже далеко от стрелков и быстро удалялся от них со все возрастающей скоростью.
– За мной! – выхватив наган, начальник конвоя перемахнул через бруствер и, утопая в снегу, побежал вниз по склону. Вспомнив, однако, что впереди не неприятельские позиции, а гигантский фугас, приближение к которому не сулит ничего доброго, лихой сержант в нерешительности остановился. Остановились и немногие, последовавшие за ним, солдаты, среди которых был и ефрейтор с собакой. – Спуская Гитлера, Жигаев! – Но тот сделал бы это и без команды, если бы не ожидание взрыва внизу: – Нельзя, зря только собаку загубим! Неопытные юнцы сильно преувеличивали опасность для себя предстоящего взрыва. Кроме того им казалось, что до него остались уже считанные секунды, часы были только у начальника конвоя. Кто-то бросился назад, к гребню с бруствером, за ним остальные. Собаковод хотел последовать за ними, но его сдерживала рвущаяся вниз овчарка. Гитлер уже понял, что кто-то убегает и его следует догнать и рвать зубами. Тащить собаку обратно, ухватившись за поводок, ефрейтору помогал сержант. – Слабо! – не выдержал кто-то из заключенных за бруствером. Злорадный выкрик напомнил конвоирам, что две сотни охраняемых ими опасных врагов заодно с тем, который делает сейчас свой отчаянный рывок. Не зря начальство говорит, что их ни на секунду нельзя спускать с мушки. Некоторые из заключенных приподнялись на своих местах и смотрели уже поверх бруствера. – Лежать, мать вашу...! – заорал сержант, обрадовавшись возможности проявить какую-то деятельность и выстрелил из нагана. Нарушители плюхнулись обратно в снег. Однако ложности положения начальника конвоя это не изменило. Чтобы маскировать перед подчиненными свою растерянность и почти паническое состояние, он снова вынул часы. Наблюдение за ними полезно еще и в том отношении, что позволяет упорядочить мысли. На всю эту кутерьму ушло уже пятьдесят секунд. Значит, для реализации его плана у беглеца остается еще две трети минуты. А план этот заключается, конечно, в том, чтобы до взрыва перебежать начиненный взрывчаткой полигон и укрыться от града камней где-то на той его стороне. Фашист рассчитывает на выигрыш времени, который получит из-за того, что на пару километров оторвется от своей охраны, прежде чем взрывники дадут сигнал отбоя и можно будет начать его розыск. Затея, конечно, сумасшедшая и безнадежная. Если даже беглец не подорвется на полигоне, он все равно будет пойман. Особенно если кинется в какой-нибудь из окрестных распадков. Тогда Гитлер будет колошматить беглого уже через какой-нибудь час. Но и в этом случае для начальника его конвоя неизбежны неприятности. Пусть только на этот час, но особо опасный подконвойный все же уходил из-под охраны. И, прежде всего потому, что она была расположена неправильно, в нарушение конвойного устава. И сооружение бруствера, и вытягивание в одну цепочку охраняемых и охранников – ненужная выдумка, теперь сержант и сам это понимал. Но кто мог подумать, что среди этих охраняемых найдется такой, который не только не побоится взрыва на полигоне, но даже попытается его использовать в своих преступных целях! Для начальства это, конечно, не резон. Провинившегося служаку отправят на какой-нибудь пикет, а вожделенная третья лычка на погонах отдалится на него в неопределенность. Все это, однако, в лучшем случае, если беглец будет пойман до истечения суток. А что если он знает, что после предстоящего взрыва снега кругом провонят аммоналом и следа на нем собаки взять не смогут! Тогда ничто ему не мешает забиться в какую-нибудь дыру здесь же на прииске и не быть обнаруженным до утра, а, может быть, и дольше. В этом случае об исчезновении из-под охраны спецзаключенного будет доложено по телеграфу самому Берии и объявлено ЧП в масштабе всесоюзного МВД. Виновный в упущении опасного заключенного будет отдан под суд Военного трибунала. А тот усмотрит в действиях начальника конвоя и самоуправство и, наверное, преступную трусость. Кто мешал ему, например, попытаться настигнуть преступника, следуя за ним по его же дорожке и тем же способом? Ах, страх перед взрывом! А вот беглец этого взрыва не побоялся!