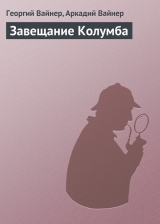
Текст книги "Завещание Колумба"
Автор книги: Георгий Вайнер
Соавторы: Аркадий Вайнер
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
– Да нечего извиняться, – улыбнулся я. – Никаких особых секретов у нас с Вихоть нет. Во всяком случае, у меня точно секретов нет.
– Я-я… я слышала, о чем вы говорили, – заикаясь от волнения, сказала Дуся.
– Ну и что? Ничего страшного.
– Дело в том, что девятнадцатого, суббота это была, я здесь задержалась с приборкой – консультации перед экзаменами, учителя поздно работали, а здесь ребята делали стенгазету, и я задержалась.
– И что? Я не понимаю, почему вы так волнуетесь?
– Так видела я! В субботу, девятнадцатого, вечером Петька Есаков из канцелярии звонил! Я слышала – он набирал номер, я его еще спросила, чего он тут делает, а он говорит
– звонка дожидаюсь, мол, с товарищем договорился. И потом позвонили, мне еще показалось, что чудной звонок, долгий такой. Мне ведь не пришло в голову, что это междугородка. Петька звонил в субботу, это я сама своими глазами видела, – повторяла испуганная Дуся.
Выцветшее бело – голубое небо, как эмалированный таз, висело над городком. Из телефонной будки против Дома связи я набрал номер Нади. Не дожидаясь моих вопросов, она быстро сказала:
– Я позвонила ему… Он скоро приедет…
– Вы не сказали, о чем хотите с ним говорить?
– Конечно, нет. – В голосе ее звенела тревога.
– Да не волнуйтесь вы так, Надя, – постарался я ее успокоить. – Вам бояться его нечего…
– Я и не боюсь его нисколько. Я ведь его давно знаю, этакий странный гибрид – помесь ласковой свиньи с наглой собакой, а не волноваться не могу.
– Я минут через десять буду у вас.
И все равно я опоздал. Когда я притормозил у голубой изгороди вокруг Надиного дома, там уже стоял знакомый «Запорожец», а Петр Есаков разговаривал с Надей у калитки. На ее лице было написано затруднение – пускать ли его во двор или задержать до моего приезда на дальних подступах.
Я подошел и окликнул его:
– Здравствуйте, Есаков…
Он обернулся, удивленно приподнял брови, вежливенько усмехнулся:
– Чего-то не припоминаю я вас.
– Ладно дурака валять, – махнул я на него рукой. – Вы эти гримасы, ужимки и прыжки приберегите до другого раза – может, понадобятся, а меня вы хорошо помните и прекрасно знаете, кто я такой и, что я тут делаю…
– А-а! – обрадовался Есаков – Никак вы тот самый Тихонов, что по всем домам шастает, из всех душу вытрясает – как так случилось, что дедушка наш Коростылев хвост откинул? Такой был бравый боевой дедуган, здоровяк, молодец и спортсмен – ему бы сто лет жить, а он вдруг погиб в расцвете лет от предательского обреза затаившегося кулака! Не ошибся я? Вы и есть оно?
Он откровенно и радостно смеялся надо мной. Совершенно искренне, и не опасался он меня нисколько, потому, что знал наверняка – ничего, кроме жалобных подозрений и слезливых укоров, кроме сердцеразрывающих просьб задуматься о содеянном – мне предъявить ему нечего, а на слова мои ему – тьфу! И растирать не надо, само высохнет.
– Какая же ты пакость, Есаков! – с сердцем сказала Надя. От ярости она сжимала кулаки так, что побелели и резко проступили костяшки, и я испугался, что сейчас она бросится на него и ударит его в сытое красивое лицо этими костяшками
– на разрыв кожи, ломая суставы, не чувствующая боли, а переполненная лишь ненавистью и страданием.
– Надечка, голубка дорогая! – закричал весело Есаков. – Ошибочку давали! Я ведь вам все время объясняю, что вы меня не за того принимаете! Не пакость я и не сладость я, а сложный современный человек. Я, как киплинговский кот, хожу сам по себе!
Я смотрел на него, и меня не покидало ощущение, что я его уже где-то много раз видел. У него было определенно знакомое мне лицо. Наверняка я его видел раньше. Где и когда – вспомнить не мог.
– Да, я это вижу, – согласился я и попросил: – Сделайте одолжение, Есаков, поговорите со мной маленько. Мне ведь не часто доводится говорить со сложными и современными. У меня все больше клиентура простая и отсталая.
– С полным моим удовольствием, – поклонился церемонно Есаков. – Вообще– то я сюда мчался на крыльях любви, можно сказать, по приглашению моей возлюбленной девушки, да видать, о любви ей уже есть с кем поговорить окромя меня.
Надя покраснела, а я успел ее крепко взять за руку и ответить ему.
– Лично я полагаю, что с кем бы Надя ни говорила о любви, это все равно лучше, чем с вами.
– Это почему еще? – удивился Есаков. – Я для всякой молодой женщины очень соблазнительный вариант.
– Чем? – коротко поинтересовался я.
Есаков так рассмеялся от души, так он всплеснул руками, так замотал своей аккуратно подстриженной маленькой сухой головой, что я вспомнил Я вспомнил, где я раньше видел его.
– Всем, – исчерпывающе объяснил он, справившись с приступом смеха. – Я человек веселый, внешне привлекательный, очень здоровый, можно сказать, начитанно – культурный. Я во время передачи по телевизору «Что? Где? Когда?» половину вопросов отгадываю. И материально независимый.
Он сделал широкий кругообразный жест, который охватывал его шикарный синий адидасовский костюм, стоявший понуро за забором «Запорожец», улицу, Надю, склон холма, лежавший внизу город, далекий лес, мир. Все принадлежало ему, кроме меня – меня он как-то ловко выкинул из этого круга, как вещь абсолютно ненужную и весьма противную.
Я уселся на скамейку под окном, не спеша положил ногу на ногу, закурил, а он с интересом следил за мной, дожидаясь моего следующего беспомощного и безвредного для него вопроса.
– Неувязка получается, – сказал я. – Насчет вашего распрекрасного костюма и кроссовок не знаю, может быть, действительно ваши, а на машину-то вы зря показываете. Машина не ваша…
– Это как? – сразу набычился Есаков и снова стал похож на себя в других виденных мною ракурсах.
– А так. Видел я вас тут вчера, понравились вы мне сильно, решил поинтересоваться: что это за шикарный плейбой катается здесь на роскошном лимузине? Спросил в ГАИ, а мне отвечают – зовут его Клавдия Сергеевна Салтыкова. Я им отвечаю – ошибка какая-то! Я отчетливо видел существо мужского пола, не может оно быть Клавдией Сергеевной никакой! А они бестактно упираются – не верьте глазам своим! Это была наша знаменитая Клава! А то, что вам почудилось, – это обман зрения. Ничто. Выдумка.
Есаков гордо поднял голову, готовясь мне ответить по всем нотам и адресам, но за окном в доме зазвонил телефон. Я попросил Надю:
– Надюша, послушайте, пожалуйста… Она взбежала на крыльцо, и Есаков встревоженно проводил ее глазами, ему разговор явно перестал нравиться. И в этом резком повороте головы я опять опознал его – десятки раз я видел такие неотличимые, тщательно причесанные головы на фотографиях во всех парикмахерских, рекомендующих нам идеальный стандарт мужской куаферной красоты.
Аппарат, видимо, стоял где-то рядом с окном – я отчетливо слышал голос Нади.
– Да, да… Он здесь. Разговаривают… Я ему могу дать трубку… Пожалуйста. Сейчас. Надя выглянула в окно, в руке у нее была трубка:
– Станислав Павлович, вас просят к телефону… Есаков облегченно вздохнул и со смешком сказал:
– Умора! Точь-в-точь, как в фильме «Волга-Волга». Игоря Ильинского не хватает.
Я взял трубку, и, прикрывая ладонью микрофон, заметил Есакову.
– Вы не огорчайтесь – я вас сейчас насмешу пуще Игоря Ильинского… Напористый голос Воробьева сказал в трубке:
– Тихонов? Это я, Воробьев… Из Москвы сейчас сообщили. Телефон в Урюпине номер 3-13-26 установлен у гражданки Пелех Нины Николаевны. В ее доме третий месяц проживает сын Александр, двадцати трех лет, без определенных занятий. По внешности соответствует приметам отправителя телеграммы в Мамонове. Пелеха задержали и допрашивают, как появятся новости – сообщат.
– Спасибо. Я очень на это надеялся.
– А, что у вас происходит? – спросил Воробьев.
– Собеседуем. О жизни неспешно толкуем…
– Это хорошо, – одобрил Воробьев. – Вы там побалакайте еще, а я скоро к вам тоже подтяну. Думаю, что не помешаю?
– Ни в коей мере… Жду.
Я отдал Наде трубку и повернулся к Есакову:
– Итак, мы остановились на машине… Его, видно, нервировал мой разговор по телефону, поскольку он изменил тон, ответив мне простецки:
– Да полно уж – ма-аши-ина! – презрительно протянул он.
– «Запор» трескучий! Есть о чем разговаривать! Ему крышу можно консервным ножом вскрыть…
И вид у него был трусливо-независимый – как у киплинговского кота, который ходит сам под себя. Настоящий лирический герой – то робостью, то наглостью томим.
Я положил ему руку на плечо и спросил задушевно:
– Что, не хочет покамест Клава перевести его на твое имя?
Мышцы у него были длинные и жесткие, как у бегового жеребца. И по тому, как он нервно – зло отшвырнул мою руку, я понял, что мыслишка у меня правильная, что где-то здесь «горячо».
– Хочет! Не хочет! Не ваше это дело! Нечего соваться, куда не просят! Дружба у нас с Салтыковой! А может быть, любовь! Не ваше это собачье дело! Может быть, человек она исключительной душевности!.. Женщина она очень хорошая!
– Ну да! Ну да, конечно! – сразу же закивал я. – Конечно, хорошая! Червь не дурак, он в кислое яблоко не полезет…
Я достиг своей цели – Есаков взбесился, утратив охранительную ироническую сдержанность.
– Плевать я на вас хотел! – заорал он. – И на все, что вы там думаете обо мне! Погоди, мы еще встретимся! Камни жрать будешь!..
Под эластичной тканью спортивного костюма убедительно перекатывались тугие бугры и комья мышц, а лицом он больше не походил на величаво– спокойные парикмахерские глянцованные эталоны. На его бесхитростно– приятном лице была начертана яростная готовность совершить любую мерзость за самое скромное вознаграждение. Он резко повернулся и направился к калитке, и я сказал в эту мощную гибко – мускулистую спину:
– Слушайте, Есаков, а ведь Салтыкова не сможет выполнить своего обещания.
Он сделал еще пару шагов с разгона, но остановился и посмотрел на меня:
– Какого обещания?
– Я долго думал, что она могла предложить вам за то, чтобы вы со своим дружком Пелехом организовали эту телеграмму Коростылеву, пока не понял, чего вам не хватает для счастья. «Жигули». Седьмую модель – мечту с мерседесовской облицовкой…
Он молча смотрел мне в лицо, и я знал, что угадал точно. Или очень близко. Я видел, как в его сухой, красиво причесанной голове проигрываются варианты отпора, ловких ответов, хитрого запирательства, поиски самого правильного поступка – от решения свернуть мне шею до лихого бегства на трескучем «Запоре». Но, видимо, «Запорожец» не показался ему подходящим участником гонок с преследованием, потому, что он тускло спросил:
– Вы чего от меня хотите?
И был он уже не издевательски наглый, не упружисто-ловкий, а вялый и злой, как осенний комар.
– Да в общем-то ничего… Хочу в жизни твоей объявить перерыв. Делом тебя пора занять…
За забором раздался короткий рев автомобиля на форсаже, и, подняв летучее облачко белой пыли, притормозила у ворот раскрашенная в канареечные милицейские цвета «Волга». Воробьев распахнул калитку, прошел мимо Есакова, словно не видел, пожал мне руку и уселся рядом на скамейке. Потом поднял голову и тут будто впервые заметил этого корпусного парня, приветливо махнул ему рукой:
– А, Есаков! Здорово! Тебе Пелех привет передает! Соскучился он без тебя, не с кем, говорит, пошутить крепко. Никому, спрашивает, телеграмму послать не надо?
Есаков затравленно оглянулся – у калитки стоял милиционер, водитель с машины Воробьева. Неуверенно заговорил, а глаза у него все время ерзали мимо нас, чтобы не встретиться взглядом:
– Да бросьте вы… Какой там Пелех… Не знаю, чего там кто нашутил…
– Что значит какой Пелех? – удивился Воробьев. – Дружка своего забыл? Вы же с ним несколько лет за одну команду второй лиги в футбол играли! Пока вас обоих с треском не выперли… Не помнишь?
Есаков растерянно помотал головой.
– Ай-яй-яй! – укоризненно сказал Воробьев. – А Пелех помнит: вы деньги взяли, чтобы ваша команда проиграла. Матч «сплавили». Ты мяч как бы по ошибке в свои ворота дал закатить. Не помнишь?
– И помнить мне нечего, – все так же волгло отбивался Есаков. – Кто это доказал?..
– Да уж не знаю, как в спорте доказывают, у них там законы другие, чем у нас, в милиции и прокуратуре. Только выгнали тебя с Пелехом твои же товарищи. А федерация футбольная дисквалифицировала. Как я понимаю, ты после этого у нас здесь в городе и объявился. Не рассмотрел я тебя раньше, а жалко…
– А чего меня было рассматривать? Живу нормально, ничего не нарушаю…
– Не нарушаешь? – прищурился Воробьев. – Я тебе, Есаков, вот, что скажу: как доказывали, что ты гол своим товарищам забил, это я не знаю, а то, что мы докажем тебе покушение на убийство, – это как пить дать!
– Что-о-о? – завизжал Есаков. – Какое убийство? Что бы там Пелех ни болтал, может, он с ума сошел, так в крайнем случае глупость мы сморозили… Ну, нахулиганили – пускай…
– Нет, Есаков, – грустно сказал Воробьев. – Не с ума вы сошли. Вы с совести соскочили. И смотрю я на тебя сейчас, а у самого сердце рвется…
– Никак жалеете? – трусливо ухмыльнулся Есаков.
– Жалею, – кивнул Воробьев. – Потому, что тебя сейчас не арестовывать, не привлекать надо… Боюсь, что совести людской тебе не вернуть… Жалею я, что нет у меня возможности, не дано мне право выпороть тебя плетью, пока бы ты не обделался! Потому, что никаких ты слов не разумеешь, ничем тебя, кроме страха, не проймешь… Сорный ты человечишка…
– Оскорбляйте, бейте! – со слезой тонко крикнул Есаков.
– Пользуйтесь, что вас тут толпа, а у меня ни одного свидетеля! Только и на вас управа найдется! Здесь, в вашем паршивом городке, власть не кончается!
– Вот видишь, и свидетели тебе уже понадобились, – вздохнул Воробьев. – Вы когда с Салтычихой да с Пелехом сговаривались убить Коростылева, вам тогда свидетели не нужны были? Да не трясись ты так, кому ты нужен, руки об тебя марать…
– Павел Лукьяныч! – заблажил Есаков. – Да почему – убить сговаривались? Да никто и в мыслях такого не держал! Кто мог знать, что он от такой глупости с катушек может слететь?
– Ну да, это я тебе верю – что вы этого и в мыслях не держали, вам на него начихать было, главное – из города на пару дней Коростылева выкурить. Вот это и образует не прямой, а эвентуальный умысел на убийство…
– Что-что-что? Какой еще умысел?
– Эвентуальный, – терпеливо повторил Воробьев. – Поскольку ты человек вполне дикий – на жизнь зарабатываешь ногами или еще там чем, – поясню тебе конкретным примером. Жили у нас тут несколько лет тому назад супруги Рычаговы, хорошая парочка – баран да ярочка. Полдома на Заречье имели. Да только он их не устраивал, вот они его крепко застраховали и спалили. Июль, страда, никого поблизости не оказалось, дом и сгорел дотла в два счета, а на другой половине была парализованная старуха Домна Смагина. Рычаговы, как и вы, и в уме не держали старуху убивать, они только страховку получить хотели, а бабушка безногая им до фонаря была – выберется из пожара, так, пожалуйста, на здоровье. Вот и судили их за убийство с эвентуальным умыслом. Понятно?
Я рассматривал Есакова все это время с искренним интересом – это было какое-то физиологическое чудо. Ладно скроенный, крепко связанный корпус не имел внутри никакого костяка, в нем не существовало скелетной основы – внутри синего «Адидаса» переливалась, булькала, вяло плескалась слизистая текучая протоплазма.
– Чего там… – почти шепотом бормотнул Есаков. – Везите, я все скажу… Я ведь ничего и не делал… Я только Клавдии про Пелеха сказал… Она всем командовала… Везите, я скажу, как было…
– Нет, Есаков, – мотнул головой, будто боднулся Воробьев.
– Я тебя не повезу. Я тебя пешком поведу через город. Сам. Пусть тебя все видят. Пусть весь город, все люди знают – убийцы хороших людей не с рогами, не с когтями, и пистолеты им не нужны. Поведу тебя, и пусть все знают – вот так выглядит человек без совести…
Я нажимал кнопку звонка у знакомой мне двери, пухло – набивной, коричневой, богато украшенной желтыми фигурными гвоздями, и сердце тревожно сжималось. Я ведь уже почти все знал, а придумать, с чего начать разговор, что сказать при встрече, не мог. И когда дверь распахнулась и в проеме увидел тоненькую девичью фигурку, я понял, что не прийти сюда вновь я не имел права.
– Здравствуй, Настя, – сказал я. – Моя фамилия Тихонов. Ты, наверное, обо мне слышала…
– Слышала, – кивнула она, но стояла в дверях твердо, не пропуская меня в прихожую, а красивые синие глаза, удлиненные косметической тушью, пытливо ощупывали меня, стараясь сообразить, зачем я сюда пришел.
– Настя, я хотел поговорить с тобой.
Настя дернула своенравным подбородком:
– А я с вами разговаривать не буду…
– Почему ты не хочешь поговорить со мной?
– А меня мама предупредила, что по закону вы не имеете права допрашивать меня. Я несовершеннолетняя; и меня нельзя допрашивать без родителей или учителя…
Я засмеялся:
– Настенька, я не собираюсь тебя допрашивать. – Я тяжело вздохнул и добавил: – А учитель твой умер…
– Все равно мама мне не велела с вами говорить без нее. И ничего вы от меня не узнаете…
– Тогда извини, – пожал я плечами. – Настаивать я не буду, да и узнавать мне нечего. Просто я хотел с тобой поговорить перед тем, как уеду отсюда…
Она задумалась, и я видел, что ее отрепетированный матерью отпор слабеет.
– А о чем?
– О жизни. О смерти Коростылева. О себе. О тебе. О твоем отце. Ничего не изменишь в жизни одним разговором на бегу, но я не могу отсюда уехать, не поговорив с тобой. Это очень важно для меня и очень важно для тебя. Это вообще важно…
– А для кого еще это важно? – спросила Настя.
– Для всех. Для всех, кто живет вокруг нас…
Настя подумала мгновение, и самовольный крутой характер взял верх над запретом матери, она отбросила сомнения, пропустила меня в квартиру и захлопнула дверь.
Мы вошли в гостиную, где недавно я разговаривал с Клавдией, но тогда был вечер, глубокие серые сумерки с багряным закатным подсветом, а сейчас полдневное солнце било в упор, театральным софитом высвечивая Настино лицо. Красивая девочка. Она очень похожа на мать, но черты капризные, нервные, еще не затекли они цементной жесткостью, не было в ее лице отталкивающей твердости принятых на всю жизнь решений.
Из спальни с пронзительным тявканьем выскочила пучеглазая собачонка, подбежала ко мне и хрипло зарычала.
– Пошла вон, – отпихнула ее ногой Настя и уселась на диван против меня. – Так о чем разговор?
– Я тебя, Настя, не могу учить жить. Да и, честно говоря, не собираюсь, но у меня есть долг. Я бы хотел сказать тебе, что твой покойный учитель Николай Иванович Коростылев был пленником детской мечты. Он мечтал всех людей сделать прекрасными и счастливыми. И тебя он мечтал увидеть счастливой, прекрасной и радостной…
Настя сердито усмехнулась:
– Оно и видать! Для этого он меня не хотел допустить до экзаменов?
– Настя, ты уже не ребенок, это только дети думают, что врач нарочно причиняет им боль, когда рвет сгнивший зуб. Николай Иванович мучил тебя, чтобы силой толкнуть на правильный путь. Ты бы поговорила со своим отцом.
– Я к нему не пойду, – решительно помотала головой Настя.
– Он на меня злобится…
Я засмеялся:
– Не злобится он на тебя, он тебя любит и хочет гордиться тобой.
– А о чем мне с ним говорить? Уже поздно…
– Ничего не поздно. Вся история, из-за которой я приехал сюда, заварилась из-за тебя, а каждый человек однажды отвечает за все свои поступки. В споре за твою судьбу была сделана огромная ставка – жизнь очень хорошего человека…
– Да вы поверьте – я вообще об этом ничего не знала! И мама не хотела… Если бы она могла представить…
– Настя, я тебя ни о чем не спрашиваю. Я прошу тебя только думать…
Из ее глаз побежали дробные слезинки, и размытая ими тушь с ресниц оставляла на щеках черные полосы. Устарели выражения, понятия потеряли давний смысл – чистый, как девичья слеза. Грязные тускло – серые потеки.
– Думать! – крикнула Настя. – Хорошо вам говорить! а я совсем ничего не соображаю…
– Я не имею права давать тебе такие советы, но я бы очень хотел, чтобы ты жила с отцом, – сказал я тихо. – Твой отец может научить тебя многому доброму и хорошему. Это сейчас тебе очень понадобится… Я не слишком верю, что ты послушаешь меня, но подумай.
Настя посмотрела на меня с недоверием:
– И вы только за этим пришли сюда?
– А ты думаешь, этого мало? Тебе никогда Коростылев не говорил о завещании Колумба?
– Нет, ничего не говорил…
– Много лет назад он показал мне очень старый пергамент на испанском языке. Из перевода явствовало, что этот пергамент – завещание Христофора Колумба.
– Колумба? – удивилась Настя.
– Да, Христофора Колумба. Когда он возвращался из открытой им Америки, его каравелла «Пинта» попала в страшный шторм и скорее всего должна была погибнуть. И тогда Колумб написал завещание. Он оставлял людям девять реалов собственных сбережений и найденный им Новый Свет, который считал Индией. Пергаментный свиток завернули в тряпку, пропитанную воском, забили в дубовую проспиртованную ромом бочку и бросили в Гольфстрим. Колумб верил, что, если и погибнет вся экспедиция, весть об открытии Нового Света придет к людям. И завещание свое Колумб начал со слов: «Наша жизнь ничего не стоит. Дорого стоят только наши дела для жизни всех остальных людей…»
– А как могло попасть завещание Колумба к Коростылеву? – недоверчиво посмотрела на меня Настя.
– Не знаю. До сих пор не знаю, а может быть, это и не было настоящим завещанием. Может быть, это была подделка, а может быть, сам Николай Иванович написал это завещание. Он часто показывал его ребятам, и мы мечтали о путешествиях и подвигах, и незаметно для себя навсегда поверили, что дорого стоят только наши дела для жизни всех остальных… И когда ты будешь думать о будущей своей жизни – красивой и веселой,
– думай иногда и о том, что отчасти Коростылев умер из-за тебя тоже…
Екатерина Сергеевна Вихоть сидела за столом, закрыв глаза, уперев лоб в ладони, и поза у нее была растерянно – горестная, и сама она не была больше ни грозной, ни громоздкой, ни громогласной. Сейчас она была обычной, удрученной большим несчастьем немолодой женщиной.
– Как жить дальше? Ума не приложу, – сказала она. – Не понимаю. У меня в голове полный мрак.
Мы помолчали, и я без выражения заметил:
– Наверное, и дальше будете учить детей, что ложь – один из самых мерзких человеческих пороков…
Она подняла голову и сказала:
– Я и раньше старалась вам не лгать. Правды я не могла сказать, но и лгать не хотела. Так уж все получилось…
– Да, возможно, – кивнул я. – Но есть еще одна форма лжи
– дезинформация умолчанием. Вы меня сознательно старались ввести в заблуждение…
Она тяжело вздохнула и сказала горько:
– Вы тоже не все поняли в этой истории. Вам показалось, что я не любила и не уважала Коростылева, а это неправда. Это совсем не так. Я его очень уважала, но мне было невыносимо, что бы я ни пыталась сделать, он не принимал. Наверное, мы с ним люди очень разные, а вы сейчас смотрите на меня, будто я помогла его убить. Я ведь об этом и понятия не имела.
– Я мог бы вам поверить, – сказал я, – но именно вы объяснили Салтыковой, что Коростылева надо отвлечь от школьных дел.
– Да, наверное. Наверное, – повторила она с отчаянием.
– Я сказала Клаве, что Коростылев ни на какие уговоры не пойдет и Настю к экзаменам не допустит. Его ведь переубедить в чем-то было невозможно, если он принял твердое решение, но мне и в голову не могло прийти, что они придумают такую жуткую вещь.
– А потом, когда они не только придумали, но и исполнили телеграмму?
– Что же мне было делать? У меня сердце на куски рвалось от стыда и горя. И Клаву ненавидела хоть, а все очень жалко было.
– Жалко было?
– Жалко, – твердо повторила она. – Ведь мы с Клавой выросли вместе. Она не всегда такая лютая была. Она замечательная была…
– Когда же она перестала быть замечательной? – поинтересовался я.
– А – а, это давняя история! Мы ведь дружили со школы. И с Костей, ее мужем, я дружила. Да вот пока не случилась вся эта глупость…
– Какая глупость? – спросил я.
– Настя ведь не Костина дочка, – сказала она тихо.
– То есть как? – не понял я.
– Как – как! Прожили они с Костей несколько лет хорошо, а потом Клава встретила человека, который всю ее жизнь направил по – другому.
– А, что за человек? – спросил я.
– Клава работала официанткой в столовой горсовета, и приехала какая-то центральная комиссия. Командовал в ней Александр Петрович Еременко. Ну, конечно, тогда он еще не был заммииистра, но и в те поры крупный был тоже начальник. Познакомился с Клавой, пошутил, поговорил и сглазился – полюбил. А сам он был еще в расцвете, в силе, во власти. Клавка от него совсем обезумела. Может быть, тот и женился бы на ней, да ведь как в жизни бывает – предложили ему повышение большое, а там семья, дети, положение. Кто же это понял бы его не успели на пост назначить, а он старую жену бросил! Вот так они и – прожили много лет на два дома…
– А Костя Салтыков об этом знал?
– Ну, не сразу, конечно, но узнал. Когда Настя родилась, то Клавдия сказала ему, что это не его дочка и она от него уходит. Запил он поначалу, конечно, горевал долго, а потом пришел к Клавке: давай, мол, начнем все по – новому, девочку все равно любить буду, раз тебя люблю, моя дочка будет, забудем все, начнем жизнь сначала. Простил он Клавдию за этот грех, а она хоть и согласилась, а жить с ним толком больше не могла и не принимала его прощения. Он ей и с добротой своей не нужен был – Клава тогда Еременко любила. Ну, и он ей, конечно, помогал. Устроил в Москву на какие-то специальные курсы. Вернулась сюда – назначили ее замдиректора магазина, потом в горпищеторг, а потом уже она сама пошла – власть, силу, авторитет в городе набирала двумя руками, стала директором Дома торговли, а это у нас фигура самая заметная…
– А сейчас эта связь существует? – спросил я.
– Нет, там все кончилось, но Клавдия за эти годы стала совсем другим человеком. Система торговли – возможности, блаты, услуги, взятки, люди на подхвате всегда, – изломалась она вся.
– А вы с ней говорили раньше об этом?
– Не судья я ей. Мы с – ней прожили целую жизнь вместе. Я ведь у них в доме, когда сиротой осталась, несколько лет прожила. Я в Ярославле в пединституте училась – мне родители Клавдины посылки продуктовые слали, – на стипендию-то в двадцать рублей не проживешь. Не могла я им этого забыть никогда…
– Выходит, вы видели, как Клавдия разрушается на глазах, и ничего не пытались сделать?
– А, что я могла сделать? Она меня и слушать не хотела. Я ее совестить пытаюсь, а она смеется: мол, маленькие подарки поддерживают большие дружбы Клавдия давно считала, что меня по всем статьям перегнала. Наверное, и правда это.
– Скажите, Екатерина Сергеевна, а Настя Салтыкова знает, что Константин ей неродной отец?
– Нет, не знает. Да он ей и есть родной. Всю жизнь был отцом. И когда он в суд подал, требуя, чтобы Настя с ним жила, ведь это он от большой любви к девочке сделал. Не хотел, чтобы она Клавкину судьбу повторила. Сердцем знала я, что прав Костя, а не могла Клаву тогда предать. Отношения уже с Еременко совсем распадались, и это бы ее просто убило. И не могла она Настю отдать и не хотела, потому, что без ума ее любит. От такой любви и пошла она на это ужасное дело. Да и Есаков ее сильно подбивал на всякие пакости. Ведь моложе он ее много, боялась, что это последняя ее связь, на нем женская жизнь ее кончается.
Она подумала, помолчала и сказала:
– Трудно мне судить ее. Она ведь Настю, помимо всего, хотела устроить в Москву в институт, чтобы девочка с Петькой Есаковым поменьше общалась. Душа тревожилась у нее: парень он молодой, здоровый, бессмысленный, а девка-то взрослая уже, не хотела Клавдия, чтобы они вместе толклись в одной квартире. Надеялась, что Настя уедет в Москву, выучится, свою жизнь сложит ловчее и красивее, чем у нее самой, а все вот так страшно обернулось…
Я спросил ее:
– А Коростылев знал, что Костя неродной отец девочке?
Она удивленно взглянула на меня.
– Конечно, знал. Он ведь Костю уважал очень и к Насте хорошо относился, был уверен, что только с Костей она человеком станет… а теперь, что уж говорить, – махнула рукой и горько заплакала.
Около дома Владилен собирал машину в дорогу. Резиновой растяжкой – пауком он пристегивал чемоданы на никелированном крышном багажнике. Дети уже сидели в кабине, а Лариса стояла с сумкой в руках у распахнутой дверцы. Я притормозил у забора, заросшего кустами бирючины и ракитника, вылез из «Жигулей» и сказал Барсу: «Пошли». Пес настороженно взглянул на меня и плотнее забился в угол заднего сиденья, а Владилен нацепил последний крючок, с пыхтением соскочил с подножки, повернулся ко мне:
– Бегать надо по утрам, живот отрастил, дышать трудно…
– Давай вместе бегать, – предложил я. – Бежим цугом, залитые утренним уругвайским солнцем, – захватывающее зрелище.
Он похлопал меня одобрительно по плечу.
– Все – таки ты удивительно настырный человек! Я ведь не верил, что тебе удастся всю эту историю раскрутить.
Я смотрел на него – красивого, сытого, хорошо одетого, доброжелательно – снисходительного – и пытался понять, отчего же меня так распирает сказать ему, что-нибудь неприятное, обидное, горькое. Может быть, я ему завидую? но ведь человеческая зависть – это в первую очередь желание поменяться местами в жизни, а я ни за, что и ничем не хотел бы с ним меняться.
– Твой тесть, Владик, потратил много лет, чтобы научить меня очень трудному делу – терпению думать об одном и том же…
– Да, это заметно, – кивнул Владилен, помолчал и сказал – Вот ты и додумал телеграмму до конца, что теперь будет?
– Дальше? Я думаю, их будут судить и сильно накажут, а потом жизнь будет продолжаться…
– Стас, да не сердись ты так на меня! – усмехнулся Владилен. – Я-то ни в чем не виноват! а расспрашиваю я тебя потому, что мы с Николаем Ивановичем плоховато понимали друг друга. Поэтому я бы хотел лучше понять тебя.
– А, что непонятного?
– Система твоих – целей и мотивов. Ты сделал, с моей точки зрения, почти невозможное и выволок за ухо на свет божий эту мерзавку с ее любовничком. Теперь их накажут. Ну, а, что Коростылеву сейчас до этого? Его больше все равно нет…
– Мы все есть. Это нужно было не Кольянычу, а им всем.
– И я показал рукой на город под холмом. – Они должны знать, что сила справедливости в жизни больше ненависти и злоумия. Твой тесть сказал однажды, что смысл моей работы в борьбе гуманистической строгости закона с бесчеловечием вседозволенности.
Владилен покачал головой:
– Может быть, может быть…
Лариса тронула меня за руку и сказала:
– Стасик, я и не знаю, что теперь с домом станет, с вещами. Нам ведь уезжать надо.
– Да, действительно, – оживился Владилен. – Прямо ума не приложим, что нам с этим барахлишком делать…

