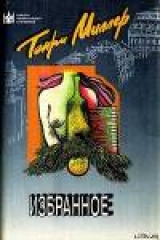
Текст книги "Размышления о писательстве. Моя жизнь и моя эпоха"
Автор книги: Генри Валентайн Миллер
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Говорят, что у нас никогда не будет другого спасителя. Спасителей хватало. Все они указывали человеку выход. Сейчас он должен выбираться сам. В конечном счете, это неплохая идея. Положение человека сейчас трагично – в том смысле, что на чашу весов поставлена его жизнь. Он действует на свой страх и риск. Жить или умереть. Живи по максимуму! Религиозная история общества сводилась к тому, что человек жил на костылях. Сейчас мы отбрасываем костыли прочь. Теперь у нас появилась альтернатива: принять или отринуть Бога. То, о чем мы мечтаем, может быть воплощено не в туманном будущем, а ныне.
Мышление западного человека вращается вокруг категорий добра и зла. Но метафизика индуизма идет дальше: она предлагает единственное решение – возвыситься над конфликтом, избегнув одностороннего отождествления одного – с добром, другого – со злом. Для этого необходимо видение, способное объять то и другое. Это почти богоподобная позиция, поскольку бесстрастно взирать на человека и сущее – привилегия Бога. Завтра вы умрете; всякое может случиться. Бог не тревожится за вас. Говорят, он присматривает за воробьем. Для меня все это – не более, чем пустой набор слов. Насколько нам известно, Бог никогда ни о ком не заботился. Мы сами о себе заботимся и к тому же сами себя изводим. Так что, когда заходит речь о шизофрении, я не считаю, что сейчас – плохие времена и что когда-то в отдаленном будущем наступит нечто противоположное. Я вообще так не думаю. Считаю, что единственный выход для homo sapiens без остатка вымереть. Должен возникнуть иной человек. У него будет иное сознание. Он не будет терзаться нашими проблемами. У него появятся другие. У него не будет того, что я называю низменными, ничтожными проблемами. Самые низменные проблемы, с моей точки зрения, – голод, война, несправедливость. Это проблемы, с которыми следовало покончить мириады лет назад. Любой мыслящий, чувствующий человек выше этого. Для него они уже не проблемы.
Возьмите такого человека, как Кришнамурти: я снова слушал его на днях. Его спросили о продовольствии для Индии и он ответил, что, хотя оно и может облегчить для кого-то существование, данную проблему надо рассматривать гораздо шире. Он – один из немногих в этом мире, кто не сказал: "Понимайте так, понимайте эдак". Он говорит: "Раскройте глаза, расширьте поле видения!" Он не призывает отправиться в ту или иную церковь и поверить в ту или иную идею. Он говорит, что по существу все религии схожи. Они предлагают уход от действительности, а не разрешение вопроса.
Я обратил внимание, что в литературе и философии как никогда раньше усилилось влияние Востока. Когда мне было восемнадцать, я увлекался китайской философией, а позже – индийской, но когда я говорю о Кришнамурти, все это отступает на второй план. Я тоже верю, что философия никогда не принесла никому никакой пользы. Другое дело – метафизика. Есть игры, в которые играет человек. Он обладает интеллектом; следовательно, ему надо найти применение. Это позволяет развлечься, но не более того. Не этим жив человек. Кришнамурти спросили, что он думает о смерти. Он отвечает: "Ну, кто же знает про это?" Как это верно! Никто про это не знает. Зачем об этом беспокоиться? Главное – не бояться. Ученые в известной мере свободны от этого. Ведь они тоже не знают, что их ждет, но не мучаются по этому поводу так, как верующие люди. Они сами ставят перед собой задачи, и задачи эти неизвестных величин. Но они работают беспристрастно. Однако я действительно верю, что человек должен всегда держать перед собой проблему жизни и смерти. Мне не импонирует мысль о том, что задачи непременно должны быть разрешимы. Вам следует принять их близко к сердцу и разрываться на части, пока открыты ваши глаза. Потом эти проблемы исчезают, оседая в сознании.
В каком-то смысле быть писателем сейчас – одно дело и совсем другое – в Париже. Надо заметить, что сегодня писателю проще зарабатывать, его быстрее издают. Но какие издатели и какую литературу? Лучшие произведения не печатают. Для истинно творческих людей это не выход. Они всегда сталкиваются с трудностями, поскольку всегда опережают свое время. Они всегда будут мучиться, пока мы не создадим качественно другое общество, такое, в котором художника признают тем, кем он поистине является: духовным лидером и целителем. Не думаю, что это случится– в ближайшем будущем.
Мне говорят, что эту сторону жизни я узнал, пока бедствовал в Париже. Но я бы так не сказал. В конце концов, человек богемы – отнюдь не неудачник. Я сам выбрал, эту жизнь, а это совсем другое. В таком положении есть нечто романтическое.
Я влюблен в высказывание, которое когда-то вычитал, а сейчас снова встретил в книге Алана Уоттса. Это высказывание Гаутамы Будды и звучат оно так: "Я не получил ни малейшего удовольствия, полностью осознавая происходящее, и по этой самой причине оно зовется полной, окончательной утратой иллюзий".
Ритм моей жизни не изменился. Помню, в Париже просыпался поздно, но мне не кажется, что сейчас я достиг должного уровня. Теперь я полюбил полуночные часы. После окончания телевизионных передач и выступлений актеров-комиков я способен читать самые серьезные книги, требующие полного сосредоточения. Я бываю в ударе в полдень (именно в это время я и родился). Астрологи говорят, что часы вашего рождения – ваше лучшее время, и для меня много лет так оно и было. Помню это, поскольку около полудня работается с полной отдачей, как раз в это время жена звала меня, говоря, что готов завтрак. Было трудно остановиться.
Я и кино-, и книгоман, но и то, и другое действует на меня по-разному. Кино удовлетворяет во мне нечто такое, что неподвластно книгам. Прежде всего, фильм утоляет зрительный голод. Кроме того, думаю, одно из значительных различий между ними заключается в том, что фильм не поддерживает тебя так, как книга. Книга – это истинная пища и субстанция, вы ею живете и она вас питает. А фильм, если он хороший, это нечто такое, что доставляет вам несколько приятных минут, не более того. Безусловно, какие-то определенные эпизоды вы можете вспомнить, но он не вселяется в вас на несколько дней подряд (даже самый лучший фильм), тогда как от книги вы не можете избавиться. Вы вновь и вновь проживаете вместе с ней дни, недели, и она снова и снова возвращается к вам. Хорошая книга оставляет у вас неизгладимое впечатление. Фильмы в такой степени на меня не действуют. Что я заметил в отношении кино, так это то, что в подкорку глубоко врезаются определенные герои. Их можно не раз воскрешать в памяти. Что касается книги, то вы никогда не знаете, как же выглядел тот или иной персонаж. Вам приходится подключать воображение.
Кино – сильнодействующий вид искусства. Лично меня оно удовлетворяет больше, чем театр. Когда-то я был большим поклонником последнего. Сегодня же я вряд ли пойду в театр. Не выношу посредственных спектаклей. Плохой фильм я порой могу высидеть, поскольку в нем развивается какое-то действие, точнее сказать, одновременно происходит много всего. Меня удерживает на месте не сюжет. А цвет и движение. Действие. Еще я узнаю типажи, очень близкие Мне. Одни привлекательны, другие относительны, но достопамятны. Наблюдаешь за живыми людьми и в некотором отношении они становятся реальнее, ближе тебе, чем герои книги. Я могу обратиться мыслью к фильмам, которые видел тридцать или сорок лет назад; и поныне помню конкретных персонажей, могу ясно воскресить их в памяти. Персонажей книг я никогда отчетливо себе не представлял. Они оставляют какое-то пятно в памяти, но всегда расплывчатое и неясное.
Мне кажется, что дни печатных изданий и чтения сочтены, их должно заменить что-то еще. Тем не менее, раз уж я писатель и слова так много значат для меня, трудно себе представить, что придет им на смену. Из книг получаешь нечто такое, чего не дает ни один фильм: ассоциации, вызванные словами, идеи, поддающиеся развитию, и т. д. Всего этого никогда не донесешь в фильме. Кино чересчур реально, чересчур конкретно. За что мы любим книги, так это за детали, фантазию, запутанность – за то, на что кино не хватает времени, фильм обречен быть точным. Мы жаждем своего рода неопределенности, некой непостижимой ауры. Кино имеет дело с чем-то реальным. На все иное оно может намекнуть, но, по моему мнению, не в достаточной степени. Но, замечу, мы вполне обошлись бы без большей части издаваемых ныне книг: они не имеют никакой значимости, ничего нам не дают. Само собой разумеется, то же можно сказать и о большинстве выпускаемых фильмов; и все-таки, если бы пришлось выбирать, я бы посоветовал: поди посмотри приличный фильм вместо того, чтобы тратить время на преобладающую часть современной литературы.
Трагедия кино состоит в том, что оно по большей части производное от литературы. Вот что уродует фильмы. По-моему, мы все же должным образом не развиваем средства и все возможности кинематографа. Мне кажется, он по-прежнему пребывает в зачаточном состоянии. Я бы предложил – отбросьте сюжет. Его не нужно. Соберите актеров, режиссера, оператора и дайте им общую идею того, что должно происходить, а затем начинайте снимать, импровизировать, выстраивать сюжет по ходу дела, если сюжет так уж необходим. Безусловно, без него вполне можно обойтись. Именно к этому я и клоню, фильм действует сильнее, если обретает полную независимость – когда подключается фантазия, мечты, видения и всевозможные бессвязные ассоциации. Не всегда все происходящее должно быть объяснено. Допускаю, что это вопрос спорный, – необходим ли сюжет. Я ратую за минимальную форму и в литературе, и в кинематографии. Но я знаю, что форма – важный элемент в создании фильма. И все больше в этом убеждаюсь.
Совсем недавно я посмотрел «Сатирикон» Феллини. Два раза слушал интервью с ним. Он говорил золотые слова. Это слова мыслящего творца. Среднего, зрителя «Сатирикон» шокирует. Спрашивают: "Что он имеет в виду? Что хочет сказать? О чем идет речь?" Отвечаю: не спрашивайте меня. Знаю лишь, что наслаждался каждой минутою этого фильма. Мне абсолютно безразлично, что все это означает. То, что я видел, изумительно. Все удивительно – почему бы нам просто это не смотреть: серию замечательных, интересных, захватывающих самих по себе кадров? Конечно же, в фильме всего намного больше. В принципе не вредно, чтобы был великолепный сценарий; но, может быть, требовать этого – уж" слишком? Сколько вообще на свете великих рассказов, сколько великих романов, сколько великих полотен? А сколько, на сегодняшний день, великих фильмов?
Сейчас мы находимся на стадии зрелости. Если мы искренни с самими собой, то должны согласиться, что, придя в музей, находим очень немного замечательных картин, которые по-прежнему нас захватывают. Девяносто процентов из них – ерунда, не больше того. Музей, этот благочестивый заповедник великих произведений искусства, возможно, был важен в прошлом, но не сегодня. Я спрашиваю – как эти картины действуют на вас сейчас? Имеете ли вы какое-нибудь отношение к ним сегодня? Это как со старыми фильмами: некоторые' из них в свое время считались классикой. Покажите их сегодня, и вам придется сказать: каким же идиотом я когда-то был, что наслаждался такого рода фильмом?
СОЧИНИТЕЛЬСТВОСначала я сопротивлялся. Утверждал. что собираюсь писать правду, и да поможет мне Бог. И я считал, что пишу правду. Я понял, что не в состоянии это сделать. Никому не дано запечатлеть абсолютную правду.
Я принадлежу к тем писателям, которые могут описывать события лишь спустя много лет. Большая часть их выплеснулась из меня на дистанции в двадцать лет. Может быть, одна-две книги были созданы сразу – такие, как "Тропик Рака" и "Маруссийский колосс". Но чаще всего я возвращаюсь назад. Однажды я рассказал вам, что за ночь, приблизительно за 12–14 часов, в один присест исписал целый блокнот. Он послужил основой всех моих автобиографических книг. Тем не менее, когда я сажусь писать (я говорю сейчас о большой работе), то лишь заглядываю в свои заметки.
Что касается меня, то вопрос главным образом в том, чтобы настроиться или включиться, быть в «форме» и душой, и телом. Когда ты что-то пишешь, слова должны литься на бумагу, как вода из водопроводного крана. Чем дольше я вынашиваю в себе материал, тем сочнее он становится. Это результат внутренней компрессии. С чего начать? Как начать? Большинство людей впадают в прострацию, лишь посмотрев на чистый лист бумаги. Это случается со всеми. Это то же самое, что смотреть на пустой холст. Я нашел «секрет», открытый сюрреалистами; он заключался в том, чтобы просто писать обо всем, что взбредет в голову – иными словами, громоздя чепуху без точек, без всякой последовательности, пока не начнет вырисовываться то, что хочешь сказать. Затем весь подготовительный хлам ликвидируешь. Я пишу до тех пор, пока не устану или не исчерпаю тему. Но никогда не позволяю своему мозгу дойти до точки истощения. Однажды я получил хороший урок. Как-то раз написал 45 страниц и свалился без сил. Так что всегда стараюсь сохранить бодрость. Как с бассейном: его никогда не осушаешь – слишком долго его опять наполнять. Думаю, это сказал Хемингуэй, но он вымучивал свои рукописи и, по-моему, не слишком в этом преуспел. Я, так сказать, избавляюсь от излишка и на следующий день продолжаю работать над тем, что осталось. Вот, в общих чертах, мой метод работы. Безусловно, очень часто я отвлекаюсь от темы. Кажется, собираюсь писать о чем-то конкретном, и вдруг меня задевает за живое другая тема, и я переключаюсь на нее. Но главное – не нарушить плавного течения мысли. Сохранить плавность повествования – это главное, что меня заботит.
Я не разрабатываю тему, как другие писатели. Безусловно, мой подход значительно отличается от того, как пишет киносценарист. Ему приходится много всего придумывать, чтобы получить желаемый результат. Меня не заботит конечный результат. Я пишу – вот что важно. Дело не в том, что я написал, а в самом процессе творчества. Поскольку моя жизнь состоит в том, чтобы писать. Самое главное – процесс. Что я пишу, в конечном счете не столь важно. Часто это глупо, нелепо, противоречиво – последнее вообще меня не волнует. Насладился ли я этим? Выложил ли то, что во мне накопилось? Вот что самое главное. И, конечно, я не знаю, что мною движет. Это действительно очень важно. Разница между мною и другими писателями состоит в том, что они всячески стараются исходить из того, что оформилось у них в голове. Я же всячески стараюсь извлечь на поверхность то, что скопилось ниже, в области солнечного сплетения, в подсознании.
У моего друга, живущего в Париже, Альфреда Перле, есть свой уникальный метод. Он кладет на письменный стол часы и говорит себе: "Я собираюсь писать сорок пять минут". Прошли сорок пять минут, и он перестает писать, даже если остановился на середине предложения. На сегодня он закончил. Я тоже так делал, прекращал писать, остановившись на середине абзаца. Сегодня это раздражало бы многих писателей, они подумали бы: "Как я завтра вернусь обратно к этой мысли?" Меня это никогда не беспокоит, поскольку я считаю, что потерять нить повествования невозможно. Вопрос лишь в том, чтобы восстановить ход мыслей. Возможно, вы и не начнете с данного абзаца, возможно, начнете с чего-то еще, но постепенно, коль скоро эта мысль сидит в вашем подсознании, она в процессе работы заявит о себе. Если не сегодня, значит завтра. А не завтра, так посреди ночи. Меня никогда не волнует, что могу о чем-то забыть. Ничто никогда не забывается, а мысли – в наименьшей степени.
Пруст доказал, что, восстанавливая в памяти какое-то событие, представляешь его себе даже более живо, чем это происходило в действительности. Думаю, это очень точно. Не знаю, почему это так: наверное, дело в том, что, когда пишешь, глубоко чувствуешь, отдаешь себе во всем полный отчет, ты очень насторожен и собран. Твои чувства и ощущения обострены. Конечно, можно слегка и приврать. Все-таки, восстанавливая в памяти какое-то событие, тоже что-то додумываешь. Это ваше дело, и смысл не столько в том, чтобы в точности передать происходящее, сколько в том, чтобы передавать дух, ауру этого события. Я бы сказал, что почти невозможно абсолютно адекватно воспроизвести факт, но, безусловно, можно постараться его реконструировать.
Восстанавливая в памяти свои переживания, я получаю физическое удовольствие – может быть, даже усиливающееся.
Пережитое кажется преувеличенным. Продолжается двойная игра. Сначала совершаешь нечто такое, в чем, так сказать, не отдаешь себе отчета. Не смотришь на себя в зеркало. Потом, описывая, словно смотришься в зеркало и проделываешь все это снова. Склоняешься над самим собой. Когда пишешь, изгибаешься, наблюдая за собой в действии. И знаешь, что в этот момент играешь. Существует разница между сознательным и бессознательным поступком. Я уже говорил, что по-моему, воскрешая в памяти пережитое, испытываешь усиливающееся физическое удовольствие. Это происходит от того, что подлинная ситуация, прожитая тобой, еще не облекалась в слова. Ты не говорил себе: "О, какой удивительный туман, я ощущаю его прикосновение на своей щеке". Ты все это чувствовал, но не выражал словами. Теперь, когда это произносишь, привходит что-то еще.
Твое сегодняшнее ощущение (возможно, связанное с ощущением физическим) окутано словами и их толкованием. Самым что ни на есть определенным. Слова значительно отличаются от других средств выражения. Я испытываю глубокое благоговение к слову, потому что в нем кроется то, что я называю мистикой. Сотворение слова – факт абсолютно непостижимый. Мы ничего не знаем о происхождении разговорной речи. Человек никогда не мог описать, как случилось, что он научился говорить. Вам стараются внушить, что сначала он рычал как зверь, то да се, но я этому не верю. Я считаю, за этим кроется нечто гораздо более непостижимое и мистическое. Таким образом, когда прибегаешь к словам (если подсознательно ты – художник и личность творческая), все время отдаешь себе в этом полный отчет. Кстати, именно слова могут подвести вас к поступкам, подвести к мыслям, а не наоборот.
Ну, разумеется, все это: ощущение и физическое чувство – лежат в сфере изобразительных возможностей, а для оттенков существуют имена прилагательные и наречия. Вот ведь какое странное дело – один писатель будет подробно описывать все, о чем бы он ни рассказывал, и это вас не проймет. Вам это надоедает, вы зеваете. Другой использует, допустим, метафоры. Он не вдается в подробности, не анализирует. Это опять же ведет к магии слов, их употребления. Дело не в самих словах, а в том, как они сопоставляются; в этом-то и заключается писательское мастерство. В том, что означают сопоставленные слова, и как они сопоставляются, что они вызывают, а не что они констатируют. Это целый арсенал изобразительных средств, составляющих писательское искусство.
Испытать чувство удовлетворения писателю еще труднее, чем читателю, и опять же – это дело сугубо индивидуальное. Уверен, что некоторые писатели вымучивают свои произведения. Другие (могу отнести и себя к этой категории) получают удовольствие от самого процесса работы. Я им наслаждаюсь, поскольку слова из меня струятся. Я говорю: "Если бы только имярек увидел меня, увидел бы этот материал выходящим из пишущей машинки, ему бы это понравилось". Но это очень индивидуально. Некоторые пишут строчку за строчкой, останавливаются, стирают текст, вынимают и рвут страницу и т. д. Я работаю иначе. Просто продолжаю писать, и все. Позже, заканчивая работу, я, так сказать, даю ей отстояться в холодильнике. Не заглядываю в нее месяц-два, чем дольше, тем лучше. Потом нахожу удовольствие в другом. Это радует меня ничуть не меньше, чем процесс работы. Это то, что я называю "занести топор над твоим творением". Я имею в виду: взять и искрошить его. Сейчас вы видите его с совсем новой, выгодной позиции. У вас на него другие виды. И вы обретаете удовольствие в изничтожении подчас даже наиболее захватывающих эпизодов, поскольку они вас не устраивают: на ваш критический слух они звучат фальшиво. Они могут быть написаны замечательно, но, как критик, вы воспринимаете их иначе. Я поистине наслаждаюсь этой кровавой стороной игры. Можете этому не поверить, но это правда.
Говорят, Хемингуэй корректировал сделанное на следующий день. А Томас Манн – даже в тот же день. Я слышал, что он писал страницу в день и тогда же вносил правку. Таким образом он наладил серийное производство. Каждый день непременно выдавал страницу. Господи, за 365 дней у тебя выйдет целый талмуд. Да это же непосильный труд! Прямо-таки невозможный! И опять же: кто знает, какой механизм движет каждым человеком, ритмом, в котором он работает? Каждый человек уникален.
Редакторов я предаю анафеме. Ни одному редактору никогда не разрешаю каким-либо образом редактировать свои книги. (Большинство редакторов – неудавшиеся писатели.) Не желаю ни сходиться с ними во мнениях, ни выслушивать их. Не хочу ничего, кроме того, что сказал я, хорошо это или плохо. Не хочу никаких усовершенствований, предпринятых кем-то еще. Например, я понял, что сегодня редактору может понравиться произведение молодого писателя, но он настаивает на внесении изменений. Таким образом, рукопись попадает к переписчику, вносящему правку. Когда книга издана, кого считать ее автором?
Я столкнулся с такой ситуацией только в Америке. В Европе ни один редактор никогда не осмелится взять на себя такое и даже не заикнется на эту тему. Но здесь я то и дело на это натыкаюсь. Самые большие привереды – редакторы журналов. Они спрашивают: "Вам не кажется, что этот абзац лучше поставить туда, а не сюда?". А я отвечаю: "Нет, не кажется. Оставляйте как есть или отдайте назад". Европейских авторов подобными глупостями не беспокоят. Здесь же мы собираемся довести все до совершенства, но уровень совершенства приравнивается к интересам сбыта. Здесь стремятся угодить среднему читателю. Считают, что знают, что нужно людям. При этом не будучи способны отличить злаки от плевелов.
Некоторые читатели и критики утверждают, что между мною как писателем и человеком существует противоречие. Но как человека они ведь никогда меня не знали! Думаю, в своих книгах я охарактеризовал себя довольно подробно. В них – мое чувственное «я», мое философское «я», религиозное «я», эстетическое «я». Мне нравится считать себя разносторонне развитым человеком, и, если кто-то не подмечает этого, беседуя со мною, виной тому, наверное, случай. Когда я вспоминаю дни, проведенные мною в Париже в компании закадычных друзей, там мы разговаривали абсолютно другим языком. Разговаривать я могу по-разному. Могу говорить языком улицы, а, если хотите, могу обернуться медоточивым златоустом. Ко Христову дню, говорят, все сгодится.
Когда я пишу от руки, я более искренен. Это потому, что я порываю со своим «литературным» "я". В момент, когда я сажусь за пишущую машинку, мои пальцы уже задействуют меня, трансформируют, переводят в ранг писателя. Когда я беру ручку, это чуть более обременительно, не столь удобно, не столь естественно, ведь это совсем другое рабочее средство. Приведу пример. Пикассо часто говорил о себе, что, закончив писать картину, если он находил в ней нечто милое и очаровательное, он все замазывал, поскольку это выражало уступчивость его натуры. А он стремился к чему-то такому, кто исходит от его силы воли, с чем он борется, что доставляет не просто удовольствие. Естественно, на машинке я пишу более литературно. Речь становится многословнее и глаже. Тогда как написанное от руки рождается в борьбе, и кажется, что материал исходит из другого источника.
Совсем другое дело – беседа. С некоторыми людьми это поток слов, водопад. С другими я мямлю или помалкиваю. Все зависит от того, насколько люди тебя затрагивают и в каких областях. Зависит от моего настроения, от того, насколько я расслаблен, чувствую ли себя в хорошей форме и расположен ли к разговору, могу ли открыться и высказаться. Это подчинено множеству обстоятельств. Знаю, что до некоторой степени я – актер и что к тому же – все мы очень неискренни (в том смысле, что все мы играем). Мы умеем быть обаятельными (или нам так кажется), дабы произвести впечатление, и все эти обстоятельства влияют на нашу речь. Когда разговариваешь с девушкой, на которую хочешь произвести впечатление, в которую страстно влюблен, или беседуешь с другой девушкой, к которой безразличен, все меняется, не так ли? Так же и с другими людьми. С кем-то хочешь сблизиться, либо хочешь, чтобы он раскрылся, хочешь произвести на него впечатление. Чувствуешь либо зависимость, либо превосходство, бывает по-разному. Когда мы общаемся друг с другом, в действие вступает множество различных факторов.
Беседуя с кем-нибудь лицом к лицу, я стремлюсь говорить серьезно и искренне и вдруг убеждаюсь, что лгу или извращаю мысль, желая удовлетворить сиюминутную прихоть. Мне кажется, я многое понимаю и узнаю о себе. А чего тогда стыдиться? Абсолютно честных людей нет. Все неоднозначно, «обтекаемо», не делится просто на черное и белое.
Если, описывая конкретный случай, я пишу на машинке, а потом о том же пишу кому-то в письме или рассказываю устно, в каждом случае возникают разные версии. Что-то опускаешь или выделяешь выборочно. Сейчас, сидя за пишущей машинкой, я чувствую, что работаю с полной отдачей. В разговоре могу до конца выразить свои чувства, но с большей долей искренности.
Так или иначе, сознательно или бессознательно, когда я пишу письмо от руки, то, вероятно, приближаюсь к разговору. Поскольку действительно хочу открыть свою душу. Но, стремясь к откровенности, естественно, думаешь о том, как что-то выразить, поведать другому, обсудить с собеседником.
Когда пишешь, получается что-то большее, что-то особенное. Здесь также налицо элемент игры. Обычно осознаешь, чем руководствуешься. Рассказывают про писателей, впадающих от работы в экстаз. Разумеется, через это проходил и я. Слова брались из ниоткуда, из пространства. Я был «жертвой» этих слов. Они лились из меня как из шланга, а я просто переносил их на бумагу. Это были восхитительные моменты и одновременно ужасные, поскольку не можешь закрыть кран этого проклятого шланга. Я часто умолял: "Прекратите! Прекратите! Оставьте меня в покое!" Но такое случается не каждый день. И слава Богу, иначе мы бы умерли от истощения.
По поводу актерских качеств, присущих писателю… Он накладывает грим на вещи и одновременно смотрит в мир. Артистизм писателя не нацелен определенно на публику, но он понимает, что она ему внемлет. Совсем как виртуозу-исполнителю на сцене. Я думаю, в этом действительно есть что-то такое… С другой стороны, когда пишешь письмо другу, пытаешься быть искренним. Когда с кем-то беседуешь, здесь всего понемногу. Это снова игра. В процессе разговора могут возникнуть определенные мысли, которые никогда бы меня не посетили, сиди я за машинкой или сочиняй письмо.
Не думаю, что писатель чувствует себя прекрасно, заново переживая в памяти прошлое. Мне кажется, он радуется тому, что может перенести это на бумагу. Именно способность воссоздать прошлое, а не воспоминания о нем делают тебя счастливым. Думаю, воспоминания вторичны. Во всяком случае, для меня. Меня радует процесс достижения. По крайней мере, так мне это видится. Если вы думаете, что, наверное, я хочу, чтобы мне так казалось, то с моей стороны это бессознательное. Не сомневайтесь; и это вызывает мурашки по телу.
Сначала я сопротивлялся. Утверждал, что собираюсь писать правду, и да поможет мне Бог. И считал, что пишу правду. И понял, что не могу. Никто не способен запечатлеть абсолютную правду. Это невозможно. Этому воспрепятствует ваше «я». Мне кажется, правда – это нечто такое, что проскальзывает сквозь пальцы. Ее не можешь ухватить. Может быть, ты зацепишь ее в тишине, когда бываешь наедине с самим собой, моментами, и к тому же очень редкими. Думаю, мы сами себя обманываем. Все мы. Мы никогда не живем лицом к лицу с реальным представлением о себе.
Оглядываясь на самого себя, я не вижу одну личность. Я вижу много личностей. Порой обнаруживаю в себе определенную личность, которая меня удивляет. Мы не всегда представляем собой единую личность; не подвергаемся этой удивительной эволюции по возрастающей. Это зигзагообразный процесс, вверх и вниз – нет такого замечательного образца поступательного движения, которое можно было бы описать.
Когда я пишу о чем-то забавном, то не останавливаюсь и не задумываюсь над тем, что описываю нечто смешное. Я ничего не обдумываю заранее. Просто записываю свои мысли, а если оказывается смешно или грустно, не контролирую этого. Я не задумываюсь над результатами, правда не всегда. А, говоря о результате, порой пускаюсь в описания, могу остановиться и задуматься над эффектом. Могу сказать: "Вставить это, опустить то, выбрать это". Поскольку так больше впечатляет. Но не тогда, когда пишу о своих чувствах. Они выступают такими, каковыми являются. Если это смешно, значит смешно, если – нет, значит – нет. Часто, пока я пишу, я смеюсь. Смеюсь. Во всю мощь.
В молодости один день я ликовал, другой – пребывал в депрессии. Позже, в зрелом возрасте, жил более уравновешенно. Мне всегда нравилось слово «приятие». Для меня это очень емкое слово. Воспринимай жизнь такой, как она есть, наблюдай за ней и принимай ее за то, что она собой представляет, не предавайся иллюзиям и не заблуждайся на ее счет. Когда я избавился от своего «идеализма», осознал, что это – серьезный шаг на пути к выздоровлению. В "Гаргантюа и Пантагрюэле" Рабле на вратах Телемской обители было начертано: "Fay ce que vouldras!" – другими словами: "Делай что хочешь!" Святой Августин выразил это иначе. Он сказал: "Люби Бога и делай, что хочешь". Как это прекрасно! Это означает, что важна душа, Святой Дух, – не нравственность, но этика. Тот, у кого в теле здоровый дух, не совершит дурного поступка. Тогда, поступая как хочется, человек может доставить лишь счастье – себе и своему ближнему.
Думаю, о сексуальных отношениях я писал потому, что они составляли столь значительную часть моей жизни. Секс всегда был в ней чем-то доминирующим. Честно говоря, о своих истинных возлюбленных я почти не писал. О некоторых из них – тех, кого я по-настоящему любил, – вообще не упоминал в своих книгах. Я лишь старался охватить определенный период времени – в семь-восемь лет – с одной женщиной Джун, а в книгах – Моной. А потом – импульсивно маневрировал во всех направлениях. Но главная моя цель заключалась в том, чтобы рассказать о моей жизни с ней.








